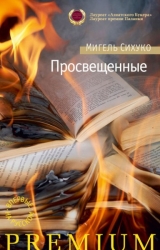
Текст книги "Просвещенные"
Автор книги: Мигель Сихуко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Современная Манила. Та, что когда-то была жемчужиной Востока, теперь – потасканная вдова с горбом и мозолями, с воспоминаниями о чарльстоне, который она пританцовывала под импортные, безупречно сыгранные мелодии Кинга Оливера [56]56
*Джо Оливер (1885–1938), по прозвищу Кинг («Король»), – влиятельнейший джазовый композитор и музыкант, наставник Луи Армстронга.
[Закрыть], с запекшимся макияжем и густо напомаженными тонкими, поджатыми губами. Манила, доверчивая дочь Востока и Запада, красоту которой изуродовали ковровыми бомбардировками берегущие личный состав освободители, поставив ее в один ряд с Хиросимой, Варшавой и Сталинградом. С воздуха она видится спокойной и несуетной. Внизу это город, запутавшийся меж добрых намерений и беспредельно властвующей жаждой жизни. Жизнь продолжается благодаря милосердию Божию, с помощью клейкой ленты и филиппинской народной сноровки. Пятьсот лет назад испанские конкистадоры зашли на своих деревянных кораблях в прекраснейшую гавань на земле, чтобы приступить к своей миссии, которую историки назвали «Религия, золото, пушки». Их крепость осталась на месте, а также их религия и кровь, а вот золото они и все прочие увезли с собой или распределили между своими местными представителями. С тех пор Манила сильно изменилась. Почти не изменилась. Если вы знаете, куда смотреть, то нет на земле города увлекательнее. Шасси касаются земли. Пассажиры аплодируют.
* * *
Случайные зрители с увлечением следят за действом. Скопившиеся на перекрестке машины перекрыли дорогу. Антонио сбавляет скорость. Орлиным взором ищет Доминатора. Вот он! Он бросил свой аквабайк и бежит по лестнице пешеходной эстакады. «Японский бог, – бормочет Антонио, – если он доберется до той стороны, то ускользнет в торговый центр, а в такой толпе мне его уже не найти». Антонио бешено газует, аквабайк проносится через перекресток между автобусами и такси, чьи пассажиры зажмуриваются, не веря своим глазам. Антонио набирает скорость, его черная кожаная куртка полощется за спиной, как плащ. Он резко берет вправо и несется прямо на полузатонувшую машину. Аквабайк, скользнув по капоту и лобовому стеклу, взмывает в воздух. Антонио цепляется покрепче, пригнувшись к рулю. Человек и машина под ним поднимаются все выше и выше, мотор воет пронзительно, как банши [57]57
* Банши– персонаж ирландского фольклора, привидение, жалобным воем предвещающее скорую кончину.
[Закрыть]на раскаленной сковороде. Они приземляются на пешеходной эстакаде, металлическое днище аквабайка искрит, скользя по бетону. Доминатор оборачивается на ходу и, вылупив глаза, смотрит ошарашенно. Байк нагоняет его. Перепрыгнув через руль, Антонио летит подобно дикой газели и хватает Доминатора за ноги. Оба валятся, и Антонио шепчет врагу на ухо: «Я предпочту сверху, если ты не против».Криспин Сальвадор. «Манильский нуар» (с. 57)
* * *
Из хвостовой части самолета, заглушая аплодисменты, кричит женщина. Щелкают ремни безопасности – клик, клик, клик. Пассажиры бросаются к окнам справа по борту. Поверх чьей-то головы мне удается разглядеть темные, налитые дождем тучи над блестящим новым терминалом. Громоздящиеся вдали два столба зловеще-черного дыма как будто поддерживают небеса. У их подножия пылает огонь.
2
Тайны, сны, мифологии, жестокость изгнания, несовершенство языка, осыпающиеся воспоминания, как все начиналось и чем все закончилось, – вот базовые темы литературы.
Криспин Сальвадор. «Автоплагиатор» (с. 188)
* * *
Историю про рассыпавшуюся пачку денег у моего соседа в самолете я присочинил. Да и его откровения про возвращение домой ради детей тоже не совсем достоверные. Но если б я с ним заговорил, уверен, именно так он и сказал бы. В общем, я как бы сказал это за него. Чтоб он стал не просто соседом с неприятными манерами. И то, что я сказал за него, я прочитал в его глазах. Но на самом деле мы так и не разговорились. Когда он попытался завязать беседу, я закрыл глаза и притворился спящим.
Впредь обещаю говорить только правду.
* * *
В последние месяцы жизни Криспина мы сблизились даже больше, чем я мог ожидать. Я дошел до того, что уже и сквернословил в его присутствии. Наша дружба завязалась, когда на семинаре Лиз Харрис [58]58
*Лиз Харрис – американская журналистка и писательница, 25 лет проработавшая в журнале «The New Yorker». В настоящее время – профессор литературы в Колумбийском университете.
[Закрыть]мне задали написать про него биографический очерк. Мы с Криспином встречались в каком-нибудь кафе или ресторане и чопорно сидели, разделенные диктофоном, как натянутой колючей проволокой. Чаще всего это был ресторан «У Тома» на Бродвее, тот, что все время показывают в «Сайнфелде» [59]59
* «Сайнфелд» —популярный телесериал, выходивший на канале Эн-би-си в 1989–1998 гг., в главной роли комик Джерри Сайнфелд (р. 1954).
[Закрыть]. Под конец семестра я сдал работу. У меня было чувство, что Криспину хотелось на нее взглянуть, хотя он не спрашивал, а я так и не предложил. Через пару недель после нашего последнего интервью он наконец пригласил меня в свой кабинет на чашку лапсанг-сушонга с печеньем мадлен. Теперь, не находясь более под пристальным наблюдением, он чувствовав себя заметно свободнее. Я обратил внимание на его неожиданно застенчивую улыбку. Мы сидели, жевали, болтали. Даже не помню о чем. Наверное, о книгах. О литературе. Грудь его клетчатого джемпера была вся в крошках. Когда я встретил его на следующий день, крошки никуда не делись.
То ли от безысходности, а может, от искренней симпатии, но мы стали чаще встречаться. Сперва мне было неловко, как бывает, когда впервые сталкиваешься с настолько очевидно одиноким человеком. На шумном и суетном университетском кампусе Криспин был константой примелькавшейся всем не меньше бронзовой скульптуры Альма-Матер. Каждое утро он взбегал, а после обеда спускался по лестнице в библиотеку Батлера из своего кабинета в Философи-Холле – с печальным выражением лица, одетый как фланер со средствами. Мне он напоминал вырядившегося ковбоем токийца, – впрочем, в коричневом твидовом костюме и видавшей виды красной фетровой шляпе с изумрудно-зеленым пером за тесьмой он выглядел почти стильно. Этот костюм с легкими вариациями был неизменным вне зависимости от погоды; под мышкой всегда был зажат оранжевый блокнот. Обычно он шел, уставившись в раскрытую книгу; с тревогой, замешанной на постыдном предвкушении, я наблюдал, не споткнется ли он и не получит ли по голове футбольным мячом или фрисби.
Однако во время наших интервью он говорил ясно и по делу. Он произносил целые речи о первенстве литературы как «искусства, летописи человеческой природы»; или же о «произвольном разделении» на художественную и документальную прозу; о недугах нашей национальной литературы; о проблемах литературного бриколажа как повествовательной структуры. Я многому научился у Криспина, но многое из его лекций тут же вылетало у меня из головы. Тем не менее он был одним из тех учителей, которые, постепенно вводя вас в контекст, помогают открыть множество сфер жизни, в которых вы до сих пор были настолько несведущи, что не могли составить даже неверного представления.
По его мнению, народное, низовое имело для литературы не меньшее значение, чем академично-отвлеченное, и его внезапные, яркие, как языки пламени, порывы, обрамленные точным словом, ярким образом, оригинальной мыслью, делали беседу с ним совершенно непредсказуемой. Слушая его, вы забывали о повседневности и попадали в его мир, ограниченный лишь закоулками сознания, пределами Вселенной и протяжением веков. Праздная беседа могла, например, от фракталов, совершив элегантный маневр вокруг сложносочиненной этимологии филиппинского сленга, перейти на подлинные откровения о мучительном неверии в собственные силы, запечатленном в дневниках Стейнбека, и далее к весьма субъективным, но обширным описаниям Геродота, к сложным задачам стискивания реальности «кружевным корсетом языка», к слабым местам в созданной Руссо концепции благородного дикаря; а потом к идеологической инверсии Хосе Рисаля, превратившего уничижительное испанское слово «индеец» в гордое прозвание «Бравые индейцы» [60]60
*Indios Bravos – литературно-политическое объединение первых национальных филиппинских писателей, организованное в конце XIX в. Хосе Рисалем.
[Закрыть], после чего следовал краткий сравнительный анализ этой коренной перемены в значении и добровольного и полного присвоения афроамериканцами слова «ниггер»; далее Криспин переходил к австралийским аборигенам и их точечным рисункам как «пределу современного искусства», прежде чем буквально покраснеть от возбуждения, рассказывая о геологических находках, дошедших до наших дней от доисторической Неведомой Южной Земли [61]61
*Terra Australis Incognita (лат.) – земля вокруг Южного полюса, изображавшаяся на большинстве карт с древности до XVIII в.
[Закрыть]; он рассуждал о тамошних ехиднах, утконосах и прочих редких и эндемичных видах, а затем и о креативных импульсах животного мира в целом, на сегодня сводящихся к феномену рисующих слонов и кошечек; после чего перескакивал на апофеоз чувственности в пластичных мраморах Бернини [62]62
* Бернини, Джованни Лоренцо (1598–1680) – крупнейший итальянский скульптор эпохи барокко.
[Закрыть]и впечатление, которое производят грубые пальцы насильника Плутона, впивающиеся в податливую каменную плоть Персефоны, постепенное, а после потрясающе стремительное превращение Дафны в лавровый куст, когда вы обходите ее рвущуюся прочь от Аполлона фигуру; в итоге Криспин изливал свое восхищение работами в стиле «летрас и фигурас» Хосе Онорато Лосано [63]63
*Letras у Figuras (исп.) – распространенный на Филиппинах вид изобразительного искусства, где буквы латинского алфавита предстают в виде людей в различных позах, животных, предметов, растений и т. п. Хосе Онорато Лосано (1821–1885) – видный представитель этого направления, а также пейзажист.
[Закрыть], в которых, по его словам, неповторимо сочетались пейзажи, натюрморты и жанровые сценки в угоду суетному свету Манилы девятнадцатого столетия. И все это за тарелочкой начос с перцем в ожидании гамбургеров.
Преодолев первоначальную инерцию аудитории, монологи Криспина всегда набирали обороты, будь то частный разговор или публичное выступление. На его лекции по сравнительному литературному анализу, как за волшебной дудочкой, валили толпы студентов, и о царившем там сенсационном духе, резких поворотах и умопомрачительных параллелях ходили легенды. И все же закостенелая эгоцентричность этого глубоко одинокого человека поражала меня. Во время наших первых неформальных разговоров он обдумывал каждое слово. Лишь после нескольких встреч перископ его внимания стал выглядывать наружу. Нельзя сказать, чтобы тот был направлен на меня. Вовсе нет. Он вглядывался в даль, в мир, который был ему куда ближе, в удивительные подробности великих космологий. Бывало, он вскакивал, чтобы перетасовать кипы книг, скидывая верхние тома на пол, только чтобы пролистать фолиант до нужного абзаца, который он все равно бы процитировал наизусть, тихо, прикрыв глаза, смакуя каждое слово. И тогда мне приходилось напрягать все внимание, чтобы выслушать повествования Сида Хамета Бененгели, Хулиана Каракса, Джона Шейда и Рандольфа Генри Падуба [64]64
*Сид Хамет Бененгели – вымышленный сочинитель, которому Сервантес приписал авторство «Дон Кихота» (т. I – 1605, т. II – 1615); нелишне отметить, что второй том Сервантес написал после того, как в 1614 г. было опубликовано «пиратское» продолжение его романа, под псевдонимом Авельянеда (неслучайное имя в контексте книги Сихуко). Хулиан Каракс – автор книги «Тень ветра» в романе Карлоса Руиса Сафона «Тень ветра» (2001). Джон Шейд – писатель и поэт в романе Владимира Набокова «Бледный огонь» (1962), автор одноименной поэмы. Рандольф Генри Падуб – вымышленный викторианский поэт в романе Антонии Байетт «Обладать» (1990).
[Закрыть]. После чего он умолкал, впитывая прочитанное. Он ни разу не спросил меня, как прошли выходные. Он очень редко интересовался моим мнением, а если интересовался, то лишь затем, чтобы предложить более глубокое суждение.
Когда монолог затягивался, я временами отключался, завороженный его жестикуляцией. На обеих руках у него были весьма странные шрамы. По центру внутренней и внешней стороны кисти виднелись гладкие бляшки размером с мелкую монету. Это было похоже на стигматы. Таинственные истории его жизни пробуждали во мне жгучий интерес.
Когда беседа истощалась, мы молча сидели, уставившись на большую репродукцию над его столом – мрачный, аллегорический шедевр Хуана Луны «Сполиарий» [65]65
*Хуан Луна (1857–1899) – крупнейший филиппинский художник, участник антиколониальной революции, брат генерала Антонио Луны; картину «Сполиарий» написал в 1884 г. (сполиарий – место в амфитеатре, куда выносили убитых гладиаторов).
[Закрыть]: мертвых римских гладиаторов тащат по полу подвальной залы, и на лицах зрителей читаются горе, страх, равнодушие, неспособность оторвать глаз от жуткого зрелища. В такие моменты я изучал Криспина, украдкой поглядывая на ссутулившегося, утомленного человека в скрипучем кресле крошечного кабинета, в котором пахло козлом, вспрыснутым дорогим лосьоном после бритья, и размышлял о дороге, приведшей его сюда.
* * *
Вечером Эрнинг Исип, студент компьютерного колледжа АМА, по-прежнему болтается с друзьями из университетов Атенео и Ла Саль. Они выпивают и смотрят матч Шел – Хинебра в пивном саду возле Падре Бургос, района «красных фонарей» в Макати. Студент Атенео делится с ними мечтой – он хочет стать верховным судьей. Студент Ла Саль признается, что хотел бы когда-нибудь встать у руля империи грузоперевозок. Эрнинг Исип рассказывает, что так и не смог заплатить за последний семестр. Мимо проходит страшнющая девица в джинсовой микромини-юбке и похожем на шлейку топике, обнажающем двойные складки живота, с длинными прямыми волосами до поясницы и на шатких каблуках из плексигласа, которые так любят исполнительницы экзотических танцев.
Студент Атенео говорит:
– Боже мой! Настоящая блудница вавилонская!
Студент Ла Саль говорит:
– Сытная шлюшка!
Эрнинг Исип уставился на нее и вдруг как закричит:
– Так это ж моя однокурсница с основ HTML!
* * *
– Почти год прошел, – сказала Буля. – Не пора ли помириться?
– Прошло всего восемь месяцев.
– Может, приедешь домой на Рождество?
– Как дед? – спросил я.
Связь была плохая, сигнал доходил с небольшой задержкой.
– Он по-прежнему твой дедушка, – ответила бабушка; я расслышал автомобильный гудок и щелканье поворотника. – Не сюда, – сказала она водителю, – заезжайте с Тамаринд-стрит.
– В Нью-Йорке такая красота, ба. Пятая авеню вся подсвечена, а ведь еще даже не декабрь. Жаль, что тебя здесь нет. Как там губернаторство?
– Алло, ты меня слышишь? Связь прерывается.
– Бабуля? Алло? Я говорю, как губернаторство?
– На самом деле здорово. Тебе б понравилось. А дед бы как был счастлив.
– Бабушка…
– И отец смотрел бы на тебя с небес и гордился, потому что ты стал бы государственным деятелем, как и он.
– Бабушка, прошу тебя, не надо…
– И знаешь, я получаю такую отдачу от работы. Я все время занята. И это хорошо. Особенно сейчас, когда всем от меня что-то надо.
– Слышал тут про последний скандал с президентом.
– Какой из?
– Ну, что он связан со взрывами.
– Это пройдет.
– Так есть и другие?
– Да все одно и то же. Все время пытаются объявить ему импичмент. Постоянно подозревают, что он вот-вот объявит военное положение. Но этот их уличный парламент – типичная власть толпы.
– Так это неправда?
– Что – неправда?
– Что он вот-вот объявит…
– А что – правда?
– Ба, неужели вы ничего не можете поделать? Неужели в правительстве нет людей, которые… Ну не знаю. Таких, как ты.
– Ну, дорогой мой, а что тут поделаешь? Так уж все устроено. Ты действительно думаешь, что можешь изменить мир?
– Я могу поучаствовать.
– И что бы ты изменил?
– Все.
– А как все поменяется?
– Не знаю. Просто станет лучше.
– Не думаю, что нам под силу что-то изменить. Это так сложно.
– Ба, пожалуйста, не говори так.
– Ладно. Я все равно уже домой приехала. Дед дома. Нужно прощаться, пока он не увидел, что я говорю по телефону.
– Ты же не обязана сообщать ему, что это я.
– Все равно пора прощаться. Который час в Нью-Йорке? Тебе пора спать.
– Пока. ба.
– Я люблю тебя, Мигелито.
– Я тебя тоже, ба.
* * *
Но Доминатор здоров как бык. Мощными руками он отрывает от себя Антонио и взмахом кисти раскрывает нож-бабочку. «Сейчас я проткну тебе брюхо и открою там кран», – осклабился он. Антонио потянулся за своим верным пистолетом, но передумал. Так будет нечестно. «Ну и где твоя большая пушка?» – ухмыляется Доминатор. «В кармане, – улыбается Антонио, – но ради таких грязных псов, как ты, я ее не вытаскиваю». Он принимает кунфуистскую стойку и жестом подзывает Доминатора. Противник приближается, свирепо рассекая лезвием воздух.
Криспин Сальвадор. «Манильский нуар» (с. 57)
* * *
Ночь я провожу в дешевом пансионе возле аэропорта. Мой рейс на Баколод отправляется рано утром.
Дальше ехать я не отважился – слишком плотное было движение. Я сидел на заднем сиденье такси, ползущего вдоль кордона из оранжевых конусов по широкому хайвею прочь от стены огня, что пожирал кварталы трущоб. Черные тени людей и их громоздких машин двигались, мерцая на фоне корчащихся желтых, красных, оранжевых языков; местами вспыхивал искрящийся синий и вихрился, изменяя цветовой баланс. Мы с таксистом прилипли к нагретому стеклу, не в силах оторваться. «Еще два взрыва, – тараторил по-тагальски ведущий „Бомбо-радио“, – прозвучали в магазине беспошлинной торговли возле Международного аэропорта Ниной Акино, и пожар перекинулся на близлежащие жилые дома. Давайте же надеяться, давайте молиться, чтобы дожди помогли нашим отважным пожарным в их геройской задаче».
Когда Криспин заводил разговор о своем героическом изгнании, меня одолевали сомнения. Что же мешает ему вернуться в Манилу? Однажды я даже задал ему этот вопрос, на что он сказал, что за границей жить труднее. Быть писателем мирового уровня – задача не для слабаков. Голос его тем не менее звучал не слишком убедительно. Будто оправдываясь. Может, он просто слишком размяк для города, где совсем другой баланс сил? Где нужда размывает границу между добром и злом и постоянная перспектива оказаться жертвой уличного насилия струйкой пота стекает по спине. И все совсем не похоже на западный мир, где хаос упорядочен множеством фильмов и телепередач, а дух времени объясняется публицистами и участниками теледискуссий и бесконечным количеством статей, аккуратно перелинкованных друг с другом в Сети. Может, Криспин слишком крепко полюбил мифологию, как Эмма Бовари любила романы? Этакий отшельник с кредиткой и телефоном, он сидел дома, махнув рукой на все, что происходило за дверью.
– Вновь конный хлещет пешего, да конный уже не тот [66]66
*Цитата из стихотворения У. Б. Йейтса «Великая дата» (1938):
Переворот свершился! Ура! Греми, салют!Стегает конный пешего, и тот и этот плут.Ура, опять победа! опять переворот!Вновь конный хлещет пешего, да конный уж не тот. (Перевод Гр. Кружкова)
[Закрыть], – говорил он. – Диванные партизаны ушли в киберджунгли. В этом мире все настолько по-голливудски однобоко; неудивительно, что он вертится.
Я был другого мнения. Возможно, потому, что по возрасту я принадлежал к пост-постколониальному поколению и знал, что хоть мир и стоит набекрень, но он для всех один. Когда бабочка взмахнула крыльями в Чили, в Чаде погиб первый ребенок-солдат, а на «Амазоне» купили книжку, которая была доставлена через два дня, чтобы рассказать нам о насущных проблемах за пределами нашей повседневности. И конечно, переехав из Манилы в Нью-Йорк, я обнаружил, что, как это ни парадоксально, в новой глобальной деревне мне и моим друзьям стало еще проще, не отвлекаясь, продолжать заниматься своими делами: мы уходили в себя, слушая произведенные в Китае айподы; внимали призывам оживить экономику регулярными покупками; участвовали в кампаниях, только если не приходилось пропускать слишком много занятий, потому что конкуренция на рынке труда или кредиты на образование всегда стояли над душой. И все же мы занимали непримиримые позиции по живо обсуждавшимся в блогах вопросам, пусть и находясь в безопасности своих теплых квартир с заклеенными липкой лентой окнами. Мои друзья и нам подобные регулярно посматривали «Фокс-ньюз», постигая вражеское лицемерие [67]67
*Fox News – американский новостной телеканал правоконсервативной ориентации. Его программы производятся телекомпанией Fox Broadcasting Company, принадлежащей концерну News Corporation медиамагната Руперта Мердока.
[Закрыть], смакуя чувство собственного превосходства, после чего переключали на другие каналы в поисках наиболее удовлетворявшей нас субъективности. Да, мы покинули Филиппины, и заселили Манхэттен, и уже предъявляли права на его пустынные ночные улицы, страдая от ничем не подкрепленного самомнения, потому что ведь придет день и мы такое устроим. В барах Алфавитного города [68]68
* Алфавитный город– название нескольких кварталов в нью-йоркском Нижнем Манхэттене (Ист-Виллидж, Нижний Ист-Сайд). Название происходит от авеню А, В, С и D, вдоль которых располагается район.
[Закрыть]среди звенящих джук-боксов и сигаретного дыма, посасывая пивко, мы укладывали друг друга на лопатки в дебатах о судьбах родины и нравах человека, пребывая в стране, которая не торопилась выдавать нам грин-карты. А потом, конечно, тащились домой, опустошенные, как горшки, – необожженные, не покрытые глазурью, да уже и треснувшие, сами того не осознавая. Но мы, по крайней мере, пытались.
Примерно в то же время западные государства занесли Филиппины в список стран повышенной террористической опасности, на что многие филиппинцы лишь горько усмехнулись. Душить жизненно важную для бедной страны индустрию туризма из-за того, что горстка мусульманских повстанцев играет в прятки в джунглях на юге Холо, – то же самое, что предостерегать туристов от посещения Диснейленда из-за алабамского ку-клукс-клана. Криспин, конечно, высмеивал подобные предостережения и, как человек видавший и не такие виды, просто не воспринимал их всерьез. Но он также пропускал мимо ушей вездесущие слухи о государственном перевороте и убийствах с молчаливого согласия властей – слухи, которые у нас, таких информированных и умеющих читать между строк, вызывали самое живое беспокойство.
И я прощал ему все. Пусть и считал, что, живя за границей, он избегает реальности. Возможно, я оправдывал его как человека, даже слишком многим противостоявшего; и теперь пришла пора взяться за дело таким, как я. А может, то было восхищение личностью, перешедшей на ступень выше. Говоря о своих произведениях, Криспин умело орудовал богатой биографией и знанием жизни, заостренным постоянными изысканиями, и защищал свое непоколебимое убеждение, что просто держать руку на пульсе – проявление ограниченности, даже наивности: в утреннюю газету вечером заворачивают фиш-энд-чипс, в то время как на полках по-прежнему стоят такие произведения, как «Сто лет одиночества» или, что уж там, «Автоплагиатор». В мужчине с грубыми руками ремесленник узнается, только когда он приступает к делу.
Да, я отдавал ему должное. Понятно, что «Пылающие мосты» должны были произвести резонанс, на который не способна и тысяча таких молодых радикалов, как я. Но когда бомбы стали рваться в городах, когда наши родственники стали бояться ходить в торговые центры, безразличие Криспина уже начало вызывать досаду. Терпение старших казалось куда менее уместным, чем наше нетерпение. Почему они такие покорные, когда времени что-то сделать у них куда меньше, чем у нас? Я все надеялся, что однажды утром Криспин посмотрит в зеркало и скажет: старый ты мудак. И это сподвигнет его на последний бой. Но когда я напрямик спросил его о беззубости изгнания, он, помолчав, ответил: «А что тут поделаешь?»
Запах пожара даже приятен. Он поступает в мой номер в пансионе через воздуховод тарахтящего кондиционера. И доставляет мне удовольствие помимо моей воли. Аромат сожженных домов, притушенных фреоном, похож на запахи зимнего Ванкувера с шоколадными батончиками и историями у бивачного костра в детском лагере. Мне все никак не заснуть. По дальней стене ползут два таракана, помахивая друг другу усиками; внизу какой-то пьяный горланит в караоке песни Виты Новы о любви совсем не героическим тенором. Сидя в кровати, я читаю свои записи и готовлю вопросы для завтрашней встречи с сестрой Криспина Леной. Потом, когда заведения уже закрылись, тишину разрывают сирены, по-прежнему воющие вдалеке. Гром затмевает звуковую картину; ветер хлещет по зашторенным окнам дождем с такой силой, что кажется, будто революция уже началась.
Засыпаю.
Я на каком-то отдаленном острове. Рядом пылится крошечный дом. Я вижу, как пыль собирается на мебели. На красной фетровой шляпе. На граммофоне. На фотографии в рамке, где девочка и ее родители запечатлены в день первого причастия. Я на пляже, прислушиваюсь, не идет ли лодка. Спокойное море дышит сипло. Почему я так и не научился плавать в такой красоте? Через окно пробивается стук пишущей машинки. Я бегу к дому и вижу ундервуд с заправленным листом бумаги. Я снова обхожу дом, все больше отчаиваясь с каждым последующим шагом. Мне известно, что прошло четыре дня. Я то задремлю, то снова просыпаюсь, отчаянно пытаясь сохранить хоть подобие нормальности. Становится трудно дышать, как будто воздух медленно испаряется. Пошатываясь, я подхожу к пластмассовой канистре на кухне и тщетно пытаюсь высосать влагу из приделанного к ней крана. Я бью по канистре, которая отзывается звуком, похожим на колокол под водой. Я снова ложусь, но скоро вскакиваю, потому что меня тошнит. Снова ложусь, снова вскакиваю – теперь у меня понос. Еле добираюсь до кровати, сердце колотится, в голове укоренилась боль. Я почти чувствую, как болят почки. Странные вещи иногда лезут в голову. Каким-то образом я понимаю, что в моей крови повышается уровень кислотности. Гиповолемический шок. Этот термин я слышал в сериале про докторов. Кровь исторгает влагу из моих тканей, из мозга. Но, даже зная, что происходит, я не могу это остановить. Простыни ледяные. В голове видения. Я поднимаю маленькую девочку на вытянутых руках и слегка потряхиваю, чтоб она захохотала от радости. Я высовываюсь из окна машины и смотрю, как расцветают и опадают бутоны фейерверков. Я стою в очереди в музей и покачиваю головой, слушая бессмысленную болтовню туристов. Я помогаю Мэдисон пришивать именные бирки на одежду ее дедушки накануне его отъезда в дом престарелых. Я прижимаю телефонную трубку к щеке, слушаю гудки и рассматриваю знакомый номер на старом клочке бумаги. Когда над островом встает солнце, у меня такое ощущение, что горло закупорилось. С ужасом, похожим на тот, что охватывает ребенка, оставленного в супермаркете, я понимаю, что скоро умру.
Я просыпаюсь. Приходит осознание, что я пережил ночь смерти и что скоро рассвет, вот-вот запоют петухи. Даже не верится, что сон мне запомнился. Лежа в кровати, я стараюсь зафиксировать его в памяти, пока он еще не улетучился. Это, наверное, от джетлага. Приходит утро, сначала неспешно, потом шумно. Тараканы убежали. И правильно.
* * *
Мальчик всегда с готовностью представлял себя персонажем, чьи благие намерения и уверенность в себе заводят его куда-то не туда, что вызывает тем больший к нему интерес.
Итак, настоящим он объявляется нашим протагонистом. Драматическая разработка его линии начинается с повторяющихся образов прошлого – его молчаливого беспокойства в пустынных станциях подземки, в аудитории, полной студентов, в утренней очереди в МоМА [69]69
* МоМА(Museum of Modern Art) – нью-йоркский Музей современного искусства.
[Закрыть]. По лицу видно, что он тщится разогнать черные мысли, которые язвят и уничижают его. Он оправдывает свое тщеславие принадлежностью к сегодняшним «илюстрадо» [70]70
* «Илюстрадо» —Ilustrado (ucn.) – образованный, просвещенный; так в XIX в. называли филиппинцев, получивших европейское образование.
[Закрыть], впрочем в наши дни к ним может причислять себя каждый эмигрант. Само понятие появилось в конце девятнадцатого века благодаря первым просвещенным филиппинцам. Юные бодисатвы вернулись из Европы, чтобы посвятить свои надушенные тела, ласкающую слух риторику, перегруженные латинизмами идеи и безупречное образование наивысшей цели. Революции. Многие из них погибли от пуль, другие – в вечном изгнании, прочие нашли свою нишу, смягчились и забылись, научившись с удивительной легкостью соглашаться на вынужденные компромиссы. И в чем же разница между ними, нашим героем и прочими перипатетиками, кроме той, что ему еще предстояло вернуться? Когда-нибудь он встряхнет свои запылившиеся намерения и свернутые планы, чтоб они реяли рядом с нашим государственным флагом. А пока он ждет, как ждали они, пестует свою целостность, как пестовали они, предвкушает возвращение, когда родные берега наконец призовут его.
И вот он вернулся, наш патриот, он же протагонист, и сидит в кровати, недоумевая, а где фанфары?
* * *
Когда Кристо нет дома и он не работает за своим специальным походным столом, который сам спроектировал и смастерил из пружин и подушек, чтобы можно было писать в любом виде транспорта, он сидит на берегу, вглядываясь в океан, и отгоняет мысли об убитом отце, израненной матери и изнасилованной сестре. «Говорят, что этот океан приносит мир достойным, – думает он, с трудом осмеливаясь улыбнуться. – На него мои надежды».
Если напрячь зрение, то можно разглядеть на горизонте землю. Но стоит моргнуть – и ее уже не видно. Она всегда чуть дальше, чем ему хотелось бы.
Криспин Сальвадор. «Просвещенный» (с. 92)
* * *
Я, по-видимому, был его единственным другом. Однажды поздно ночью, через несколько часов после нашей с Мэдисон ссоры, в финале которой она ушла из дома, театрально хлопнув дверью, мне позвонила Лена. Подняв трубку, я ожидал услышать всхлипывания своей подруги, поэтому ответил ледяным тоном, что, похоже, напугало Лену. Она все время повторялась. В ее произношение выпускницы британской школы подмешивался тяжеловесный акцент – неминуемый, если всю жизнь провести в Баколоде. Она просила меня просмотреть вещи Криспина, запаковать и отослать самое существенное, забрать все, что мне интересно, а оставшееся отдать в благотворительные организации или выбросить. Что я мог на это ответить?
Вещей было так много, что руки опускались. Однако со временем работа стала доставлять мне удовольствие, я надеялся, что оставленные им артефакты помогут мне лучше понять его жизнь. Я мог спокойно перебирать его пожитки, валяться в его креслах, пить чай, не спрашивая позволения, распахивать окна. Для меня больше не было секретов ни в потайных ящичках, ни в темных углах, ни в захлопнутых книгах, ни за притворенными дверьми. Ощущение возникало странное – любопытство, злость, – но все более угнетающее. Оно напоминало мне чувство, которое я испытывал, раскинувшись морской звездой прямо посредине кровати в те ночи, когда Мэдисон веселилась допоздна, специально, чтобы позлить меня. Но утром-то она все равно возвращалась.
Одних только книг в квартире Криспина были сотни. Полки покрывали все стены. Он называл свою библиотеку «акаши» – на санскрите, говорил он, так называется библиотека бесконечности, в которой содержатся наиполнейшие сведения обо всем сущем. На отдельной полке помещалось собрание его записных книжек в оранжевых замшевых переплетах, которые он специально заказывал в мастерской, расположенной в переулке у набережной Арно. На нижней полке в гостиной – внушительная коллекция пластинок. Полистав их, я поставил Чака Берри, дабы развеять беспредельную тишь. Он запел, что идет в клуб «Нитти-Гритти» [71]71
*Имеется в виду песня Чака Берри (р. 1926) «Club Nitty Gritty», выпущенная синглом в ноябре 1966 г.
[Закрыть].
По кабинету Криспина я ходил как по музею. На его рабочем столе: печатная машинка со стертыми клавишами; графин с водой богемского хрусталя; стакан того же гарнитура, на поверхности плавают мертвые дрозофилы. В пепельнице – забытая и брошенная им пенковая трубка с резким запахом вишневого плиточного табака.
Тогда я пришел за «Пылающими мостами», но так ничего и не нашел. Кроме квитанции на крупную бандероль, отправленную на почтовый ящик где-то в районе филиппинских Ста Островов [72]72
* Сто Островов —национальный парк на севере Филиппин.
[Закрыть]. Судя по дате, проставленной на квитанции, отослал он бандероль за день до гибели.
На столике в углу стояла шахматная доска с нашей незаконченной партией. Я сделал ход: ладья на Е4. Шах.
* * *
Мальчик обозревает проплывающую мимо сцену. Дома разрушены, все обуглилось до такой глубокой черноты, будто другого финала и не предполагалось. Мужчины, женщины, дети безучастно копошатся на мокром пожарище, их ноги и руки, лишившись цвета, смешиваются с пейзажем. Наш протагонист хочет помочь им, но что он им скажет? Только болтаться у них под ногами. Впереди едет БТР, длинноволосые солдаты развалились на платформе, приладив винтовки меж колен. Плевать они хотели. Такие люди уже знают все, что им надо знать.
* * *
Да, забыл рассказать, что произошло вчера за пансионом, где я остановился.
Уставший и нагруженный чемоданом, сумкой, ноутбуком в рюкзаке и ортопедической подушкой, я добрался до главного входа и обнаружил, что дверь заперта. Я обошел здание и оказался на пустынной парковке. Было уже темно, но я сперва услышал, а потом и увидел, как молодой полицейский в форме сталкивал лбами двух беспризорников. Дети были под кайфом. Один сжимал в руках улику – кусок картона с кляксами клея «Регби», завернутый в полиэтиленовый пакет Филиппинского дома книги. У обоих на шее висели цветочные гирлянды – те, что не удалось продать вечером. Полицейский ударил детей друг о друга несколько раз подряд, как будто в ладоши хлопал. Дети упали, он схватил обоих за пояс шорт и резко поднял. Он распалялся все больше. Теперь он шуровал по карманам в поисках дневной выручки.








