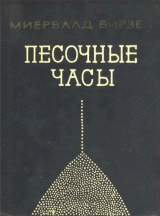
Текст книги "Песочные часы (Повесть)"
Автор книги: Миервалдис Бирзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
В Риге больничное начальство, в порядке исключения, выделило Герте и Эгле отдельную палату на двоих.
Палата была обычной унылой палатой, каких еще много в латвийских больницах. Сероватые стены, две белые кровати, две белые тумбочки, два белых стула и один белый шкаф. И силуэты причудливых лесов и диковинных зверей, возникающие в фантазии больного, когда он бессонными ночами глядит на отбрасываемую ночником тень на стене.
Эгле устало присел на койку, пока Герта разбирала чемодан, укладывала в шкаф белье. На тумбочку она поставила синюю стеклянную вазу.
– Опять новый дом. Вот мы и путешествуем вместе, – грустно сказала она.
Они словно были в гостинице чужеземного порта и ожидали пароходного гудка. Только не знали на этот раз, в какую гавань он позовет. Возможно, предстоящее путешествие будет опасным, но откладывать его нельзя.
Палату освещал только ночник у кровати Эгле. В углу комнаты, возле умывальника, Герта в ночной сорочке мазала на ночь лицо кремом. Завершив эту процедуру, она подошла к мужу и поправила одеяло. Эгле взял Герту за руку, и она присела к нему на кровать. Как же она еще молода! Такими бывают блондинки, когда они после сорока чуточку пышнеют. Сорочка облегала грудь и от нее уже отвесно падала на колени. Да… разные случались в жизни ночи, не только такие, как эта в больнице. Эгле не мог сказать, что его сведения о любви почерпнуты только из книг.
– Когда-то я даже не знал тебя. Было время, когда я не смел тебя даже поцеловать, а теперь ты сидишь тут.
– И опять мы вдвоем… – Герта встала и дала мужу таблетки. – Тебе надо как следует выспаться.
Она сидела подле него, пока он не уснул.
Наконец бесчисленные анализы сделаны. Профессор Дубнов приготовил растворы для обработки костного мозга. Берсон помогал хирургу отделения подготовить все для быстрых и следующих одна за другой операций. Предстояло открыть доступ к берцовым костям Вагулиса и Гребзде и к ребрам Герты.
А тогда настал день, о котором Герта как-то сказала «наш час испытания». В сопровождении медсестры Эгле с Гертой неторопливо направились в операционный блок. Этот отделанный метлахской плиткой коридор был очень длинным, словно туннель он тянулся через всю старинную больницу. В стороны от него ответвлялись коридоры к отделениям.
Санитарки толкали тележки с бельем, посудой. На тележках с носилками куда-то везли укрытых и закутанных больных. Хотя и отрезанный от внешнего мира, коридор этот все же был транспортной артерией с довольно большим движением.
– Этот коридор можно бы назвать дорогой надежды, – размышлял вслух Эгле, – все, кого здесь возят, надеются на возвращение здоровья.
В нише перед одной из дверей стояли студенты, листали учебники и нервничали, диву даваясь, что все выученное вчера улетучилось. Из двери кто-то вышел. Его тотчас обступили ожидающие.
– Что тебя спросили?
– Номер зачетной книжки! – весело ответил студент.
Товарищи не отреагировали на остроту и принялись лихорадочно листать книги и конспекты.
– Каких только нет на свете забот, – сказал Эгле. – Ведь был и я студентом. И – тогда – экзамен казался мне не менее важным событием, чем сегодняшняя операция. Да, редко когда можно свои заботы переложить на другого.
Медсестра, опередив их, распахнула двойные стеклянные двери операционного блока. Герта крепко взяла мужа под руку и сказала:
– Всего я на себя взять не могу, но половину – да.
В то же самое время еще в одной палате царило заметное волнение, хотя оно и тщательно скрывалось как недостойное взрослых и сильных мужчин. Все три койки в этой палате были разворошены, потому что мужчины хотя и не говорили о своих переживаниях, но зато часто вставали, садились и снова ложились, с шумом скидывая шлепанцы. Гребзде все перевязывал наново косынку на шее.
Но, видно, Вагулису опостылела эта наэлектризованная атмосфера. Он встал во весь свой могучий рост, достал сигарету из пачки, потом спрятал ее обратно и сказал:
– Поймите, не мог я отказать. Если б не доктор Эгле… – И он выразительно втянул щеки.
Гребзде расправил узелок платка.
– Если б ты в тот раз не выловил меня из реки, когда я головой под бревна ушел, давно б меня раки сожрали…
– Чего оправдываетесь? Никто же не винит вас, – перебил их Вагулисов родич, отличавшийся от брата лишь тем, что высказывался гораздо реже.
– Да ладно, обойдется. Ногу ведь не отрежут. – Гребзде склонился над тумбочкой и что-то сунул в карман, так как вошла медсестра и позвала их с собой.
Они сидели у двери операционной и ждали своей очереди. И тогда Гребзде извлек из кармана четвертинку.
– Глотнем для храбрости, – сказал он.
– Это – дело, – согласился Вагулис, но тут их всех пригласили в операционную. Горькую они распили значительно позже, когда «кончилось рабочее время», как заметил Вагулис.
Хирург, Берсон и Дубнов мыли руки. Берсону предстояло взять на себя функции анестезиолога. Затем хирург возьмет скальпель и, как говорят медики, «расслоит» ткани так, чтобы, не повредив нервов и сосудов, проникнуть к тем костям, из которых надо отсосать частички мозга. Этот костный мозг, обладающий чудесным свойством в течение считанных часов производить миллионы новых лейкоцитов, профессор Дубнов введет Эгле. Без этих телец, которые током крови разносятся во все закоулки организма, человек не может жить, они его помощники, муравьи, разносящие питание, вооруженные стражи, сковывающие и уничтожающие микробов.
На одном из столов в просторной операционной лежал Эгле. Он лежал на спине и видел лишь часть стеклянной непрозрачной стены да громадную, в обхват, бестеневую лампу над собой. Из-за толстого и мутного, как морской лед, стекла падал мягкий, не слепящий глаза свет. Затем в поле зрения Эгле появилось прикрытое до глаз марлевой маской лицо Берсона.
– Попробуем, Эйдис, – сказал Берсон.
Он знал, что если разыграть этакого бодрячка и радостно провозгласить: «Вот теперь ты у нас будешь снова здоров!», Эгле только разозлится и больше не произнесет ни слова. Теперь же Эгле сдержанно улыбнулся.
– Попытка не проигрыш, говорят картежники. Не жалей новокаина для Герты и остальных. Пусть ничего не почувствуют.
До того как операционная сестра прикрыла лицо Эгле простыней, он повернул голову и успел встретиться глазами с Гертой, лежавшей на соседнем столе. Лишь на мгновение, но у Эгле стало хорошо на душе. Они успели даже улыбнуться друг другу.
Дальнейшее Эгле воспринимал только на слух. Однако он знал все, что сейчас проделывали три врача, две операционные сестры и няня с несуетливой быстротой в разработанном до последней мелочи порядке. Немало часов в свое время отстоял он в резиновых туфлях на кафельном полу операционной.
Забулькала жидкость – в стакан налили стерильный раствор новокаина. Фыркнул шприц – Берсон набрал жидкость и надел длинную анестезионную иглу. Что-то влажно шлепнулось на пол – хирург бросил мимо посудины для использованных материалов кусок смоченной в спирте марли, которой протирал руки.
Рядом заговорил Берсон. Значит, он анестезирует Герту. У Берсона была привычка разговаривать с больным. Такая беседа способствовала контакту, столь необходимому во время совместного труда врача и больного – операции. Точно так же некогда поступал и Эгле, а вот сегодня говорил Берсон, а Эгле слушал. Пестрая штука – жизнь.
Металлический наконечник шприца задел стекло – Берсон еще раз набирает новокаин. По-видимому, сейчас он склонился над Гертой; на пол упал какой-то инструмент. Там, за белым покрывалом, шла напряженная работа. Потом совсем рядом послышался слабый, но отчетливый голос Герты:
– Эйди, мне не больно… нисколько.
А за каменной оградой, на тихой задвинской улочке у ворот больницы стояла Гарша. Она приоделась, как на свидание: темный костюм, лодочки на высоком каблуке, даже брови подвела. Некоторое время она глядела на асфальтовую дорожку, убегавшую в больничный парк, потом отошла от ворот и стала под тенистой липой.
Она и в самом деле пришла на свидание, но стеснялась этого, хотя ей уже стукнуло сорок четыре.
К остановке подкатил троллейбус. Из него вышел Мурашка, как всегда в своей черной блузе, которой, видно, не было сносу, и в черном берете. С низким поклоном он подал Гарше руку.
– Если на этот раз не удастся… – В глазах Гарши блеснули слезы.
– Не надо плакать.
– Верно. Я не смею даже плакать. Возможно, это неприлично, – с горечью согласилась Гарша. Она вспомнила, что ее кровь была отвергнута.
– Плакать могут все, у кого есть слезы, – возразил Мурашка.
Потом они долго молчали, глядя куда-то вдаль, сквозь кусты сирени за оградой. Рядом, в цветочном киоске, седая старушка расставляла в вазе гвоздики и вывешивала миртовые венки. Она с надеждой поглядела на стоявших неподалеку мужчину и женщину, но те не обращали внимания на ее товар. Они смотрели за больничную ограду и не проявляли намерения купить цветы или венок.
Подъехал еще один троллейбус, и из него выскочила улыбающаяся Крузе с большим букетом роз.
– Пойдемте, передадим цветы, пусть знают, что мы были!
– Послать цветы… это мы всегда успеем, – задумчиво отозвалась Гарша.
Из калитки вышла Кристина Эгле с Янелисом. Кристина ничего не сказала, только широко улыбнулась. Янелис с разбегу подпрыгнул, сорвал с липы пучок листьев. Просто так – ему хотелось прыгать.
Гарша взяла Янелиса за локоть и с волнением заглянула ему в глаза.
– Берсон велел передать, что все идет благополучно. Завтра можно навестить, – сказал юноша и побежал к троллейбусу.
Гарша и Мурашка улыбнулись друг другу, а Крузе быстро пошла в проходную передать цветы.
Герта полулежала на подушках. Одна рука у нее была на перевязи, чтобы перерезанные мышцы спины не испытывали нагрузки. Руки Эгле лежали поверх одеяла. Грудь перебинтована. В палату изредка наведывалась няня, подавала питье, смотрела, не залетела ли в палату муха – Герта сама даже мухи отогнать не могла. Потом Герта попросила няню причесать ее и показать зеркало. А еще позже няня принесла розы.
Эгле разделил букет пополам.
– Отнесите цветы тем здоровякам. Скажите, мол, из санатория; они и в самом деле из санаторского сада.
После операции трое плотовщиков лежали в постели без движения. Когда санитарка принесла розы, Вагулис быстро сунул под подушку порожнюю бутылочку, которую они ухитрились припрятать даже в операционной и доставить назад в палату.
– Это вам из санатория, – подала цветы Вагулису санитарка и вышла из палаты.
– А куда же мы их поставим? Единственная пустая посуда – вот эта. – И Вагулис извлек из-под подушки порожнюю четвертинку.
– Сейчас будет, – стрельнул глазами Гребзде и нажал кнопку звонка. Вошла няня.
Гребзде приподнялся на локте.
– Вы очень красивая девушка, – ухмыляясь, сказал Гребзде.
– Не отрывайте меня от дела попусту. – Няня повернулась к двери.
– И симпатичная, – не смутился Гребзде.
– Что вам нужно?
– Ваза, – показал на цветы Вагулис.
– Так бы сразу и сказали без лишних разговоров.
Гребзде взбил хохолок.
– А вам будто и поговорить неохота!
Няня была еще молода, кругла и румяна и не знала, дозволяет ли инструкция сердиться на больных сразу после операции. На всякий случай она ограничилась тем, что покраснела и вышла из палаты.
Затем Вагулис достал из тумбочки сигарету и, выпуская дым под одеяло, с аппетитом закурил. В палате царило настроение выходного дня после трудной рабочей недели. Вагулис покуривал, Гребзде сосал конфетку и смотрелся в зеркало, время от времени перемещая узел своего цветного платочка. Двоюродный брат Вагулиса потягивал прохладный напиток из красной смородины, поскольку этот августовский день был довольно жарок.
– Теперь поправится, – рассуждал вслух Гребзде. – У меня кровь крепкая. Раз меня укусила змея, так верите? – она сдохла, а мне хоть бы хны.
– Ты змею пристукнул, – напомнил брат Вагулиса.
– Так что, разве она не сдохла?
– Да, – протянул Вагулис, – ни за что не понять мне, отчего человек такая бестолковая тварь. Чтобы жить одному доктору Эгле, надо всего литров пять-шесть крови, а на войне льют и льют ее почем зря прямо на землю. Пролили целую реку, лес можно сплавлять.
– Нет, трупы, – мрачно возразил Гребзде. – А почему так? Ведь не в старину живем, когда люди были необразованные. Неужто человек так никогда и не поумнеет?
– Что до меня, так я кровь проливать не стану, – сказал Вагулис.
– Я тоже.
– И я. Ну вот, хоть три человека на земле дошли своим умом до этой премудрости, – заключил Гребзде. – Когда няня принесет вазу, я скажу ей, что не женат. Может, объявится еще и четвертый умник?
Когда сестра вышла из палаты и на тумбочке тихо затеплился ночник, Эгле вынул из вазы цветок и кинул Герте. Ему хотелось быть добрым, добрым ко всем, и он сожалел, что иногда бывал суров. Сегодня он узнал, как добры к нему люди.
– Впредь мы будем больше разговаривать друг с другом, – сказал Эгле. – Человек может страдать из-за того, что не все высказал. И если один… уходит, и во всем есть ясность, не осталось недомолвок, то второму легче…
– Никто не уйдет! – перебила его Герта.
– Да, да. Я же знаю, что сегодня мы и живы и здоровы. По сути дела, человек бессмертен. Я думал над этим. Он – часть великой Жизни…
– Что-то очень уж мудрено. Лучше полежим, помечтаем. Представим, что сейчас поделывает наш мальчик.
– Вот-вот! Янелис – прямейшее доказательство нашего с тобой бессмертия.
– Интересно, он тоже думает о нас? – гадала Герта.
– Нет, его задача думать дальше, так сказать, с упреждением на одно поколение, – улыбнулся Эгле. – Он думает о своей девушке. И тут, к сожалению, нам возразить нечего.
– Но мы же его родители!
– А разве мы, в свое время, спрашивали у кого-нибудь разрешения на любовь?
– Да-a. Я уже начинаю забывать об этом. Это признак старости, – вздохнула Герта и потянулась за зеркальцем.
Эгле сделал несколько движений кистями рук и вспомнил, что часто видел, как то же самое проделывают больные, вынужденные подолгу лежать без движения. За месяц даже руки кузнеца, в которые въелись масло, сажа и железо, становятся белыми. Тогда, наверно, хватает времени присмотреться к своим рукам, вспомнить о происхождении каждого шрама. А уж за целую жизнь хоть один шрам да появляется у каждого, кто не был белоручкой. И у малыша, тайком схватившего нож, чтобы вырезать крылья для ветряка, и не поверившего, что нож кусается, и у старого лесовика, который хотя и знает, что топор остер, однако нет-нет да и заденет им по живому. Руки – они часть биографии человека.
Янелис ехал в троллейбусе и все еще мял в руке листья. Его грудь распирало от прилива энергии и сил, словно лед на Дзелве перед весенним половодьем.
Операция прошла удачно. Опасность, нависшая было над отцом, миновала. Вчера он, Янелис, со своей девушкой был в кино. Когда актеры на экране соединяли уста в долгом поцелуе, Янелис с гордостью думал о том, что каждому из них больше, чем шестнадцать лет, и они имеют право видеть, как в фильме герои целуются. В такие моменты их лбы морщились и на лицах появлялась почти укоризна, но когда Янелис провожал девушку домой, то они тоже целовались, если поблизости никого не было. И у дома девушки он вырвал цветущий подсолнух вместе с длинным, словно палка, черенком, и преподнес ей.
Сегодня Янелис вдруг почувствовал, что должен совершить такое, что послужило бы для отца вознаграждением за страдания. Янелису вспомнились отцовские слова, когда у них зашел разговор о работе, и он решил сейчас же, немедленно поступить на работу. Да и почему бы ему не работать? Он не слабее, а то и посильнее других ребят, которые кончили школу. Ни один из них столько не занимался гантелями, сколько он. Прилежно, регулярно, по таблицам. Правда, тетка ворчала: «Вместо железных колотушек лучше бы топор взял да для школы дров наколол». Но она старая и не понимает, что такое физкультура. И, кроме того, топором не треснуть себя по ноге, так что школьникам этой работы не поручают.
Приехав на автобусе в Аргале, Янелис сошел у мелиоративной станции. Некоторое время он стоял один в нерешительности, но вот неожиданно увидел девушку. Она была в синем рабочем халате, потому что шла с огородов. В руке сетка с пучками молодой моркови. Остановилась, помахала сеткой и вдруг покраснела, – вспомнила, как вчера они целовались после кино. Днем все выглядит по-другому. Может, она краснела и вчера, только ведь в темноте незаметно. Теперь оба стояли в тени аллеи и зеленого навеса автобусной остановки, и перед ними, словно река, пролегало широкое шоссе. Широкое, серо-белое под ярким солнцем, со щербинами от тракторных гусениц.
– Поступаю на работу, – сказал Янелис, глядя на девушку. Ему было неизвестно, как она отреагирует на его заявление – до сих пор им не случалось говорить об этом. Девушка знала лишь то, что Янелис никогда не работал. Теперь ему почему-то хотелось объяснить ей, что работать он пойдет не ради заработка, а для того, чтобы сделать приятное больному отцу.
Но девушка только помахала сеткой с морковью.
– Будешь у нас в Аргале работать, да?
– Хочу вон там, – кивнул Янелис на железные ворота рядом с бывшей корчмой на противоположной стороне шоссе.
– Это хорошо. Значит, мы оба будем работать здесь, в Аргале.
Ей все было ясно. От этих ее слов Янелис ощутил радостную уверенность, хотя и не имел представления о том, что значит работать и что именно он будет делать. От одного ее тона он уже почувствовал себя не в клетчатой ковбойке, вельветовых брючках и сандалетах из ремешков, а в замасленном комбинезоне и резиновых сапогах или же, наоборот, – раздетым до пояса, как те мужчины в мастерской. А без рубахи тоже ничего – все увидят, какие у него мускулы. Каждый словно горбатая мышка бегает под кожей. Потом он еще организует баскетбольную команду. Поскольку лучше его никто играть не сможет, то он и будет капитаном команды.
– Пойду устраиваться, – сказал Янелис и направился к железным воротам.
– Я подожду тебя.
Девушка присела на ступеньку, подтянула колени к подбородку и принялась грызть морковину.
– Буду ждать! – крикнула она ему вдогонку еще раз.
Янелис должен был идти уже не только из-за болезни отца, но и потому, что его ожидала девушка, думавшая, что теперь они оба будут работать в Аргале. По вечерам они будут смотреть в Доме культуры кинокартины, а потом целоваться на мостике.
В мастерской человек в галифе и шоферской фуражке наблюдал за действиями маленького, навешенного на коричневый трактор экскаватора, который то низко протягивал свою железную горсть, словно попрошайка за милостыней, то заносил ее высоко, будто кулак для удара.
– Скажите, пожалуйста, где директор? – спросил Янелис.
Человек в галифе повернул к Янелису крупное, круглое лицо с квадратным борцовским подбородком.
– Я за него. A-а, Янелис, сынок Эгле. Чем могу служить?
Теперь уже не скажешь, что пришел за спичками.
– У вас не нашлось бы для меня работы?
– Работы? – недоверчиво переспросил директор и отошел подальше, чтобы трактор не заглушал слова.
Янелис утвердительно кивнул.
– Ведь вы раньше нигде не работали?
– С чего-то начинать надо.
Директор окинул взглядом ладного паренька с задумчивым лицом доктора Эгле, но вполне своим ежиком на голове.
– Оно верно. Только… что же вы умеете?
– Мне очень надо работать.
Директор понимающе закивал.
– Так, так, отец захворал, и вы хотите помогать семье. Это правильно.
Он направился к эстакаде, где шофер отмывал мощной струей воды заляпанные глиной борта грузовика. Вначале струя оставляла на сплошной глине только отдельные полосы, но вскоре борта опять заблестели сероватой зеленью.
– Сейчас у меня есть только место мойщика. Надо и моторы мыть тоже. Если согласны…
– А при машинах нет какого-нибудь дела? Я умею водить автомобиль.
– Здесь машины государственные, не игрушки.
– Я подумаю.
Но тут Янелис вспомнил, как сказала девушка: «Значит, мы будем оба работать здесь, в Аргале», и потому спросил:
– А во сколько начало работы?
– В семь. Напишите заявление. Вам восемнадцать есть? Тогда согласие родителей не требуется.
То, что в семь вставать – не страшно. Он и раньше вставал в семь, чтобы для тренировки пробежаться километра три по лесу. Но спорт – это чистое, благородное занятие. От масла руки станут черт знает на что похожи, под ногтями грязь. Что скажет девушка? Потом он подумал, что девушка выпалывает парники, однако ведь ему ни разу не пришло в голову исследовать, сколько парникового чернозема уносит она под ногтями.
Директор ушел. Полуголый шофер орудовал шлангом. Он вылез из-под машины и, возможно, нечаянно повернул струю в сторону Янелиса. Янелис отскочил, спасая брюки.
– Кончай баловать!
Мойщик был молодой парень.
– Теперь небось скажешь, что ты боксер?
Янелис силился вспомнить, как этот мойщик выглядит одетым. И вспомнил, что он видал его в Доме культуры на танцах.
– Не ошибся, – подтвердил его предположение Янелис, смахивая рукой брызги с брюк.
– А теперь можешь чесать отсюда. Мне начальники не нужны.
Вот появился и еще один повод завтра же выйти на работу: надо показать этому малому, что боксом Янелис занимается всерьез.
Экскаватор занесенным ковшом отсалютовал Янелису, когда тот выходил за ворота.
Девушка поднялась навстречу. В ее сетке осталась одна ботва.
– Приняли, да? – спросила она.
Янелис кивнул не без гордости, и они пошли по аллее, дальше через лужок и танцплощадку на задах мелиоративной станции, мимо пустых скамей и дощатого буфетного киоска, куда пиво завозили только когда бывали танцы. Вчера вечером, в сумерках, они тут целовались. Не сговариваясь, они прибавили шагу. Дальше их путь лежал через старый парк. Под густой сенью лип протоптанная тропинка даже в зной казалась влажной и упругой.
– Это хорошо. Значит, ты будешь взрослый человек, как я, – сказала девушка.
Янелис удивленно взглянул на девушку: до носа ему не достает, руки в широких рукавах мотаются, как у куклы, а туда же – взрослая, видите ли, а он – нет!
– Я на год старше тебя, – миролюбиво возразил Янелис.
– Человек тогда взрослый, когда сам себе зарабатывает на хлеб.
Все очень просто!
Янелис никогда не размышлял на эту тему. Что значит – зарабатывать на хлеб? Ведь не война же.
Девушка поглядела вверх, увидала голубое небо среди верхушек деревьев и недоуменно сморщенный лоб Янелиса. Своей маленькой рукой, к которой присохла огородная земля, она взялась за его крепкий мускулистый локоть.
– Завтра мы оба будем взрослые.
В больнице все шло, как в пьесе после третьего действия: кульминация осталась позади. Все постепенно и благополучно разрешалось. Исполнители главных ролей уже ждали минуты, когда их разгримируют, переоденут, и они смогут разойтись по домам. Дубнов еще раз ввел Эгле живительные комочки костного мозга. Рана под левой лопаткой Герты через неделю зажила и остался лишь розовый рубец длиной с палец. Вагулис, когда курил, уже не выпускал дым под одеяло, а, стоя у окна, окуривал вредителей на кусте сирени. Двоюродный брат Вагулиса, вытянув оперированную ногу, сидел в саду и почитывал газеты, а по вечерам смотрел телевизор в комнате отдыха. Гребзде дважды в день брился, слонялся по коридору и помогал санитаркам развозить тележки с едой.
Однажды Берсон пришел в лабораторию, когда здесь готовили к микроскопическому анализу кровь Эгле. Берсон торопился в санаторий, но не мог уехать, не узнав, что происходит с кровью Эгле. Распахнув халат, он нервно прохаживался мимо стола, за которым склонившиеся над микроскопами лаборантки рассматривали препараты, терпеливо, квадрат за квадратом, подсчитывали кровяные тельца.
Берсону эта тишина показалась слишком томительной, и он принялся рассуждать вслух:
– Раньше астрологи через подзорные трубы смотрели на звезды и по ним угадывали человеческие судьбы, теперь мы их высматриваем в поле микроскопа. А вообще-то, мы чересчур заглядываемся на звезды и слишком мало на землю, хотя Проживаем пока что на ней.
– Вы, значит, никогда не смотрите на звезды? – не без кокетства спросила одна из лаборанток.
Все они сидели, припав к окулярам микроскопов, и Берсон не понял, которая задала вопрос.
– По вечерам я ношу воду для своих роз и астр. Тогда я тоже вижу звезды. Но не смотрю на них специально.
Лаборантка записала результаты подсчетов. Берсон заглянул ей через плечо.
– Сколько? Тысяча двести пятьдесят?
Лаборантка вынула предметное стеклышко и выпрямилась.
– Хоть на сотню, да больше. Благодарю! – И Берсон галантно поцеловал руку лаборантке, так как знал, что она не замужем.
– Странно, – удивилась она.
– Жизнь есть цепь ошибок и неожиданностей, – пояснил Берсон, снимая халат.
– А это что… ошибка или неожиданность? – спросила лаборантка, но Берсон уже был за дверью.
– Ясно, ошибка, – уверила ее другая.
Настал день, когда Герта забрала с больничного столика свое зеркало, когда Эгле снова повязал галстук, надел жилет, взял сигулдскую трость и сказал – Будем надеяться, что больше не вернемся в этот отель. Хотя больница – не худшее место на земле. Сюда приходят и уходят отсюда всегда с надеждой.
Они ушли, и палата снова стала унылой больничной палатой, тоскливо серой, как лист бумаги, с которого что-то стерли резинкой. Наглядно подтверждалась древняя латинская пословица о том, что человек красит место, но не место – человека. В окно залетели две усталые осенние мухи. Теперь никто не прогонял их, поскольку от людей здесь остались лишь вмятины на подушках.
Рябина возле дома Эгле по-осеннему покраснела. Глазан на радостях скулил и подвывал, словно его высекли, и вытирал свои лапы о брюки Эгле.
Открылась дверь веранды, и из нее вышел высокий молодой человек в замасленной спецовке и резиновых сапогах, взял за шиворот Глазана и оттащил в сторону.
– Янелис! Так вот какой ты стал! – с гордостью воскликнул Эгле. – Тебе только шляпы не хватает.
– Теперь они не в моде, – усмехнулся Янелис.
Эгле стоял и любовался сыном. Янелис работает вторую неделю. Это еще, конечно, только начало, но почин – великое дело. В спецовке, с выгоревшим ежиком волос, он выглядел крупнее, да, значительно крупнее отца. «Все хорошо, – он хоть не стыдится своей работы. Ведь нередко школьники, изучая строение атома, забывают, что и черная, вязкая и топкая по осени пашня, на которой вырастают хлеба, тоже состоит из атомов. А забыв, считают, что пахать землю – занятие недостойное современного человека. Быть может, я еще доживу до того времени, когда он будет гордиться тем, что работает при земле».
– Мне разрешили ездить вместе с ребятами на рытье траншей. Подсобным рабочим, – сказал Янелис, и Эгле даже показалось, что у сына в голосе пропала хрипотца переходного возраста, теперь это уже голос мужчины. – Я на неделю буду уезжать и возвращаться по субботам. Теперь мне можно уезжать, раз ты дома.
Эгле понимал, что за этими словами кроется многое. Кроется то, что Янелис волновался за него, что из-за этого он поступил на работу сразу после школы, что ждал его и тревожился…
– Ну, что ж, давай дуй. Пока что забирай велосипед. Хоть это и не модно, мотороллер модней, но все же быстрее, чем на своих двоих.
В гостиной на камине его ожидала ваза с яблоками, кожица на них от обилия сока готова была лопнуть. Наверху, в спальне – тарелочка первых слив, пижама, шезлонг с двумя подушками. Эгле почувствовал, что пришли осень и долгий отдых.
Да, он будет отдыхать. Герта за всем приглядит, все устроит – ведь на работу она не будет ходить, пока полностью не срастутся мышцы и пока она не сможет поднять левую руку над головой и достать правое ухо, так ей сказал хирург.
По утрам шезлонг ставили на балкон рядом с олеандром в кадушке – за лето он тоже окреп, посвежел и, выпустив розовые бутоны, готовился зацвести. Тут же под рукой ставили столик с книгами, бумагой, вишнями, таблетками. Эгле с утра садился в шезлонг, закутывал ноги одеялом и к полудню засыпал. Проснувшись, читал, любовался далекими полями и только после полдника возвращался в спальню. Никогда он не представлял себе, что возможно жить в таком небольшом пространстве. Оказалось возможно. Разумеется, при одном условии: если есть возможность думать. Думать он мог.
И в действительности, мир здесь был не так уж мал. Позади, за подушками, находилась красная кирпичная стена. Ее не видно, но известно, что она там есть. Известно, что между кирпичами имеются швы известкового раствора, прямые и одинаковые, как клетки в тетради. Стена выведена вверху треугольником, и там, на острие конька, установлена телевизионная антенна. Раньше над домами торчали флагштоки, нынче – телевизионные антенны. Мы желаем знать, что происходит на белом свете. Нам не безразлично, что творится на других континентах.
А перед глазами простирался целый мир! Перила балкона не сплошные – несколько железных прутьев – и потому видно далеко. С обеих сторон балкон охраняется кронами двух яблонь, – там жужжат осы, буравя в яблоках дыры. За яблонями стоят темные ели, отгораживающие сад от поля. Ели – уютные деревья. Кажется, возьми, свяжи вместе нависшие ветви – и образуется надежный кров от непогоды. А не ютится ли в гуще этих ветвей, где так любят сидеть и лущить шишки белочки, некий лесной дух, какой-нибудь гномик ростом с белку? Да нет, не бывает никаких гномов. Наши дети читают очерки о том, как Гагарин облетел земной шар, но читают они и сказки про мальчика с пальчика. Человек одушевил природу. Он повсюду – и в муравье, что тащит сухую еловую иголку, и в иве, забредшей корнями в речку, – видит жизнь. Все полно ею. «Из неживых атомов зародилось чудо живого, – подумалось Эгле. – Сейчас я себя чувствую сносно. Десны не кровоточат, голова и суставы болят редко. Так что нет нужды углубляться в размышления о сущности жизни. – Эгле улыбнулся, съел сливу, сдавив пальцами скользкую косточку, выстрелил ею в сад. – Выходит, над серьезными вещами ты задумываешься, лишь когда тебе самому тяжело. Так оно и есть, – признался Эгле. – Любопытное занятие – глядеть на себя со стороны. Впрочем, не прав. Это величайшее искусство, и дается оно не легко».
Отсюда открывалась обширная панорама полей и лугов, начинавшихся сразу за садом. Ближе всего было убранное ржаное поле. Аист, манерно подымая ноги, расхаживал по жнивью и выискивал свою добычу, время от времени вскидывая кверху лягушку. За жнивьем тянулась зеленая межевая полоска. На меже были сложены собранные с поля валуны и булыги. У этих груд камней собирались свободные от дел окрестные собаки. Они подымали веселую и дружелюбную грызню, потом усаживались и глазели вниз на склон, сбегавший к ольшанику на излучине Дзелве. У самого горизонта, далеко за рекой – роща; две широкие цветные полосы – зеленая листва и серовато-белый ряд стволов. За рощей, по всей вероятности, снова поля, леса и за ними Рига и море.








