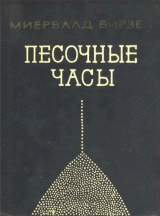
Текст книги "Песочные часы (Повесть)"
Автор книги: Миервалдис Бирзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
– Не смей так говорить! – Берсон ударил кулаком по столу. – Найдем для тебя лейкоциты!
– Слишком уж ты глубоко убежден, – усмехнулся Эгле.
– Да, да, я и тебе это докажу!
Берсон с Гаршей ушли.
Эгле подержал в руке черный круглый футлярчик, который он собственноручно поставил сюда еще в тридцать седьмом году, впервые войдя в этот кабинет. Футлярчик с песочными часами. Раньше с их помощью измеряли пульс у больных. В средние века такими часами пользовались в церквах, чтобы прочитать молитву точно в положенное время. Иногда их можно встретить на кухне у хороших хозяек – по ним варят яйца. Когда Эгле закончил медфак, его лицо с наивными детскими глазами казалось пациентам чересчур молодым – разве доверишь такому свои недуги. И тогда Эгле приобрел по случаю эти старинные песочные часы и по ним отсчитывал пульс, в надежде, что эта уловка вселит в его больного больше доверия. Получив место врача в санатории, он водворил эти часы на письменный стол, и с той поры редко прикасался к ним – пациенты ему уже и так доверяли.
Эгле наблюдал, как песок тонкой струйкой перебегал вниз. Затем он перевернул часы. Песок опять проделал привычный путь. «Вот и в жизни так, – подумалось Эгле. – Утекут наши дни, но чья-то рука перевернет часы, и чьи-то дни снова покатятся. Жизнь не останавливается. Но, смотри, песок течет непрерывно. Время уходит! Надо спешить. А чтобы спешить – нужны… Пойду-ка я отдыхать».
У машины его догнал Берсон.
– Я провожу тебя.
Они ехали по пробитому фарами светлому туннелю под сенью дубов. В темноте ветви казались ниже.
– Ты решил не отходить от меня, на случай, если я с отчаяния вдруг полезу в петлю. Да?
– От этого не удержишь. Заядлый самоубийца утопится даже в тазу. Я хочу поговорить с тобой открыто. Как медик с медиком. У меня складывается впечатление, будто ты бравируешь своей болезнью. – Берсону было нелегко произнести эти слова, но с них-то он и хотел начать лечение Эгле.
Эгле резко нажал на акселератор. Машина дернулась вперед, но тут же пришлось притормозить из-за встречного мотоцикла. Эгле переключил большой свет на подфарники, чтобы не ослеплять мотоциклиста. В наступившей темноте легко было влететь в канаву; внимание напряглось, и злость, вызванная словами Берсона, прошла.
– Ты уверен?
– Да. Конечно, очень здорово разглагольствовать о Кохе и Форланини. Но сам посуди…
– Правильно, – Эгле перебил его. – Видно, я в самом деле хорохорюсь. Лучше уж так, чем распускать нюни.
В густых сумерках летней ночи виднелись только белые личики анютиных глазок вдоль фундамента дома Эгле, которые цвели на месте уже отцветших нарциссов. Глазан лежал у крыльца и помахал хвостом в знак приветствия. Из окна верхнего этажа сквозь занавеску пробивался свет.
– Дома опять одна сестра. Нелюдимая она у нас. Живет прошлым. Меня она слушает и не слышит, – вздохнул Эгле. – Зайди, покуришь. Дымком потянет – уже мне легче – в доме живая душа есть.
Они прошли в кабинет. Эгле достал из стола сигареты, которые держал для гостей, и зажигалку-пистолетик.
– У тебя же есть семья. – Берсон закурил.
Эгле в сердцах швырнул на стол зажигалку. Она скользнула по гладкой поверхности и упала на пол.
– Семья?.. Жена на Черном море. У Янелиса сегодня соревнования… Женись, поживи лет двадцать, и у тебя настанет такой же вечер, как этот.
На подносе стояла бутылка пива, яйцо, сахар. Эгле смешал яйцо с сахаром, долил пива. Он держал в руке ложечку и вдруг уронил ее. Едва успел дойти до дивана. Берсон кинулся к Эгле, расстегнул ему воротничок и нащупал пульс.
– Головокружение… и страшная боль. Повсюду. Сосуды хрупки. Кровоизлияния, – хрипло прошептал Эгле и открыл глаза. Берсон достал из кармана обезболивающие таблетки. Эгле мотнул головой.
– Анальгин уже не помогает. Я насчет морфия подумываю. В моем случае…
– Доктор Эгле сказал однажды студенту Берсону: «Морфий – это безнадежность». Если у тебя нет надежды, то у меня она есть. От меня ты морфия не дождешься.
– Тогда дай две таблетки.
Голова Эгле лежала на черном диванном валике. Берсон сидел рядом, смотрел на землистое лицо и думал, что, несмотря на свою пятнадцатилетнюю практику, он все же никудышный врач – ведь он замечал, что у Эгле часто кровоточат десны, но удовлетворялся его объяснением, будто бы кровь из дупла в зубе. Он знал, что у Эгле бывали боли в животе и другие жалобы, которых Эгле не мог скрыть, однако не сумел связать симптомы в диагноз. Старая история: врачи не допускают, что и они могут быть серьезно больны. Автогонщик до самого дня катастрофы уверен, что глубину канав измеряют лишь новички.
Эгле приоткрыл глаза, посмотрел на Берсона и невесело улыбнулся. Берсон обратил внимание на то, что морщины на лице Эгле углубились, и на носу словно бы образовалась горбинка, да и весь он заметно похудел.
– Теперь сам видишь, что нехорошо в одиночестве. Тебе сорок пять или сорок шесть? Я тут наболтал всякой чепухи. Знаю, что ты носишь Гарше цветы из своего знаменитого сада…
Берсон заерзал и встал.
– Если ты в состоянии ехидничать – значит, тебе полегчало. Лежи здесь, тут телефон под рукой.
Эгле остался спать на диване. Рядом до самого потолка полка, набитая книгами. На самом верху видна сероватая кость – челюсть черепа.
«Надо бы сесть поработать, подготовить к сообщению все материалы и выводы по Ф-37. Мысль бесследно испарится, если о ней не оставить следов на бумаге, – размышлял Эгле. – Пожалуй, немного полежу спокойно, не то совсем не смогу работать. Такова уж человечья натура – больше всего хочется работать, когда нет уже сил, а пока сил много, они пропадают даром, словно сдутая с пива пена».
Вошла сестра. Седые волосы заплетены в косицу. Жиденькую, как у первоклассницы.
– Почему ты молчишь? Берсон сказал, что тебе плохо.
– Мне уже хорошо. Где Янелис?
– Я ему велела дров наколоть, а он сбежал на соревнования.
– Послушай, Кристина, я тебе ничего не должен?
– Мне? С чего вдруг такой чудной вопрос?
– Видишь ли, мне нужно навести порядок во всех делах. Что, по-твоему, надо бы сделать по дому, если мне, скажем, придется уехать надолго в командировку?
– На крыше две плитки шифера треснули, в оттепель потечет и доски подгниют.
– А по части наших взаимоотношений с людьми…
Сестра смешала гоголь-моголь с пивом и подала Эгле стакан.
– Об отношениях с людьми не мне судить. Выпей, крепче спать будешь. Дверь не закрывай, если что – позови.
Сестра ушла. Добрая женщина Кристина, но не понимают они друг друга. Замкнутая. Всю жизнь прожила со своим лесником в лесах и разговаривала только с деревьями. А теперь живет одними воспоминаниями.
Пока сон еще не сморил, хотелось о кем-нибудь пооткровенничать. Он сел за письменный стол и положил перед собой лист бумаги.
Перегнувшись через перила, на мостике стояли Янелис и девушка. Ее волосы даже в ночи светло золотились. Они молчали, только глядели в черную воду, которую обступили камыши. Думали, что они первые люди на земле, открывшие вот эту радость – стоять на мосту вдвоем; что до них никто и не представлял, какое это захватывающее приключение.
– А я нырял отсюда, – задумчиво обронил Янелис.
– Задаешься ведь, – покачала головой девушка.
Трудно сказать, было ли это только сомнение или она желала, чтобы Янелис в ее честь бросился вниз головой в черный омут с мерцающими листьями кубышки.
Однако для Янелиса было вполне достаточно даже этого малого сомнения.
– Ах так! – воскликнул он и мигом скинул с себя тренировочный костюм. Девушка повернулась к нему спиной. Почувствовав, как дрогнули перила, она, взглянула на Янелиса, уже изготовившегося к прыжку. Девушке, глядевшей снизу вверх, он показался очень большим.
– Не надо, Янелис! она протянула было руки, чтобы удержать его, но постеснялась – ведь ноги у Янелиса голые. – Не надо, – повторила она, но так, что Янелис не разобрал, в самом ли деле она не хочет, чтобы он нырнул, или говорит только для виду.
Он прыгнул. Описав в воздухе дугу, упруго выпрямил тело и красиво вошел в воду вытянутыми вперед руками. Спокойная темная гладь разорвалась, и беспорядочные волны отразили серебристые кусочки неба. Заколыхались листья кубышки, будто Янелис под водой дергал их за стебли.
Потом из черноты воды показались две ладони рядом. За ними последовала прилизанная водой голова Янелиса и плечи. В несколько взмахов он подплыл к берегу и, забрав с моста одежду, скрылся в ольшанике.
Когда одетый Янелис опять стоял как ни в чем не бывало подле девушки на мосту, его слегка трясло от холода. Девушка чувствовала себя виноватой и взяла его влажную ладонь, чтобы согреть. И вместе с тем она испытывала неосознанную гордость от того, что стоит ей заикнуться – и Янелис прыгнет в воду. Янелис, в свою очередь, тоже немного гордился тем, что смог исполнить каприз девушки.
Думал ли он, что прыжком в воду заслужил больше, нежели молчаливую признательность девушки, когда осторожно положил руку ей на плечо? Думала ли девушка, что поцелуй был бы достойной наградой за храбрость? Они не сказали об этом друг другу, но впервые девушка не отпрянула и только запрокинула, не отводя взгляда, голову. Наверно, ей хотелось увидеть свой первый поцелуй. Когда это не удалось, она закрыла глаза.
Потом они еще немного постояли. Когда волны улеглись и листья кубышки вновь погрузились в ночную дремоту, они взялись за руки и вошли в темноту аллеи.
Эгле писал: «Если б каждый, уходя, успевал рассказать о всех важнейших заключениях и выводах, к которым он пришел за свою жизнь, то, возможно, мы жили бы счастливее, допускали меньше промахов, потому что жизнь, в некотором роде, есть череда свершений и исправлений ошибок. Разумеется, необходимо, чтобы нам доверяли те, кому мы потом рассказываем обо всем этом. Беда в том, что наши наследники, как правило, считают своим долгом ошибаться и учиться только на своих собственных ошибках».
В эту минуту сын Эгле вошел в гостиную. Бесшумно – баскетбольные кеды приглушали шаги. Эгле даже не услыхал бы, но Янелиса выдал радостно заскуливший Глазан.
– Янелис, зайди-ка! – позвал Эгле.
Янелис вошел, сел, положив на колени сетку с мячом. Мяч был его броней и алиби.
– Где ты был?
– Играли с командой Цесиса. Выиграли 56:50.
– Всыпали им, значит. Ты не наколол дров.
Янелис облегченно вздохнул.
– Я опаздывал. Завтра переколю целую поленницу.
После встречи с девушкой он чувствовал себя очень сильным и согласен был рубить дрова хоть сейчас же.
– Через месяц ты окончишь школу. Что ты думаешь делать дальше?
Для Эгле это был вопрос чрезвычайно важный, но Янелис невозмутимо пожал плечами, точно отец спросил, какая картина сегодня в кино.
– А что? Меня же из дома никто не гонит. Есть время подумать. Поживу, подумаю.
– Ну, а если у тебя, скажем, не было бы дома, где пожить, подумать?
Янелис решил, что отец шутит.
– Как это?
– Да так. У меня, например, не было дома. Отец каждый год переселялся в другой дом. О таких джемперах и капроновых носках я даже и не мечтал.
Янелис глубокомысленно наморщил лоб, так что зашевелился весь ежик его волос.
– Тогда ведь капрона вообще не было.
Эгле невесело улыбнулся.
– В твоем возрасте я был остроумней. Учти – одним баскетболом не проживешь. Между прочим, даже самые признанные и высокооплачиваемые баскетболисты заканчивают карьеру к тридцати годам. Работать надо! Ты, полагаю, не захочешь вечно жить за чужой счет. Сначала посидеть на шее у родителей, потом у государства…
– Я? За чужой? Конечно, нет!
– Ну, видишь Янелис, я… выздоровлю скорей, если мне ни о чем не надо будет тревожиться и хлопотать. Пообещай, что после школы ты отдохнешь и поступишь на работу. Выбери себе дело по вкусу, но работай. Учиться можно и после работы, – если захочешь. Тогда я буду чувствовать себя спокойней.
– Конечно, буду работать, только сразу не придумать, куда пойти.
– Хорошо, я тебе верю. Но чтоб по-мужски: сказано – сделано.
Янелис встал. Отец сидел за столом, осунувшийся и поникший. У Янелиса невольно сжалось сердце, и он дал себе слово поступить работать.
В тот вечер больная Дале довязала варежки. Ей они были велики. Варежки она убрала в чемодан – тому, для кого связаны, они понадобятся лишь зимой. Подкрасила губы. Надела туфли на среднем каблуке, в них отекшие лодыжки выглядят стройнее. Спустилась этажом ниже.
В комнате медсестер сидела Гарша и, как бухгалтер со счетами под рукой, листала списки медикаментов и листки, исчерченные синими линиями температурного графика. Иногда на графике вырисовывалась волна. Она означала вспышку туберкулеза, и больной тогда не вставал с постели.
Гарша, ни слова не говоря, достала из сумки коричневую стеклянную банку из-под чувствительного к свету лекарства и подала ее Дале.
Сквозь темное стекло клюква казалась черникой.
– Постарайтесь не задерживаться позже десяти, – попросила Гарша.
Но Дале сейчас думала о другом.
– У него из родных остался один только брат. Он живет под Даугавпилсом.
– Я знаю.
– Вы уже… написали ему? – тихо и хрипло спросила Дале.
– Нет, Абола считает, что не нужно, еще не к спеху. – Гарша пристально поглядела на Дале и добавила: – Не беспокойтесь.
Обе они понимали, что означало «написать брату».
С банкой клюквы в одной руке и пучком чахлых ромашек в другой Дале открыла дверь семнадцатой палаты. В сумерках июньского вечера выделялись белые изголовья и откинутые простыни на постелях. Сосед Алдера поднялся и вышел. Дале и Алдер остались вдвоем.
– Ты?! Не зажигай света, – шепотом проговорил Алдер.
Им не хотелось света – слишком он беспощаден к бледности лиц, к запавшим глазам, к яркой краске на губах Дале.
– Я принесла тебе клюквы. – Дале высыпала ягоды на тарелку и посыпала их сахаром. Она разгладила смятую салфетку на тумбочке, аккуратно расправила пузырьки с лекарствами, налила воды в вазочку. С подоконника убрала кислородную подушку, а вместо нее поставила ромашки. Незатейливый цветок – желтая серединка и белые лепестки вокруг. Дети так рисуют солнце. Вот теперь это уже не санаторий, а субботний вечер дома. В открытое окно из зеленых сумерек парка прилетело душистое веяние леса, только его слегка забивал сухой запах хлорамина. Хлорамином тут мыли полы, хлорамин наливали в плевательницы.
Дале присела возле кровати и вынула ноги из лодочек – ныли отекшие ступни. Она накрыла своей ладонью ладонь Алдера и ощутила липкую влагу пота.
Алдер показал рукой на окно.
– В Видземе ромашки зовут белыми цветами. – Он говорил медленно – Дале не должна заметить, сколько вздохов требуется ему для такой короткой фразы. – Перед войной на улицах собирали пожертвования для борьбы с туберкулезом. Каждому, кто давал деньги, прикалывали на грудь белый бумажный цветок. У меня тогда не было денег.
– Я не помню. Мне тогда было всего десять лет. А как я первый раз приехала в «Арону», ты помнишь? После войны. Старые больные меня все спрашивали, знаю ли я, что означают буквы «тбц». Туберкулез, сказала я им. Нет, говорили они; «тбц» означает: тэ бейдзас цельш, тут кончается путь.
– Помню.
– А мы вот живем уже шестнадцать лет, – успокоила его Дале. – Наш Эгле почему-то с палочкой ходит. Вид у него совсем больной.
Алдер пошарил под подушкой.
– У меня тут журнал. Там про Эгле есть. Он при помощи Ф-37 вылечил морских свинок. Хотел бы я быть на месте морской свинки.
– Сегодня на обходе Эгле, говорят, рассказывал анекдот про лягушку-оптимистку. Он, верно, просто переутомился от работы. Даже наверняка. А держится, знает, что болеть не имеет права.
– Сегодня у меня совсем не было крови.
В коридоре послышалась тихая музыка. Песня про рижские мосты. Алдер и Дале помолчали, глядя на ромашки.
– Подумать только, – десять лет прошло с того вечера… на мосту через Дзелве, – прошептал Алдер.
– Мы тогда опоздали к отбою. Гарша пожаловалась Эгле и нам попало.
– В тот год я говорил, что нам надо пожениться, одно легкое у меня было еще почти целое. Хорошо, что мы не сделали этого.
– У нас не было бы детей. Мне запретили. Если б и родился ребенок, он рос бы без матери.
Алдер сел на постели и прокашлялся. Дале взбила подушку и положила повыше; после приступа кашля Алдер остался сидеть. Она придвинула стул к изголовью кровати, чтобы было удобней держать его руку.
– Все из-за меня. Кочевал из санатория в санаторий, какая уж тут жизнь.
– Ты тут ни при чем. Если б тебя в войну не выгнали из санатория, ты сегодня не лежал бы здесь. Если б тогда были такие лекарства, как теперь, и у меня не было бы очагов.
– Слишком рано мы родились.
В коридоре послышались шаги. Это больные расходились по палатам. Как хотелось еще побыть вдвоем. Десять лет вот так крадут они уединение.
Оба повернулись к окну и подумали, как бы хорошо погулять по дорожкам парка; они ходили бы тихо-тихо, и дыханья хватило бы. Капли росы с травинок опадали бы на туфли, и на них налипал песок.
– Я не поеду домой, пока у тебя не пройдет вспышка. – Дале присела на край кровати и склонилась к Алдеру.
– У тебя кончается срок лечения.
– Я придумала, как сделать, чтобы меня подержали еще.
Алдер положил руку ей на грудь.
– Ты у меня храбрая! – сказал он.
– А чего мне бояться? – удивилась Дале. – Что о нас, неженатых, скажут люди? Или стыдиться того, что мы больны?..
Если бы не запах хлорамина, в палате царила бы только тихая июньская ночь, напоенная ароматами пробудившегося лета.
В дверь постучали.
– Это сосед… А мы все-таки сходим на мостик через Дзелве. Правда, купаться этим летом я не буду.
Прошло еще несколько дней. Как-то утром Эгле увидел у санатория большой серый автобус «Икарус». Это была передвижная флюорографическая установка тубдиспансера. Рентген на колесах, с помощью которого иногда делали по четыреста снимков легких за день.
– Почему не отправляетесь, солнце вон уже где! – крикнул Эгле рентгенотехнику.
– От вас должен с нами ехать врач, а никого нет. Недалеко, на мелиоративную станцию.
Подошла Гарша.
– У Берсона отгул за ночное дежурство. Абола с Миклавом у больных. Диспансер не согласовал с нами.
Эгле взялся за поручень.
– Я съезжу.
– Вам надо отдыхать, – тихо возразила Гарша, и, уперев руки в карманы передника, уставилась на Эгле. Упорный взгляд ее карих глаз заставил Эгле потупиться.
– Нет. Может, там есть больные. И потом, если я занят работой, мне не думается… об отдыхе. Мне бы такое лекарство, чтобы я мог все время работать.
– Весь мир вам все равно не вылечить.
– А один район вылечу. А если и не район, то хотя бы одного человека. Если б нашелся доктор, который вылечил только меня одного, я был бы на седьмом небе от счастья.
Шофер подал ему руку, и Эгле поднялся в высокую машину.
Гарша проводила взглядом серый автобус, который, оставляя за собой на леске морщинистые следы от громадных шин, скрылся за деревьями парка.
По липовой аллее они подъехали к бывшему Аргальскому замку, с надстроенным из желтого кирпича третьим этажом и крытым серебристо-серой оцинкованной жестью. Теперь здесь была школа. Как и полагалось в старину культурному центру, неподалеку расположилась корчма. В ее толстых стенах пробили большие окна, чтобы в мастерских мелиоративной станции было достаточно света. Сразу за мастерскими начинался лужок, чистый и гладкий, на котором безжалостные трактора чудом не продавили ни одной колеи. На утоптанной, как гумно, середине лужайки трава не росла – по вечерам здесь устраивали танцы. На этот раз вокруг танцплощадки народ собрался уже в полдень. Люди были разные – и те, что вполне могли бы потанцевать, и те, что уже только рассказывали, как лихо они отплясывали «в свое время», когда еще были «настоящие» танцы.
Все сидели в ожидании. Старикан с редкой в нынешние времена окладистой седой бородой обратился к соседу:
– Нынче все-таки больше хворают, чем в наше время.
– В старину ведь как бывало: кто умер, тот умер, кто не умер – тот жив остался, – согласился сосед.
Автобус въехал на танцевальную площадку. Пока рентгенотехник налаживал аппаратуру и подключал провода питания, Эгле вышел. Подошел директор мелиораторов, широкоплечий мужчина в галифе и шоферской фуражке.
– Ну, что тут у вас новенького? – поинтересовался Эгле.
– Получили новые машины, но завод пока выпускает технику без водителей, – разве их теперь наберешься. Я на днях читал, будто бы один итальянский профессор в пробирке искусственного человека вывел.
– На науку не полагайтесь. Лучше справляйте свадьбы почаще.
Оказавшийся рядом лохматый парень решил блеснуть остроумием:
– Доктор, а как с медицинской точки зрения – танцевать полезно или нет?
– Зависит от того, умеешь ли танцевать и нет ли бородавок. Если все в порядке, то разрешается дважды в неделю по три часа. Если чаще, то можно заболеть расширением сердца и печени, – ответил в тон ему Эгле.
Медсестра вышла на ступеньку автобуса и объявила:
– Приступаем, товарищи. Сперва пропустим колхозников, они живут дальше.
Гривастый парень тут же добавил:
– Правильно, а то у коров молоко прокиснет.
У автобуса выстроилась очередь.
Техник наставлял каждого входившего:
– Раздевайтесь до пояса.
– И рубашку? – спросила одна из женщин.
Техник давно заметил, что чем старше человек, тем он стыдливей, и пожилые люди предпочитают оставаться в рубахах.
– Если пуговиц нет, можете не снимать.
– У меня льняная, пройдут ли лучи-то? – уточняла та же самая женщина.
– У этого аппарата лучи сильные, только через шерстяную одежду не проходят, – пояснил техник с серьезным видом.
В перерыве Эгле обратил внимание на небольшого роста девушку с льняными волосами и стройного юношу. В очереди они стояли довольно далеко друг от друга. Несколько раз они невзначай встречались взглядом, но тут же отворачивались. Наконец девушка опустила голову и стала теребить кончик платка, как это часто делают деревенские. «Сердечное недомогание», – констатировал про себя Эгле.
Флюорограф быстро пропустил через себя окрестных жителей. «Вдохните. Задержите дыханье!» Щелчок выключателя и – «Следующий!».
Все происходило просто и деловито, как на заводском конвейере. Без такой конвейерной системы мы не смогли бы просмотреть за год сорок тысяч легких. И если лишь в пяти или шести из них обнаруживается свежий очаг туберкулеза и его вылечивают, то – да здравствует эта механизация!
В лаборатории, помещавшейся рядом с флюорографом, техник успел проявить первые ленты снимков. Эгле выключил негатоскоп и стал разглядывать через увеличительное стекло легкие местных жителей. Его натренированный глаз быстро отыскивал в лабиринте теней именно то место легкого, где побывала или гнездится болезнь, требующая немедленного лечения. Глядя на снимки, Эгле забыл обо всем, он испытывал удовлетворение, даже гордость, что он не поддается болезни и что глаз его по-прежнему зорок.
Потом он вернулся в помещение флюорографа. Там как раз находились ребята-мелиораторы. Они шутили, напрягали бицепсы и хвастались игрой мышц под загорелой кожей; они были здоровы и все казалось им нипочем. Но Эгле не провести этой напускной шумливостью. Он знал, что хоть они своими тракторами и выдирают с корнем тридцатилетние березы, точно это воткнутые в землю метлы, однако за экраном рентгеновского аппарата им все же становится не по себе. Ведь и в самом деле – черт его знает, что этот сноп невидимых лучей высветит в твоих здоровых легких, силищи у которых в иной вечер хватает, чтобы разбудить весь поселок…
– Пусть останутся тридцать седьмой и сто пятьдесят шестой, – сказал Эгле.
Вскоре Эгле сидел с тридцать седьмым номером в углу автобуса. Тридцать седьмым оказался высокий, но еще прямой седоголовый мужчина, в бороде у которого белые пряди переплетались с черными, как шерсть от разных овец.
– В среду приезжайте в санаторий «Арона». Еще вас разок поглядим, – наказал ему Эгле, глядя в окно. Люди постепенно расходились по аллеям, и на лавочках у танцплощадки осталась лишь кучка молодежи, у которой всегда больше времени и разговоры важнее.
А тридцать седьмой пристально смотрел на Эгле.
– Чахотка, что ль, а?
– Чахотка не ест старое мясо.
– Тогда рак? У стариков, если не чахотка, то рак.
Теперь уже Эгле пристально смотрел на старика.
– Я этого не сказал.
– Но вы и не сказали, что у меня нету рака.
– Не только рак да чахотка водятся в легких. Я только сказал, что надо основательней проверить.
Старик, впрочем, не слишком разволновался.
– Мне семьдесят семь. Я бы и отдал свою ложку другому, да надо протянуть еще с полгодика, потому как невестка новостей ждет. Глядишь, родится мальчишка, вот тебе и… заместитель.
– Не беспокойтесь. Теперь даже рак лечат.
– Слыхал.
Эгле пристукнул палкой по полу. Звук получился глухой, потому что пол был крыт линолеумом.
– Вот я и говорю, что вы будете жить! Возможно, еще и на луну слетаете взглянуть, как наш Аргале сверху выглядит.
Старик весело прищурился и пощипал бороду.
– А что, у меня духу хватит!
– Дух – это главное. – Эгле пожал старику руку на прощанье.
Потом он видел, как тот, ведя под руку жену, удалялся по аллее и что-то рассказывал. «Сегодняшний осмотр – событие в его жизни. Вечером все услышат от него подробный рассказ о том, как щелкал выключатель и шипел аппарат, и жена, возможно, добавит от себя, что даже чувствовала, „как лучи проходили через кожу“. Женщины, они всегда чувствуют тоньше. Хоть бы не рак… Ему, самое малое, нужно еще полгода».
Перед Эгле села сто пятьдесят шестая. Ирена Лазда. Ага, та самая невысокая, застенчивая девушка с гладкими льняными волосами до плеч. И все теребит свой платочек.
– В среду приезжайте в санаторий, посмотрим вас еще разок, но у меня такое впечатление, что вам надо будет полечиться.
– Мне? – недоверчиво переспросила девушка, глядя на него исподлобья.
– У вас свежий туберкулез левого легкого.
– У меня?
– Мы его быстро вылечим. Теперь у нас есть чем лечить. Например, Ф-37.
– У меня?! – Девушка, казалось, не представляла себе, что и она может заболеть туберкулезом.
Эгле решил больше не повторять слово «туберкулез». Не всякий ведь понимает, что туберкулез в наши дни это не былая чахотка, понятие о которой всегда связывалось с лихорадочным румянцем на щеках и гробом посреди комнаты.
– Весной вы ничем не болели? Например – гриппом?
– Вроде бы не болела. Вот только уставала очень. Воду для коров из пруда таскала.
– Тогда, может, переживания какие-нибудь? – Эгле посмотрел на пленку и с хитринкой добавил: – Да, вижу, вижу, есть тут ранка на сердце…
Девушка потупила взор, чтобы скрыть подступившую слезу.
– Да-а… – со вздохом призналась она.
– Вы не первая, у кого весна… оставляет свой след на легких. Видите, каково нам, врачам: вы любите, а мы ваши раны залечиваем.
Девушка теперь и вовсе опустила голову, гладкие волосы закрыли лицо. Поднесла к нему платочек.
«По всей видимости, три четверти мирового количества носовых платков расходуют женщины», – подумал Эгле и сказал:
– Не плачьте. Чтобы любить, надо иметь здоровые легкие. Вылечим. Обещаю!
Девушка подняла голову.
Когда она пересекала площадку в направлении аллеи, Эгле вдруг испугался: а что, если лечение потребует целого года? Впрочем, ведь есть же Берсон.
Однажды утром Эгле, подъезжая к санаторию, увидел около него чужой «газик». На широких ступенях лестницы стоял Вагулис, и уже не в сером халате, а в летней клетчатой рубашке. Он кинул свой чемодан, и в машине кто-то подхватил его. Верзила-плотогон поглядел вокруг, кивком головы послал последний привет санаторию, больным и сбежал вниз.
– Простите, доктор, если что не так… – Вагулис дружелюбно протянул руку.
– У меня слабая память, мелочи не запоминаю. Ну, так прощайте и чтоб нам не встречаться!
Вагулис настороженно раскрыл свои по обыкновению чуть прищуренные глаза и стал похож на кота, заметившего мышь.
– Это почему же вы не желаете меня видеть?
– Вы здоровы и больше к нам не вернетесь. Вот так.
– Ах, вон оно что, – засмеялся Вагулис.
Он долго не мог втиснуться в тесный «газик». Когда же машина, громко зарычав, прыгнула вперед, снаружи еще оставалась рука Вагулиса, на прощанье он размахивал ею, как веслом. И все, кто стоял тут, помахали ему вслед.
«Вот и Вагулис уехал. Мы с Алдером остаемся. Мы – штатный инвентарь санатория», – подумал Эгле. В комнате отдыха Гарша распекала длинного Вединга. Вединг сидел в удобном кресле под пальмовыми ветвями и латал сломанную папиросу.
«Бережлив. Нынче сломанные папиросы выбрасывают. Время, потраченное на заклейку, дороже папиросы. Кажется, он работает бухгалтером в оперном театре».
– Ну что с вами делать, Вединг, вы прямо как Вагулис! – упрекала его Гарша.
– Нет, Вагулис курил много, выздоровел и только что уехал, а я курю мало и все еще тут. – Он кивнул на молоденькую блондинку в соседнем кресле, читавшую журнал. – Глядите, Лазда не курит, а все равно болеет. Разве на этом свете можно что-либо понять? И вообще, в чем есть логика? – Его тонкие губы под крючковатым носом растянулись в кривую улыбку.
«Последовательный пессимист. Законченный и стойкий». Эгле даже повеселел немного. Гарша тоже засмеялась и сердечно посмотрела на Вединга.
– Вединг, в тот день, когда вы не ухмыльнетесь, а улыбнетесь, вы станете здоровым.
Вединг смутился.
– Я не верю в такое дешевое лекарство. – Но папиросу он все же бросил в корзину для бумаг.
Эгле поджидали в кабинете двое элегантно одетых мужчин и женщина. Это были члены так называемого «общества» «Арона».
Общество это нигде не было зарегистрировано, не имело устава и не взимало членских взносов. Оно возникло в пятидесятых годах, когда здесь в летние и зимние каникулы лечились несколько студентов. Выздоровев, они раз в лето приезжали навестить Эгле и отмечали счастливую встречу на берегу Дзелве. Двое из них были архитекторы и участвовали в проектировании нового здания «Ароны». Теперь же они явились обсудить некоторые поправки к проекту.
Архитектору с усиками Эгле некогда поддувал легкие. Умело сшитый костюм надежно маскировал впалую архитекторскую грудь и плечи разной высоты.
Они развернули на столе рулоны чертежей, разложили с дюжину иностранных журналов и принялись спорить. Женщина спорила не менее горячо, потому что сама тоже перенесла туберкулез и на этом основании считала себя вправе отстаивать свое мнение. Теперь она работала в министерстве финансов и имела отношение к финансированию здравоохранения.
Усатый архитектор плюхнулся в кресло и жалобно запричитал сипловатым голосом:
– За месяц не успею. Так я в два счета наживу чахотку.
Рука Эгле играла песочными часами, он успокаивающе улыбался.
– В противном случае мы не попадем в титульный список будущего года. Сделаете. Если нет – я попрошу заведующего вашим диспансером найти у вас в легких свежий очажок и направить к нам. Тогда у вас хватит времени на работу.
– Мои очаги тверды, как кремни для зажигалки.








