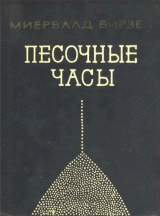
Текст книги "Песочные часы (Повесть)"
Автор книги: Миервалдис Бирзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Это, дорогой мой, известно только врачу. С медициной шутки плохи.
– Ладно. Раз дело дошло до угроз, я сдаюсь. Тогда договаривайтесь с институтом, пусть меня освободят от других работ.
– Это мы устроим. Доктор Берсон был полковым врачом у директора института.
Вмешалась женщина:
– Вы слишком большую ставку делаете на блат.
Эгле сделал невинные глаза:
– Что вы! Вовсе не на блат. На бывших и на возможных больных. А кто может поручиться, что он не заболеет? Даже автоинспектор не может, хотя важней его начальников нет, поскольку его решения не обжалуются.
Женщина засмеялась.
– Средства мы поищем.
– Ищите, ищите. Знаете, на будущий год я, возможно, уйду на пенсию, поэтому хотелось бы все заранее утрясти.
– Вы – на пенсию?! Не могу себе представить вас сидящим дома.
– Пенсия для меня важна тем, что я смогу дольше спать по утрам. А теперь я вас отвезу в Ригу.
В Риге Эгле сдал кровь на очередной анализ, после чего зашел в кафе-мороженое в центре города, так как почувствовал усталость. Другим он любил рекомендовать отдых за городом, в тиши полей, где слышно лишь гуденье пчел. Сам же искал на этот раз отдыха в городском шуме. Эгле сидел, потягивая кофе, и шелест чужих разговоров и автомобильный гам, доносившиеся с улицы, успокаивали его.
Напротив кафе, в листве лип виднелись бледно-зеленые шарики будущего липового цвета. До осени еще далеко: Эгле нащупал в кармане сложенную бумажку. Это было заявление с просьбой об отпуске. Надо бы переписать, в кармане листок помялся. Позавчера группе больных начали давать Ф-37. Архитектор обещал поторопиться с доработкой проекта. Интересно, как пойдут дела у Вединга, Лазды и других, кто принимает Ф-37. Если надежды не оправдаются, то надо снова думать и думать…
За столик сели двое юношей. Пальто из тонкой непромокаемой ткани с погончиками на плечах они не сняли. Это модно, современно. Для чего нужны погоны? Может, под них надо пропускать ремешок от фотоаппарата или засовывать перчатки? Но перчаток у них нет. «У меня туфли на толстой микропоре. В дождь ноги не промокают, и меня не мучит насморк. Десять лет назад толстые подошвы намекали бы на легкомысленный нрав их обладателя. Взгляды меняются. Интересно, какой ширины будут носить брюки через пять лет?»
Эгле снова погрузился в раздумье, рука его машинально двигала чашечку с кофе. Наверно, сидевшим напротив ребятам он показался смешным тем, что таращился в окно, вытянув жилистую шею, и глупо подпихивал свою чашку. Они с ухмылкой подтолкнули друг друга локтем. Эгле заметил жест и вздрогнул.
Он почувствовал, что на какое-то время ускользнул из-под собственного контроля. Это большое искусство – уметь всегда видеть себя со стороны. «Воспитанный человек делает это всю жизнь. Стало быть, хорошее воспитание включает в себя искусство наблюдать за собой со стороны. Подчас это не легко. Меня ранили злые духи, именуемые рентгеновскими лучами. Этих духов вызвал сам человек, он иногда еще не умеет справляться с ними. Человек навызывал множество разных духов, которые спали вечным сном, вплавленные в руду и погребенные на километровых глубинах под землей, но повелевать ими еще не в силах. От радиоактивных излучений ежегодно заболевают и гибнут люди, которые могли бы и не умереть, если б человек не был столь умен и не научился расщеплять атом. А я лично голосовал бы, например, за запрещение рентгена», – рассуждал Эгле.
Спиной к нему, у двери, стоял плечистый человек невысокого роста, в вельветовом пиджаке и берете. Человек высматривал свободное место. Потом он повернулся, и Эгле сразу узнал в нем своего старого друга, скульптора Мурашку. Тот, заметив Эгле, радостно устремился к нему с распростертыми объятиями, забыв про солидность и приличия.
– Ты до того заработался, что тебя и не узнать – такой тощий! – воскликнул он, снимая берет.
– А ты дотанцевался до того, что макушка заблестела, – не остался в долгу Эгле.
– Зачем мне волосы! Я теперь могу себе шляпу купить. Раз уж встретились, пошли ко мне, вспомянем годы молодые!
Мастерская Мурашки помещалась в небольшом флигеле на Гризинькалне. Эгле бывал тут не часто и всякий раз, оказываясь в светлом помещении со стеклянным потолком, чувствовал себя так, словно бы попал в другой, странный мир. Белые и серые, припудренные пылью, скульптуры казались ему завороженными живыми существами. Когда эти два пришельца уйдут, мастерская оживет. Сам чародей стоял здесь же и, как ребенок, ожидал похвалы за то, что некогда подарил вечную юность ныне уже пожилой даме, запечатленной в стоящем у окна бюсте. Молодая женщина с грустной улыбкой смотрела в окно, поверх крыш. Ветер задрал на одной из них ржавый лист железа. Женщина не замечала его, она смотрела на липы Гризинькална, стоявшие на вершине холма и господствовавшие над всем кварталом. Эти липы тоже не стареют, оттого что под ними встречаются юные. В другом углу студии, надув щеки, на камне восседал озорной мальчишка. Его бронзовый двойник в парке пускал изо рта струю воды в бассейн. Мать прижимала к груди завернутого в гранитный платок младенца. Не обращая ни малейшего внимания на пришельцев, работал пневматическим долотом полуголый гипсовый мужчина с напряженными мускулами, можно было подумать, что он хочет во что бы то ни стало сегодня разрушить скалу и проложить дорогу для других. На прикнопленных к стене листах бумаги обитали нагие женщины; они не стыдились своей наготы, зная, как прекрасны. И тут же стояла стянутая ржавыми обручами кадка с серой глиной, валялся линялый халат, электромотор и обрезиненный кабель, рос в горшке мирт высотой с человека. Ленивая кошка на тахте подняла голову, продолжая безбоязненно греть хозяйское ложе.
Эгле почувствовал, что его лицо расплывается в улыбке.
– В этой комнате щедро дают взаймы, – проговорил он.
– У меня? – Мурашка в искреннем недоумении вывернул наружу пустые карманы брюк.
– Да. Дают взаймы жизнерадостность.
Мурашка басовито расхохотался и принялся ходить по мастерской, так как подолгу стоять на месте он мог только когда лепил, когда его руки были по локоть в серой глине. Потом он вдруг остановился и кивнул на скелет в затененном углу.
– Жизнерадостность? Да, чего-чего, а этого у меня хватает в каждом закутке. Помнишь, как ты мне этого типа по косточкам перетаскивал из анатомички, когда мы еще студентами были?
Эгле посмотрел в глазницы черепа, безучастно вперившиеся в окно.
– Я надеюсь, он простит меня.
– Сейчас я покажу тебе свое младшее детище.
Мурашка подошел к стоявшей посреди мастерской скульптуре под полотном. Он откинул покрывало, сдвинул на затылок берет, упер руки в бока и, явно в ожидании похвалы, уставился на Эгле.
– Ты думаешь, я только балагурить горазд? Мне вот пришло в голову, что жизнь – это не розовый сад, но еще и борьба, в которой побеждаем мы.
Эгле взглянул на скульптуру и согласился, что Мурашка умеет не только балагурить. У Эгле возникло чувство, будто он встретил знакомого. Он не позировал Мурашке, но тем не менее это был его двойник. Эгле медленно обошел вокруг изваяния высотой в полтора человеческих роста.
Мускулистый юноша пытался оторваться от земли. Он устремился вверх, но его ноги увязли в неотесанной глыбе камня. Грубый тяжелый камень сковывал его, тянул назад. В запрокинутой голове, в упругих морщинах лба читалось напряжение всех сил. Борьба с тупой каменностью, которая пытается вобрать, поглотить тело юноши, – отчаянная борьба. И об этом кричат его руки, тревожно и туго обхватившие плечи.
Мурашка сразу заметил, что Эгле посерьезнел, даже взволновался. Довольный, что новая работа вызвала отклик в душе старого друга, он пояснил:
– Идея состоит в том, что без борьбы в широком смысле слова с… с так называемой судьбой, роком человек не имеет права сдаваться.
Эгле поборол в себе волнение и опустился в плетеное кресло.
– Да, твое каменное детище изрядно превзошло тебя самого. Будь у меня много денег, я заказал бы себе такой памятник.
– Погоди, вот вытешем его из гранита, тогда посмотришь!
– Да, очень кстати я тебя повстречал, – будто вспомнил Эгле, глядя на голого гипсового мальчика с надутыми щеками. – Ты не мог бы отдать кое-что санаторию? Мы построим новый солярий для воздушной и солнечной терапии, там будет бассейн и красивый сад.
– И для красивого сада тебе нужны красивые женщины?
– Пусть будут и женщины. Каменные женщины не повредят.
– Ну а… деньги, скажем, на камень, у вас будут?
– А в порядке шефства ты не мог бы?
Мурашка глубокомысленно воззрился на свой ботинок.
– Можно и в порядке шефства, но ты тогда передай моему сапожнику, чтобы он мне в шефском порядке поставил набойки.
– Поэзия и проза. Ты же художник, – вздохнул Эгле. – Ты твори знай. Твори лучше! Тогда твои работы приобретет министерство культуры, а мы из министерства вырвем себе, это уж точно. Поехали, покажу тебе этот сад.
Мурашка налил в банку из-под килек молока для кошки и взял фотоаппарат.
Эгле оставил свой «москвич» на стоянке неподалеку от кафе. По пути туда они задержались у старинного серо-зеленого дома с мансардой. Из ската закопченной черепичной крыши глядели на Задвинье древние оконца на шесть стекол. Эгле с Мурашкой, не сговариваясь, задрали головы кверху.
– С тридцать третьего по тридцать пятый, – сказал Мурашка.
– Первое жалованье врача ушло на долги квартирному хозяину.
Окно отворилось, в нем показался юноша в синей рубахе и с небольшой бородкой. Он рассеянно смотрел куда-то поверх крыш, и можно было подумать, что он встал из-за стола, заваленного учебниками, чтобы расправить затекшую спину.
– В молодости нередко случается жить на чердаке, – задумчиво сказал Мурашка.
– Все правильно. У молодых сердце здоровое, легче подыматься. Я бы каждые десять лет переселял людей на этаж ниже.
– Тогда тебе до мостовой осталось еще двадцать лет, – засмеялся Мурашка. – Ладно, пошли.
Впереди трое мужчин перекидывали в подвальное окно большую кучу каменного угля с тротуара.
– Ты лечил в этом доме дочку дворника, помнишь?.. На последнем курсе…
– Я показывал ей песочные часы, считал пульс и лечил надеждой. В санаторий она не поехала, не на что было, а Красный Крест не мог всех лечить бесплатно.
Они свернули за угол. На другой стороне улицы аляповатая вывеска «Тир» приглашала желающих пострелять.
– Может, зайдем, проверим глаз, как бывало, а? – предложил Мурашка.
Эгле не стал возражать.
…Он в задумчивости стоял у стойки тира и словно впервые в жизни разглядывал всех этих жестяных зайчиков, чертиков, зацепившихся хвостами за трапеции мартышек, черных тетеревов, с которых давным-давно облезла краска.
– Ты помнишь, тогда еще стреляли на призы, и тебя просили не стрелять, ведь тебе доставалось все шампанское, – напомнил Мурашка.
– Рука и глаз врача! – Эгле горделиво вложил большой палец в карман жилета.
Трое мальчишек заняли все три ружья. Эгле подмигнул другу, затем строго произнес:
– Санитарный контроль! У кого тут грязные руки? А ну-ка, показать!
Ребятишки вмиг забыли, что они не в классе, что человек в шляпе вовсе не их учитель, и тотчас же положили ружья на стойку и предъявили ладони.
Мурашка собрал ружья.
– У вас еще вся жизнь впереди. Обождите малость.
Эгле прицелился. Ствол ружья заметно подрагивал.
– В черта, – сказал Эгле и нажал спусковой крючок.
Стоявший под чертиком пузырек с чернилами опрокинулся.
– Рикошет.
Эгле чувствовал, что от напряжения и досады у него вспотела шея и к ней прилип воротничок.
– Больше никогда не буду стрелять. Нет уже тех ружей, что были тогда.
Мурашка повернулся спиной к жестяному зверью, положил ружье на плечо прикладом вперед и стал целиться через зеркало.
– Промажешь так же, как я, – оживился Эгле. – Спорим… на бутылку шампанского.
– Тогда-то уж я наверняка попаду, – дружелюбно согласился Мурашка. Он стрелял и сам же комментировал: – Зайцу капут! Обезьяне по хвосту! Последнего черта ухлопал!
Эгле купил шампанское, и у Домского собора они сели в машину.
По дороге в санаторий Эгле остановился около мостика через Дзелве.
– Здесь тоже кое-что есть от нашей молодости, – напомнил Эгле.
– Молодежь часто стоит на мостах, – согласился Мурашка.
Дзелве в этом месте больше походила на маленькое озерко. Дальше она продолжала свой путь узкой речушкой, хоронилась в густом ольшанике. Под мостом вода была глубока и спокойна. Течение почти не чувствовалось. Розовеющие к вечеру облака и лица двух мужчин отражались четко, как в зеркале.
– Когда-то мы тут нагишом кувыркались через голову, – вспоминал Мурашка.
– В молодости мне приходилось убивать время на глупости самому. Теперь у меня есть сын, – заметил Эгле.
– А потом глупости будет делать твой внук.
– А за ним правнук. Поехали.
Они бродили по территории будущего строительства. Эгле с увлечением рассказывал о новом здании и солярии, а Мурашка фотографировал живописные уголки парка, чтобы на досуге подумать, чем их украсить.
Начало смеркаться и потянуло прохладой. Эгле и Мурашка направились к дому. Мурашка шел впереди, размахивая бутылкой, как дубиной.
На веранде их встретила Кристина. Янелиса дома не было. Друзья расположились в кабинете. Вскоре вошла Кристина и, ни слова не говоря, поставила на столик поднос с бокалами и тарелку клубники.
Они не зажигали света. Блеклый закат проникал сквозь ветви яблонь, вязь дикого винограда перед окном и золотил часть стола. Легкие сумерки уже обволокли глубокие кресла и книжные полки черным тюлем.
После первого глотка вина Эгле достал свои пузырьки с лекарствами и бросил в рот несколько таблеток.
– Это еще зачем? – спросил Мурашка.
– Чтобы дольше жить.
– А это? – Мурашка поднял брови.
– Одно другому не мешает. Выпьем!
Мурашка закурил. Эгле тоже протянул было руку за сигаретой, но спохватился и отдернул ее.
– У тебя есть характер. Хоть и не бог весть какой, но характер, – усмехнулся Мурашка.
– Нету. Вот если б я никогда не курил вообще, тогда можно бы говорить о характере.
Эгле достал платок и приложил его к губам. На платке осталось темное пятно. В сумерках было не понять, красное ли оно. Оно было темное.
– Ты меня извини за дурацкий вопрос, но… все же, – заговорил Эгле. – Что бы ты стал делать, зная, что через полгода должен умереть?
Это в самом деле прозвучало странновато, но не настолько, чтобы обескуражить Мурашку. Вот если б Эгле вдруг сказал, что у него есть деньги на покупку парохода, тогда было бы чему удивляться. Он отпил большой глоток вина.
– Я бы тут же перевел в гранит тот гипс, что ты видел у меня. Как раз на полгода работы.
– Верно! Надо закончить скульптуру, – как бы самому себе сказал Эгле. Затем поднял крышку радиолы, достал из шкафчика альбом с грампластинками и в нерешительности глядел на него, словно не знал, как поступить с ним дальше.
– Что это? – поинтересовался Мурашка.
Эгле раскрыл альбом.
– Это моя биография в музыке. Каждому десятилетию соответствует одна пластинка. Знаешь, мне охота сегодня поболтать, выговориться. Ты – гость, и хотя бы из вежливости должен слушать. Обычно слушать бывает некому. Вот это марш Фучика «Восстание гладиаторов».
Он поставил пластинку. Под звуки бравурной военной музыки Эгле начал рассказывать:
– Этот марш я запомнил, потому что его играли на гуляньях пожарники в ту пору, когда я еще ходил в пастухах. Гулянья бывали в излучине Дзелве. На деревьях развешивали бумажные, похожие на гармошки, цветные фонарики. Вечером в них зажигали елочные свечи. Рядом с эстрадой для музыкантов, у буфета пожарники потягивали пивцо и в такт пристукивали бутылками, помогая капельмейстеру. Мой отец здесь, в Аргале, арендовал землю. Вечером, бывало, загонишь свиней и, как есть в постолах, – на гулянье. В ту пору мне этот марш казался вершиной музыкального искусства. Я подсвистывал оркестру и мечтал выучиться на дирижера или на пожарника, потому что пожарники носили блестящие каски и красивые топорики. Сегодня я не дирижер и не пожарник. Мечты не сбылись, – усмехнулся Эгле, приглаживая залысины.
– А я мечтал стать телефонистом. У телефонистов есть приспособления взбираться на столбы. В детстве все любят лазать по деревьям, наверно, чтобы доказать свое обезьянье происхождение.
Эгле поставил новую пластинку.
Послушаем следующую. Это вальс «Хочу танцевать». Он рассказывает про школьные годы, когда я стыдился коротких рукавов своего пиджака, но все же танцевал.
Зелень в саду потемнела. В сумраке комнаты светлыми оставались только лица, руки и белая сорочка Эгле.
– В каждом возрасте свои печали, – сказал Эгле, когда зазвучало «Сомнение» Глинки. Глубокий альт пел о тоске, о сомнениях. Мелодии вторила виолончель. Даже если бы эта грустная песнь не имела слов, то все равно было бы понятно, о чем она. – В то время я изучал медицину. Моя жена училась в школе Красного Креста. Бывало, весной просидишь ночь над книгами, а утром шпаришь из Старой Риги на Гризинькалн. Ходишь, ходишь около ее школы, потом соберешься с духом и запустишь в окно ветку сирени. На дворе в эту пору только дворник да воробьи сообща убирают улицу. Воробьи ничего, а вот дворник считал меня «подозрительной личностью» и грозил метлой. Тогда-то ко мне и пришло убеждение, что самую большую радость человеку может доставить другой человек.
– Это верно. Если случается найти красивую модель – работа спорится отменно. – Мурашка опять закурил.
Эгле прогнал дым к открытому окну.
– Бесстыжий ты тип! Разве в искусстве изображают только красивых людей? Налей еще.
Запищали первые комары. Сердито и настойчиво. В большой комнате они чувствовали себя ничтожными пылинками и потому громко подбадривали друг друга. Эгле поставил следующую пластинку.
Раздались грозные аккорды – предвестники грядущей борьбы. В мелодии нарастала тема тревожности.
– Это будет посерьезней, – сказал Эгле. – «Эгмонт». – Эгле закинул голову на тугую, гладкую кожу спинки кресла. – Про эту пластинку расскажу подробней. Она занимает важное место в моей жизни и вызывает в памяти сороковой и сорок первый годы. Государственный строй у нас изменился, но туберкулез остался. И посейчас помню один день. Двадцать четвертое ноября. Это было еще до того, как ты подарил мне девочку с ягненком и на стене не висел портрет Павлова. Я сидел в своем кабинете. И телефонный аппарат был не из черной пластмассы, и трубка лежала на никелированной вилке.
Мне принесли свежую почту. Прислали декрет Совета Народных Комиссаров: лечение – бесплатно!
Действительно, событие, достойное увертюры к «Эгмонту». Я бегал по коридору и размахивал декретом. Тогда я еще мог бегать. Около санатория схватил за узду лошадь и остановил дрожки, на которых уезжали на станцию выписавшиеся больные. «Назад, за санаторий платить не надо! – крикнул я им. – На митинг!» Тогда митинги были в моде. В зале я зачитал документ и сказал: «Советская власть – это начало победы над туберкулезом, а я – против туберкулеза!»
Эгле умолк, но увертюра к «Эгмонту» продолжала звучать. Казалось, будто в музыке отображен решающий этап борьбы. По улице мчалась толпа людей, впереди – боевой стяг.
– Радость наша была коротка, сам знаешь, – продолжал Эгле. – Я тебе расскажу лишь про один июльский день сорок первого года. Утром к санаторию подъехал «оппель», перекрашенный в серый цвет, как все немецкие машины. До сих пор мои больные, те, кто не разъехался по домам с началом войны, лежали довольно спокойно, так как фронт прошел стороной. Кормились мы старыми запасами.
В то утро я, как обычно, отворил дверь кабинета и замер на пороге – рядом с телефоном на столе лежала фуражка немецкого офицера и в ней перчатки.
На моем стуле восседал молодой красавец в форме лейтенанта. Черные очки, блестящие, напомаженные волосы. Он равнодушно взглянул в мою сторону, как будто дверь отворило сквозняком, и продолжал писать. Перед ним лежала груда историй болезни. Офицер быстро перелистывал их и сортировал на две стопки. Закончив, он еще раз посмотрел в мою сторону, на этот раз заметил меня и сказал: «Вы, наверно, врач?» – «Директор этого санатория», – ответил я. Тогда он хлопнул ладонью по большей стопке. «Вот эти должны в течение двух часов покинуть санаторий». – «Но почти все – тяжело больные», – говорю я ему. «Через два часа на их койки положат наших раненых». Сказал и ушел.
Через два часа потянулась к шоссе вереница бледных, изможденных людей со своими пожитками. Большинство из них через всю Латвию добиралось до дома пешком, поезда перевозили только военных. Мало кого из них довелось мне встретить после войны. Правда, один из тех бедняг, Алдер, сейчас лежит у меня.
Через несколько часов прибыла колонна санитарных машин. Санаторий поделили на две части. Мы оказались приживалами в собственном доме. Но и это было не все. Под вечер в санаторий прикатили айзсарги. Ни о чем не расспрашивали, а прямо прошли в корпус. Я встретил их уже на лестнице, когда они выводили двух молодых парней в больничных халатах. Руки у обоих были связаны. Я загородил дорогу. «Это больные», – говорю айзсаргам. «Это марксисты и коммунисты», – слышу в ответ. «Они ведь еще мальчишки и к тому же больные». – «Бросьте, доктор! Теперь мы спросим с этой комсомолии». Меня оттолкнули. Я хорошо знал этих айзсаргов, они жили в нашем поселке. Три года я с ними разговаривал как с людьми, нередко лечил их близких. «Теперь все пойдет по закону, – сказал один из них. – А за халаты вы не беспокойтесь, вам их вернут». – «Сперва я их вылечу, а тогда и будем разговаривать», – пытался я хоть как-то воспротивиться самоуправству. «Не стоит зря тратить лекарства». Один юноша сказал: «Спасибо, доктор…» Я шел следом за ними до леса, где стояли две подводы. «Я как врач несу ответственность… Я отвечаю за них головой!» Долговязый мельник Пумпур, в тот день вырядившийся в офицерскую форму, обернулся и сказал: «Доктор, ступайте-ка отсюда, не то мне придется отвечать за вас». Он изучал экономику и считался образованным человеком.
Через полчаса раздались выстрелы. Позднее в лесу мы обнаружили несколько засохших елочек. Их можно было вырвать рукой, потому что они были просто воткнуты в песчаные холмики.
Расстрелянные были марксистами, как тогда говорили. Стало быть, погибли за идею. Но ведь идею не убьешь пулей и не зароешь в лесу!
Они немного помолчали, будто увидели перед собой те елочки, что можно было вырвать рукой.
Эгле зажег свет, и они обнаружили, что бутылка пуста.
– И для чего ты мне рассказываешь про самый что ни на есть мрак? – вздохнул Мурашка.
– Потому что это самое важное в моей биографии. Кто-то в темноте выпил наше вино.
Эгле убрал пустую бутылку, затем снял с книжной полки два толстых словаря. За ними оказалась плоская фляга.
– Медицинский спирт плюс аква фонтанеа. – Он налил Мурашке и себе в маленькие глиняные кружечки. – После войны мне трудно было поверить в то, что люди бывают только хорошие. Я по-прежнему продолжал, видеть свой долг в помощи человеку, считал, что обязан выполнять священную клятву, записанную в дипломе врача, – облегчать страдания больных. Этим я и занимался, напоминая самому себе: помогай другим, но сам ты не более как скальпель в руках медицины. Кстати, знаешь, вскоре после войны один ответственный товарищ в министерстве спросил меня: «Значит, во время немецкой оккупации вы продолжали работать в санатории и считались главным врачом?» – «Да». – «Значит, оказывали содействие оккупантам?» – «Об этом спросите у оккупантов и больных – кому я оказывал содействие», – ответил я. «Чего там спрашивать, это и так ясно, из фактов. Что ж, работайте пока». Я вышел от него как оплеванный, и это ощущение не покидало меня несколько лет. И тогда я вложил в альбом вот эту пластинку. – Эгле вынул последнюю.
Полилась плавная мелодия. В ней не было тревоги и напряжения борьбы, как в «Эгмонте», не слышалось и щемящей грусти, как в романсе Глинки. Она была чиста и прозрачна, как трель жаворонка над весенней рощей.
– Бах. Это музыка о самой музыке. Два года назад я был в Лейпциге. В церкви Томаса есть надгробная плита с надписью: «Иоганн Себастьян Бах». В тот вечер был концерт. Я слушал Баха и смотрел на готические своды, их принято уподоблять молитвенно воздетым рукам. Между прочим, я музыку не только слышу, но и вижу. Тогда мне казалось, будто я лежу на лесной опушке и смотрю на ели. Их ветви нависали надо мной. Верхушки уходили к самому небу. Вокруг царил покой. Вот и музыка эта устремлялась к небу. Я полюбил ее. Это музыка о музыке. Чистая музыка.
– Такой не бывает. – Мурашка с улыбкой погладил свою лысину в кудрявом венчике. – Ее создал человек. Она создана для людей, а не для неба.
Эгле задумался, потирая виски.
– Быть может, ты и прав. Тогда в лесу, где остались мои больные, я нашел несколько латунных гильз. И тогда же мне пришло в голову, что я до сих пор как-то не задумывался над тем, что патроны существуют, чтобы расстреливать людей. Лишь недавно, вновь перебирая все это в памяти, я сообразил, что всегда был только врачом, лекарем, а не слишком ли это мало? Врач – не целебный родник из которого страждущий напьется, и дело с концом. Родник – не человек, он лишен души. Врач – человек, и он обязан вникнуть во все, что переживает его пациент, должен пытаться постичь самое жизнь. А я, как видно, упустил из виду, что медицина это еще не вся жизнь, а лишь часть ее.
– Не нравишься ты мне сегодня. Когда на меня находит меланхолия, я пью вино и разбиваю полдюжины тарелок. Фаянсовых, самых дешевых. – Мурашка взял тарелку с клубникой.
Эгле улыбнулся.
– Полдюжины тарелок у меня нет, буду бить тебя.
– Давай. На что не пойдешь ради друга. – Они подняли кружечки с разведенным спиртом.
Эгле было хорошо с Мурашкой, он отвлекся от своих мрачных мыслей. Тем не менее время было позднее, и Мурашка накрыл свою лысину беретом.
– Я еще успею на автобус. С утра ко мне придут позировать.
Эгле взял палку и проводил товарища до автобусной остановки.
Вино и несколько глотков спирта не прогнали усталость и сон, однако Эгле хотелось еще поговорить с кем-нибудь. На той стороне шоссе горела лампочка над воротами мелиоративной станции. На дворе около тракторов копошились люди, но Эгле не знал их. Янелис спит, не стоит его будить ради того, чтобы поговорить о жизни. Его волнует только завтрашний экзамен по физике. «Пьян», – подумал о себе Эгле. Он свернул в аллею, которая вела к санаторию. Перед самым носом что-то промелькнуло. Летучая мышь. Говорят, у них имеется ультразвуковой локатор. Потому ни на что и не натыкаются в темноте. Будь такое приспособление у человека, он в пьяном виде не набивал бы себе синяков. Ну и хорошо, что нет, а то пили бы еще больше…
Шагах в десяти от дороги, за молодыми яблоньками и кустами жасмина, притаился дом персонала санатория, в уютной мансарде этого дома еще горел свет. Своеобразный уют ей придавала покатая стена с тахтой возле нее. А еще там была набитая книгами полка, платяной шкаф с гнутыми дверцами, отделанный карельской березой, какие были в моде лет десять назад. У окна стояла двухэтажная подставка для цветов. Подставку занимали шипастые кактусы. Чуть не на пол-окна развесила свои плакучие веточки фуксия. Ветки были облеплены бутонами, из которых уже высунулись белые носики. На столик перед тахтой падал неяркий свет плафона.
Здесь жила Гарша.
Дома она была совсем не такая, как в санатории – строгая старшая медсестра в белом халате. Сейчас на ней было свободное домашнее платье, запястье украшал широкий янтарный браслет, и она определенно не собиралась придирчивым оком проверить подоконники, нет ли на них пыли или же пересчитать таблетки в шкафчике с лекарствами.
Кроме хозяйки, в комнате находился Берсон. Казалось, уют этого жилья смирил его резкую, подвижную натуру. Он тоже не был здесь тем Берсоном, каким его знали в санатории. Объяснялось же его спокойствие весьма просто: он принес Гарше букет роз. И неизвестно случаев, чтобы при этом человек подпрыгивал на одной ножке или чесал за ухом.
– Ну зачем это, доктор?.. – смутилась Гарша, принимая цветы.
– Вам. Вот, просто вам, и все. Мне доставляет удовольствие выращивать цветы, но если их не срезать, они завянут, и никто, кроме меня, не насладится их красотой. Этот сорт называется «Ночь». Видите, почти черные.
Гарша взяла розы и поставила их в вазу на окне, рядом с фуксией.
– Мне неловко. Вы уже второй год снабжаете меня цветами.
– Цветами можно…
– Присядьте.
Берсон сел к столику с кофейником и двумя чашками на льняной салфетке.
– Попиваю кофе, как и положено старой деве. – Гарша налила кофе во вторую чашечку.
– У вас очень вкусный кофе.
– Вы находите? Вечера бывают очень долги. Кофе укорачивает их. – Гарша взяла в руки вязанье.
Разговор не клеился. Берсон поглядел в окно.
– Вашу фуксию надо бы пересадить. Я…
На лестнице послышались шаги.
– Ко мне никто не может прийти. – Гарша секунду прислушивалась, затем снова заработала спицами. И все же в дверь постучали.
Гарша открыла. В комнату не очень твердой походкой вошел Эгле. Заметив Берсона, он оперся на свою клюку.
– Прошу прощения. Мне просто захотелось с кем-нибудь поболтать. Я уйду.
– Ну что вы! – воскликнула Гарша и отобрала у Эгле палку и шляпу. Она была рада его неожиданному приходу и не скрывала этого.
Берсон встал.
– Я пойду. Завтра операция. – Он явно кривил душой. Гарша не пыталась его удержать и подала руку.
– Я как-нибудь пересажу вашу фуксию, – добавил Берсон на прощанье, чтобы не молчать.
Эгле взял и повертел в руках вязанье.
– Это что будет – штаны для петуха?
– Нет, юбка для кофейника, – рассмеялась Гарша.
Эгле без приглашения сел и потянулся за кофе, но передумал и попросил стакан воды. Когда он пил, Гарша обратила внимание на то, как осунулось за сегодняшний день его лицо. Особенно заметны стали глубокие складки, протянувшиеся к уголкам рта. Лишь глаза были еще ясными, без болезненной усталости, с непотухавшей в них искоркой ума. «Многие из-за этой искорки не видят признаков тяжелого недуга», – подумалось Гарше.
– Вам надо теперь побольше отдыхать. Вы знаете, Берсон со дня на день ожидает известий из Москвы о новой операции. Есть надежда…
– А разве я не хочу надеяться! – воскликнул Эгле, но тут же резкие складки около губ искривились в ироническую усмешку. – Поговорим о чем-нибудь другом. Ну, скажем, о былом. Сегодня я весь день говорю о том, что давно минуло.
Он подошел к книжной полке. Кроме книг, на ней были разные сувениры. Эгле взял в руки деревянную собачку; подняв одно ухо, она весело смотрела на него ярко-синим глазом.
– Это работа Эрмансона, – вспомнил Эгле. – Я ему раз восемьдесят откачивал гной из плевры. А знаете, почему я помню число? Потому что однажды, когда я прикоснулся иглой для пункции к его боку, Эрмансон сказал: «Сегодня у меня юбилейный день – семьдесят пятый прокол. Налейте мне рюмочку спирта, тогда юбилей будет не таким болезненным». Да, таков он был, этот воистину туберкулезный юбилей… Спирта я ему налил.








