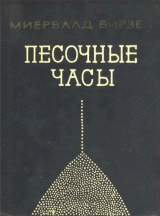
Текст книги "Песочные часы (Повесть)"
Автор книги: Миервалдис Бирзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Арнольд, ведь тебе не понравится, если меня здесь разрежут и навсегда останется шрам?
Арнольд опустился на песок рядом к Крузе.
– Резать такую ногу? Ни под каким видом!
Как бы извиняясь, Крузе добавила:
– Вот видите – не разрешает.
Гарша собралась идти, но перед этим доказала, что и она не лишена ехидства:
– Ну как же! Ведь ваше главное достоинство – ноги. Всего наилучшего!
Гарша ушла, а молодые люди растянулись на песке и обменялись улыбками: ну и чудачка! Костный мозг ей подавай!
Гарша пошла берегом. Словно разомлевшая от зноя, речка текла лениво, а на излучине поглубже останавливалась и вовсе. Тут росла кубышка, недолюбливающая течение и спешку. Полуденное солнце утомляло, и Гарше захотелось искупаться.
Она разделась в тени и села на бережку, свесив ноги в воду. Нет, с Крузе ей красотой не поспорить, она давно это знает. Правда, старость еще не коснулась ее тела; кожа нисколько не увяла; никогда не кормившие груди были упруги. Она сама не пожелала иметь детей, потому что их отцом мог быть лишь один человек, только с ним она могла бы обрести душевный покой. Но, увы, жизнь не всегда складывается гак, как мы этого хотим. Ее жизнь – работа там, где трудится он.
Ну, что ж…
Гарша поплавала на глубоком месте, немного полежала на воде, глядя в синеву неба, куда устремлялись желтовато-зеленые ветви ив.
А потом продолжила свой путь над речкой, которая свернула в сосновый бор и, попрыгав по каменным порожкам, выбегала на простор.
Простор начинался большой рекой. В нее и впадала эта речушка.
Лес тут отступал от берега большой реки, трепещущий от жары воздух густо пахнул смолой. Кругом высились груды бревен, землю устилала сосновая кора – излюбленный материал для корабликов у мальчишек. Гарша шла по разогретому солнцем толстому слою этой коры.
Полуголые мужчины в старых шляпах, защищавших их головы от солнца, ловко орудуя баграми, скатывали бревна по лагам в реку. Бревна падали в воду, вздымая фонтаны брызг и, сталкиваясь, издавали звуки, похожие на приглушенные, короткие гудки. Потом сосновые и еловые стволы с белыми насечками, оставленными смолокурами, отправлялись в дальний путь вместе с водами маленькой речушки.
– Краля, – заметил кто-то.
Мужчины распрямили спины.
Верзила Вагулис по привычке прищурился. Но тут узнал в женщине Гаршу и, видимо, вспомнив, как она отбирала у него курево в санатории, машинально вынул изо рта сигарету. Потом спохватился, что он не в санатории, а на лесоскладе, усмехнулся и опять сунул сигарету в рот.
Гарша подала руку.
– Здравствуйте! Бог помощь!
– Спасибо! – поклонился Вагулис и крепко пожал протянутую руку. – Садитесь, передохните.
Вагулис расстелил на толстом бревне свою парусиновую куртку. Они сидели и глядели на реку; огромные стволы деревьев уплывали, становясь все меньше и меньше.
– Как здоровье? – поинтересовалась Гарша.
Вагулис согнул руку в локте и ребром ладони ударил себя по бицепсу.
– В порядке, – ответил он.
Тогда Гарша пристально поглядела на Вагулиса.
– В санатории вы, бывало, частенько цапались с доктором Эгле…
– Такой уж я от рождения: не терплю замечаний, хоть и знаю, что неправ. Кабы не он, я сейчас тут не сидел бы.
– Помните, стало быть, добро? Иногда о нем забывают.
– Я не из таковских, – почти обиженно возразил Вагулис и даже губу оттопырил.
– Тогда помогите спасти его, – просто сказала Гарша.
– Я – доктора?! – Такое предложение показалось Вагулису шуткой.
– Я вам все сейчас объясню.
И сестра Гарша рассказала, что Эгле долгие годы просматривал на рентгене легкие больных, и о том, что существуют болезни пострашней туберкулеза. И, наконец, о том, какая предстоит операция.
Когда они встали, Вагулис сказал:
– Мы, плотогоны, народ дружный – если один ушел под воду, остальные вытаскивают. Поможем Эгле. – Вагулис задумался, помахал выгоревшей шляпой и спросил: – А к нему вместе с мозгом не перейдет мой нрав? Ничего хорошего ведь во мне нету; я и забияка, и курильщик заядлый…
Гарша от души рассмеялась, и на радости, что ее надежды оправдались, она смеялась искренне и долго.
– Нет, не перейдет. А потом он и сам спорщик, да и курильщик тоже.
Вагулис задумчиво глядел вслед шагавшей к лесу по сосновой коре Гарше. Потом наподдал сапогом сухой сук так, что тот отлетел в реку.
– Шабаш, старики. Поговорить надо.
Мужчины поговорили и стали опять скатывать баграми бревна в реку. Снова, разметывая брызги, полетели в воду тяжелые лесины, их подхватывало течение и несло далеко, в еще большую реку, чем эта.
Теперь по утрам они пили кофе втроем – Янелис тоже. Миновали те одиннадцать лет, когда надо было вставать ни свет ни заря и лететь в школу. Миновали и те недели отдыха, когда он, услышав утром, что часы в гостиной пробили семь раз, как бы наперекор установленному правилу, блаженно переворачивался на другой бок и спал до тех пор, пока голод не будил его. Но наскучило спать, загорать и купаться, потому что девушка с косой работала на колхозном огороде – юной женщине нужны были деньги на платье, а родители заявили, что пора зарабатывать самой.
Из сада на веранду тянуло сыроватым, бодрящим утренним воздухом, словно рукой снимавшим остатки сна.
– Неужели в такое утро у тебя не появляется желание куда-то пойти, что-то делать? – спросил Эгле Янелиса.
– Сейчас на большой реке сплавляют лес. Я, может, на несколько дней пойду с плотовщиками. Вниз по течению, а со Взморья вернусь автобусом. На той неделе у нас игра с валмиерской командой. Надо потренироваться, – излагал свои планы Янелис, делая бутерброд с ветчиной.
– А как насчет работы? Когда я уйду в отпуск по болезни, денег у нас станет поменьше. Мне не хочется распространяться на эту тему, но я считаю, что об этом надо сказать заблаговременно.
Герта налила кофе.
– Вся жизнь впереди. Еще наработается. Пока ты будешь в отпуске, я перейду на полторы ставки.
– Да я и не говорю, что прямо с завтрашнего дня надо поступать на работу. – Эгле почувствовал, что если он продолжит разговор о работе, то останется в одиночестве. Герта и Янелис будут сидеть за столом, но тем не менее он будет одинок. Ему очень не хотелось этого.
Сегодня Герта впервые после отпуска собиралась на работу. Она надела цветное ожерелье из ракушек, пусть в санатории почувствуют, что она побывала в Крыму.
Подогнав к дому машину, она зашла в гостиную за сумочкой. Когда она вернулась к машине, там уже сидел Эгле.
– Ты куда? Мы же договорились, что ты будешь отдыхать.
– Буду, буду, надо только переоформить финансовые документы на Берсона, чтобы банк выдавал деньги по его подписи.
В санатории Эгле приводил в порядок финансовые и прочие дела. Однако в свой кабинет больше не заходил, чтобы не получилось, будто тогда, при Гарше, он попрощался с бородачами и гипсовой девочкой не всерьез.
Прежде всего Эгле по заведенной привычке зашел в рентгеновский. Посидел на удобном сиденье, прижавшись лбом к экрану и не шевелясь, потому что вдруг снова закружилась голова и все тело пронизала боль.
Позднее он вместе с Аболой обошел палаты, перед больницей надо было поглядеть, как дела у тех больных, кому он назначил Ф-37.
Ирена Лазда заулыбалась при виде врачей.
– Туберкулезный очаг у вас рассасывается, – сказала ей Абола.
Эгле заметил на тумбочке Лазды несколько писем.
– Наверно, и сердце больше не шалит? – спросил он весело.
Лазда залилась краской, но на этот раз слезы в ее глазах не заблестели, как тогда в автобусе-флюорографе.
– Откуда вы знаете? – удивилась она.
Эгле, в свою очередь, удивился, отчего так сильно укоротились волосы Ирены и словно бы слежались в отдельные прядки. Кажется, теперь это модно! От туберкулеза прическа не меняется, подобный симптом не описан в мировой медицинской литературе. Ага, – по соседству лежат две молоденькие рижанки. Стало быть, санаторий способствует не только выздоровлению, но и культурному обмену. Вреда в этом, конечно, нет, только неизвестно, понравятся ли короткие волосы тому длинному парню.
Когда они вошли в соседнюю палату, Дале старательно подводила тушью глаза. Чтобы замаскировать мешочки под ними, требовалось много краски.
– А я-то полагал, что вы уже давно дома… – искренне удивился Эгле.
– Совершенно неожиданно у нее вновь обнаружены палочки, – пояснила Абола. – Мы должны выяснить, откуда они выделяются. Возможно, из больного бронха.
Оставив коллегу в коридоре, Эгле вернулся к Дале и, поскольку в палате никого больше не было, пристально посмотрел ей в глаза.
– Это не ваши бациллы. Из ваших легких бациллы не выделяются. У кого вы одолжили микробов и с какой целью? Пенсию вы получите и без того как инвалид второй группы.
Дале осторожно облизала свои ярко накрашенные губы.
– Верно, доктор, это не моя мокрота. Но ведь Алдеру плохо, мне нужно быть с ним.
– Могли бы мне сказать!
– Я же знаю, что по инструкции вы не можете так долго держать хронических больных.
– Вечная беда всех туберкулезников – слишком много вы знаете. Инструкции вам известны, а где мой кабинет – не известно.
– Говорят, вам тоже невесело. Я не хотела вас тревожить, – оправдывалась Дале.
– Но вы же видели, что я на работе.
– Так-то оно так. Значит, продлите мне лечение?
– Да. Передайте Алдеру, что последний анализ у него лучше. А теперь я посмеюсь над вами – не удалось меня обмануть, а? – Эгле прищурил глаз и в самом деле засмеялся, довольный своей проницательностью.
В коридоре у палаты, где лежал Вединг, врач предупредила:
– У Вединга в связи с небольшой ангиной подскочила температура. Он непрерывно измеряет ее и дважды в день гоняет няню на почту телеграфировать жене, сколько у него градусов.
Эгле вошел в палату. Вединг неподвижно лежал на спине и не обратил внимания на вошедших. Изо рта у него торчал термометр. Эгле присел подле его койки.
– Что это еще такое?
– Так точнее всего, вы это могли бы и сами знать, – ответил Вединг и снова вложил термометр в рот.
– Извините, я совсем забыл об этом, – с деланной серьезностью наморщил лоб Эгле. – Хорошо. Только теперь уж не вынимайте термометр изо рта, пока я не договорю до конца. Так вот: няня на почту больше ходить не будет, иначе она не сможет обслуживать других больных. Если возникнет необходимость, мы телеграфируем сами. Это, во-первых. Во-вторых, если температуру измерять непрерывно, то она повышается, посему запрещаю вам это делать чаще двух раз в день.
Вединг извлек на секунду термометр.
– Вы не можете мне запретить наблюдать за состоянием моего собственного здоровья.
– В-третьих, на острове Святого Маврикия был такой случай: один человек тоже держал весь день во рту градусник. От этого у него свело судорогой челюсть, он раскусил термометр, проглотил ртуть и через два дня умер от отравления ртутью.
Вединг, словно в гипнозе, не сводил с доктора глаз.
– Я вам назначаю воздушные ванны… Если у него нет сил самому выйти, пусть санитары выносят его вон туда, на лужайку, – добавил он уже Аболе. – Рядом поставьте большую пальму, чтобы солнечный удар не хватил. Не забудьте про пальму!
Когда врачи ушли из палаты, Вединг достал изо рта термометр и внимательно исследовал, не заметно ли на стекле меток от зубов.
Наконец Эгле вошел в семнадцатую, к Алдеру. Алдер сидел, подпертый тремя подушками. Руки, точно утомленные тяжким трудом, лежали поверх одеяла. В кружке на окне опять стояли свежие ромашки.
– Положение улучшается, – начал Эгле.
– Да, я это чувствую. Крови в мокроте больше нет, – шепотом говорил Алдер, будто бы то, что он чувствует себя лучше, являлось тайной.
Эгле знал, что состояние не изменилось, но и знал также, что Алдеру очень хочется, чтобы оно улучшилось, и потому добавил:
– Палочки в мокроте есть, но меньше. Нам надо продержаться до зимы, до морозов, тогда мокроты поубавится, и будете меньше кашлять. Будем дожидаться зимы.
«Оба мы будем дожидаться зимы, – подумал Эгле. – Зимой мы будем ждать лета, потому что весенние оттепели, когда днем пригревает солнце, а ночью под ногами хрустит ледок, – тоже незавидное время для легочников. Тяжело Алдеру. Если в груди недостает воздуха, а ты знаешь, что вокруг целый океан, то страдание причиняет не только то, что нечем дышать, но и чувство несправедливой обиды. Если у меня мало крови, а я знаю, что в войнах тысячи литров крови вытекали и вытекают на землю, то я мучусь не только от болей в сердце, которому не хватает крови, но и от чувства несправедливости. Мы оба страдаем. Возможно, он больше, полагая, что существуют на свете лекарства или мудрый врач, которые могли бы спасти его, но все упирается в невозможность доставки в „Арону“ этих лекарств или врача. И вообще – страдание не температура, которую можно измерить градусником: у меня сильней, у тебя меньше».
– Будем дожидаться зимы, – выходя, повторил Эгле.
«Правда, старики говорят, зимой умирать нельзя, – живым трудно в мерзлой земле рыть могилу.
Вот мы и будем ждать лета, летом – зимы. Впрочем, этак нам вообще конца не будет. Нет, не будем нахалами, уступим место другим».
Эгле по привычке посмотрел в окно, и тут, словно шип, кольнула его мысль, что, возможно, и он последнее лето любуется далиями на лужайке. Хотелось, как ребенку, расплакаться, излить душу маме, просить у нее защиты, закричать, что он не хочет, не хочет…
Эгле вошел в хозчасть. Навстречу ему поднялся элегантно одетый мужчина с коротко подстриженными, тоненькими усиками.
– А я вас целый час жду, доктор. Можете меня поздравить – проект утвержден! – радостно отсалютовал он рулоном чертежей.
Эгле стряхнул тоскливые мысли. Теперь-то он уж никак не может уйти домой, не посмотрев проекта в окончательном виде.
– Здравствуйте, уважаемый товарищ архитектор, – протянул ему руку Эгле. – Я вас жду гораздо дольше. Выйдемте на воздух и поглядим, что тут нарисовано.
Они расположились на лужайке перед корпусом, расстелив прямо на траве листы с планами, разрезами и перспективами.
Вскоре Эгле окликнул проходившую мимо дежурную сестру и попросил собрать больных после тихого часа в зале.
Эгле окинул взглядом собравшихся и невольно вспомнил, как он двадцать два года назад, в ноябре 1940 года, получил известие об отмене платы за медицинскую помощь. Вот здесь же он сообщил об этом больным. Только тогда он перед ними стоял. Сегодня он говорит сидя, чтобы не закружилась голова.
– Уже в этом году мы закладываем фундамент под новые корпуса санатория, – рассказывал Эгле, время от времени показывая рукой на развешанные чертежи, около которых стоял архитектор с чуть опущенным правым плечом. – В них будет вдоволь воздуха и солнца. Болезнь не выносит солнца. Туберкулез гнездится в подвалах. Туберкулез – свирепая болезнь, он отнимает часть жизни. Никто не сумеет подсчитать, сколько людей здесь стали несчастными, сколько здесь рухнуло планов и надежд. Рушатся они и сегодня, но меньше, чем вчера. А чтобы завтра этого вообще не было, мы строим новый санаторий. Строить будем все вместе, сообща. Да, да, мы с вами тоже. Будем строить для себя и для других. Проект разработал вот этот молодой человек с усиками. – Эгле показал на архитектора. – Он тоже некогда лежал в этом здании, в палате на третьем этаже. И, кстати, должен заметить, что он ни разу не крикнул и не убегал, когда я вводил ему в бок иглу для поддувания.
Архитектор и Дале обменялись улыбками – они были знакомы с сорок седьмого года и помнили, как вот этот самый доктор Эгле застал их на берегу Дзелве, когда они устроили там танцы, и задал такую взбучку, что потом они долго при встрече с ним краснели…
– Теперь этот молодой человек помогает строить санаторий, хотя у него больше нет туберкулеза. Для чего я все это говорю? Мы все должны помочь стройке. Санаторий, в котором мы лечимся, выстроили другие. Лекарства, которые вы принимаете, изготовлены не вами. Если б о вас не заботились те, кого мы называем обществом, вы уподобились бы путнику, оказавшемуся в летнем костюме среди тундры. Близится зима, и он замерзнет, рано или поздно его заметет снег. Я призываю вас: помогите! Насколько каждому позволяет здоровье. Будем работать пусть хоть час в день, будем рыть котлован под фундамент, заложим новый парк. Тем самым мы сэкономим средства, допустим, всего лишь на двухэтажный домик. И этим мы поможем хотя бы четырем семьям, вынужденным еще жить в подвальном этаже. В подвалах цветы чахнут, а туберкулезные палочки множатся. Своим трудом мы ускорим ход строительства, предположим, хотя бы на месяц. За один месяц вылечиться нельзя, но за месяц здоровье может значительно ухудшиться, за один месяц может образоваться каверна. Что это значит, вы все знаете. Давайте же будем помогать!
Эгле умолк.
«Нет у меня таланта – говорил словно плохой митинговый оратор», – досадливо подумал он.
Архитектор, жестикулируя тонкой, как у женщины, рукой в белой манжете, начал давать пояснения к чертежам, прямо из окна показывая, где расположатся здания в натуре, сегодня существующие лишь на ватмане.
После собрания Эгле решил, что со всеми делами покончено, но тут же ему вдруг пришло в голову, что он, возможно, проваляется в больнице долго. Нельзя забывать древнюю мудрость: надейся на лучшее, готовься к худшему.
Эгле сел в машину и поехал в Ригу. Автомобиль он оставил на стоянке у Домского собора и пешком отправился в сберкассу на Комсомольской набережной. В этой сберкассе он держал свои сбережения, девятьсот пять рублей. Пять рублей он оставил себе, девятьсот положил на имя Герты.
Покончив с этой операцией, он присел отдохнуть в скверике. Справа, в порту, виднелись мачты судов. Корабли всегда зовут с собой. Человеку хочется знать, куда впадает река, где кончается море. Итак, он совершил немаловажное дело: если, допустим, он не выйдет из больницы, то его семейству денег на первое время хватит. Если бы сбережения оставались на его счете, то ими нельзя было бы воспользоваться, пока наследники официально не вступят в свои права, а это делается не скоро. Деньги же – хотя бы на похороны – понадобятся немедленно.
Он неторопливо пошел к Домскому собору, где его ждала машина.
Район, прилегающий к площади перед собором, был изрезан кривыми и, как ущелья, тесными улочками, в которые редко проникало солнце. Казалось, обитатели мансард могли запросто протянуть руку через улицу и поздороваться со своими соседями. Из этих теснин непрерывными ручейками стекались в собор люди.
Сотни лет назад по субботам и воскресеньям точно так же шли рижане в собор, но тогда их походка и лица выражали серьезность и благоговение, и перед церковью они склоняли голову. Их сюда влекла могучая власть церкви, без которой человек не считался родившимся, не мог получить имени, равно как и не мог найти места для погребения после смерти.
Сегодня мрачный и стылый Домский собор превращен в великолепный концертный зал, и люди шли послушать органную музыку, и было их во много раз больше, чем во времена расцвета церкви.
Эгле взял в кассе билет и вошел в собор.
Место Эгле оказалось почти посреди зала, и оттуда он хорошо видел кафедру, украшенную деревянными, очень мирского облика, апостолами. Они походили на старых рижских мастеровых; один держал в руке пилу, другой топор на длинном топорище. Возможно, ваятелю захотелось увековечить в образах апостолов рижских пильщиков дров.
В полумраке под самыми сводами высоченного купола поблескивали органные трубы.
Эгле взглянул в программу и понял, что ему не следовало приходить на концерт – сегодня он услышит реквием, а он последнее время старался избегать всего, что лишний раз напоминало о смерти. Хватит с него и красных пятен на платке. И все же он остался. Грешно упускать случай лишний раз насладиться музыкой.
Публика постепенно притихла. Готические своды возносились в вышину, вселяя торжественное предчувствие некоего откровения, которое здесь услышат, откровения, которое истинно и сегодня и вечно, – даже тогда, когда сидящих здесь уже не будет на свете. В окнах витражи цвели яркими полевыми цветами. Они было словно часть той великой природы, в чье небо вонзались стрелы этих кирпичных сводов.
Рядом с Эгле сидела пожилая пара. Он был сух и морщинист, шея в твердом воротничке, словно стебель увядшего цветка, поддерживала безволосую голову. Несколько запрокинув ее, он сидел неподвижно на протяжении всего концерта. Его супруга держала на коленях шитую бисером сумочку. На лицах обоих было напряженное внимание. «Они слушают без страха, хотя и стары», – заметил про себя Эгле. Они уже передумали обо всем, что рассказано в реквиеме.
Вдоль стен стояли старинные скамьи с пультами, на которые раньше клали молитвенники. На первой скамье внимание Эгле привлек молодой человек с неподходящей его возрасту бородкой. Юноша, подперев бородку ладонями, почти не шелохнувшись, просидел весь концерт и лишь изредка поднимал невидящий взгляд. Эгле, встречавший на своем веку много людей, понимал, что этот влюблен в музыку и, слушая ее, испытывает и боль, и радость, и тоску.
Ударил гонг. Все замерли в ожидании. Эгле больше не видел своих соседей. Казалось, передний ряд органных труб выдвинулся вперед, в зал. Звуки, лившиеся с хоров, больше не ограничивались ни стенами, ни сводами потолка, звучание стало каким-то повсеместно сплошным; и алтарь, и боковые приделы – весь собор заполнила музыка. О большом, что пережил за жизнь человек, рассказывал в этот предвечерний час орган.
Смерть, помимо прочего, еще и разлука. Наверно, тягостней всего будет миг расставания, когда каждый удар пульса говорит: «Навеки, навеки». Для тех, кто остается, это «навеки» будет звучать дольше, иной раз многие годы. Об этом рассказывала музыка, об этом пел хор, что бы там ни означали латинские слова.
Что ж помогает встретить этот миг? Малодушным – бог и вера в «вечное блаженство». «А мне? – думал Эгле. – Во мне сохранилась капелька отваги. Мне остается сказать себе: таков закон – из праха ты произошел, во прах тебе и обратиться. Некоторое время ты побыл „венцом творения“, был прекраснее розы с каплями утренней росы на лепестках, могучей дуба, чьи ветви могут укрыть от непогоды, и ты летел дальше и выше, чем журавли, потому что долгие годы ты был Человек. И по тебе опять же останутся человеки – твой сын, твой народ, которому ты своим трудом врача помогал жить и расти, спасая всего лишь несколько из множества жизней. Значит, ты и сам после мига расставания, именуемой смертью, не перестанешь быть».
В вышине, над публикой, хор и орган пели о всемогуществе природы, возникало впечатление, будто из дали Вселенной они взирали на землю, привычно свершающую свое кружение и озаренную солнцем. Потом тихо, словно баюкая, пели про боль и вечную любовь. А разве боль не есть порождение любви? Почему мы оплакиваем того, кто ушел? Потому что мы его любили. Так что ж, может, из-за этого нам не любить? Нет, нет! Человек никогда больше не будет жить, как пещерный зверь, украдкой от других раздирая свою добычу. Человек любит свет, солнце, цветы, море, горы, облака и всегда тянется к другу. Он всегда кого-то любит. За любовь расплачиваются болью разлуки, и все же любят.
Волны звуков, в которых колыхались сердца всех слушающих, постепенно улеглись в плавную гармонию, и казалось, что в бескрайней дали океана времени забрезжил лиловый отсвет закатного солнца. Мир для ушедших из нашей жизни наступил.
Хор уже не пел, но долго еще звучала тишина под средневековыми сводами. И лишь когда смолкла и она, люди поднялись, чтобы возвратиться к своим житейским делам. Но они еще будут думать над тем, про что поведала им музыка. И хоть на какое-то время им захочется стать лучше.
Постукивая палочкой по кирпичным ступеням, Эгле вышел на площадь одним из последних. В нем еще звучал могучий «Диес ире».
Вдали гремели фанфары. Это говорило о приближении Судного дня. И все ближе, ближе. На несколько мгновений все – природа и люди – умолкли в ожидании. Надвигалась грозовая туча. Она шла над верхушками сосен, над ржаным полем, взволновавшимся в бурю, словно озеро. Трава перед тучей склонялась, и зелень ее темнела. Зигзаги молнии касались верхушек одиноких деревьев, гремел гром. Об этом в музыке рассказал «Диес ире», день гнева, Судный день.
Эгле огляделся. Просторная площадь перед собором понемногу пустела. Интересно, эти люди, что по узким улочкам Старой Риги сейчас возвращаются к своей повседневной жизни, – все ли они поняли слова реквиема: Quidquid latet, apparebit nec inultum remanebit?[1]1
«Все скрытое станет явным и не останется неотмщенным» – строки из католического гимна «Dies irae».
[Закрыть]
Вполне вероятно, что кое-кто за его вопрос – слыхали ли вы о Судном дне? – примет его за религиозного чудака. «Никаких Судных дней не было, нет и не будет!» – услышал бы он в ответ. Но вот тогда Эгле принял бы гордую осанку и напомнил: «Такой день настанет для каждого. Не бог будет судить нас, бога не существует, но у Человека существует совесть, и Судный день совести будет у каждого из нас. Великий суд, о котором поведал композитор. И на этом суде, как поется в реквиеме, „тайное станет явным, и воздастся каждому по делам его“, потому что свершится в присутствии неподкупного свидетеля, имя которому Память. Каждый однажды предстанет перед судом своей совести. Она будет судить за преступления, не предусмотренные кодексом законов. Нет закона, по которому ты обязан в трудный час поделиться куском хлеба; и лишь ты один знаешь, мог или не мог протянуть руку утопающему, ведь посреди озера не было никого, кроме вас двоих. Существуют преступления, не сговоренные законами. И у того, кто считает, что ему такой суд не грозит, возможно, отсутствует совесть».
В глубокой задумчивости Эгле медленно шел к машине.
Стараясь не привлекать внимания прохожих черными фраками и белоснежными манишками, из собора выходили хористы в наброшенных на плечи пальто.
Однажды утром из парка вышли трое мужчин и направились к санаторию. В их тяжелой походке чувствовалось достоинство. Так шагают мужчины, сознающие свою силу, которым ничего не стоит плечом опрокинуть воз сена. У всех троих рубахи были расстегнуты, рукава закатаны по локоть и пиджаки накинуты на плечи, чтобы ничто не стесняло мускулы, готовые прорвать коричневую от загара кожу. У одного из них на шее небрежно повязан цветастый платок. Это был Вагулис.
Проходя мимо открытых окон главного корпуса, они увидали больных, игравших в домино. Вагулису показалось, что они тут стучат костяшками целый месяц, так и не прервав игры с той минуты, как он уехал. Вот так же и он сидел среди них в унылом больничном халате, в шлепанцах-недомерках.
Среди играющих был и Вединг. Лицо его прикрывал от солнца красный целлулоидный козырек.
Вагулис широкой лапищей взял Вединга за плечо.
– Ну, как, лягушка, не утонула в сметане?
Вединг вздернул козырек кверху и, узнав Вагулиса, радостно осклабился, но тут же спохватился, – улыбка больному не к лицу.
– Говорят, я прибавил три кило, но я им не верю. Разве нынче хоть одни весы показывают правильный вес?
– А ты верь, хрыч, не то схватишь по шее.
Затем Вагулис проводил своих приятелей в ординаторскую. Там они застали Берсона. Берсон и Вагулис поздоровались за руку, так и не разобрав в этом рукопожатии, чья же рука сильней.
– Меня-то вы знаете, – сказал Вагулис. – А вот этот – мой двоюродный брат, тоже Вагулис и тоже плотогон. Любое бревно за конец подымет, – представил Вагулис застенчиво улыбавшегося мужчину такого же роста, как и он сам. – Вот этот – Гребзде. Тоже сильный мужик. За один присест может выпить дюжину пива.
Коренастый, с живыми прищуренными глазами, Гребзде с достоинством поклонился и по-петушиному вздернул голову.
– Думаю, и этот подойдет, – закончил Вагулис церемонию представления.
– Я тоже так думаю, – согласился Берсон. – Однако без анализов не обойтись. Сестра Гарша отведет вас. А потом уж я осмотрю.
Сопровождаемые Гаршей, они явились в лабораторию – царство стекла и таинственных химических запахов. Вагулис, желая показать друзьям свою медицинскую осведомленность, спросил у пожилой лаборантки:
– Кровь из пальца, или как?
Лаборантка взглянула на принесенное Гаршей предписание.
– На этот раз – из вены.
Вагулис понимающе закатал рукав повыше и перехватил рукой бицепс так, что на сгибе мгновенно вздулись синие, толщиной в карандаш, вены.
– Сегодня крови надо побольше, верно?
Потом заметил в углу еще одну лаборантку и шепнул товарищам:
– Это жена Эгле.
Герта в этот момент прижала к пальцу комочек ваты, потому что у нее самой только что взяли кровь на анализ. По внешнему виду пришедших она сразу поняла, что это не больные из санатория, и вопросительно взглянула на Гаршу.
– Они согласны дать доктору Эгле костный мозг, – подойдя к Герте, негромко сказала Гарша, чтобы плотовщики не расслышали.
Герта привстала. На ее чистом лице и в голубых глазах промелькнуло холодное выражение.
– Я дам свой.
– Одного твоего не хватит, а от моего он отказался.
Лаборантка усадила плотовщиков на табуреты и смоченной в эфире ваткой принялась оттирать им пальцы. Плотовщики принюхивались к непривычному запаху. Когда кровь у всех троих была взята, лаборантка проводила их к Берсону.
Гарша тоже направилась к выходу, но у порога ее остановил голос Герты:
– Я знаю, что от твоего он отказался. Я желаю, чтобы в нем была моя кровь. Я спасу его. – Герта сделала особое ударение на «я». – Всю жизнь мы с ним вместе.
Гарша покачала головой.
– Как же ты не заметила, что он болен?
Герта гордо выпрямилась. Ростом она была не выше Гарши, но смотрела на нее теперь свысока.
– А почему я не интересуюсь, каким образом это заметила ты?
– Ты не можешь мне запретить видеть.
Герта вернулась к своему рабочему месту.
– Было бы куда лучше, если бы ты работала в другом месте.
– Тогда твой муж не заболел бы? – спросила Гарша, но Герта не ответила ей.
Выходя из лаборатории, Гарша глядела себе под ноги – никто не должен был заметить ее слез, все должны знать – медсестра Гарша хладнокровна и выдержанна.
Известно, что смерть посещает больницы чаще, нежели другие места. И даже когда человек направляется туда для пустяковой косметической операции, скажем, удалить подкожный жировик на лбу, то и в этом случае, перешагивая порог больницы, он зачастую испытывает волнение. Умом он понимает, что никакого риска нет, но в памяти всплывают истории о несчастных случаях; как бы совершенны ни были расчеты медиков, человек пока еще не поддается ни точному вычислению, ни разборке и сборке.
В больницу Эгле отправился налегке. Из дому он взял с собой только портфель с книгами. Портфель с книгами – это целое общество. На прощанье Эгле обошел клумбу с распустившимися уже флоксами.
Дорожку от дома до калитки обступили тучные георгины с цветами всех оттенков.
Машину вела Герта. За мостом через Дзелве начинались поля. На ржаном снопе сидел ястреб и высматривал в стерне мышь.








