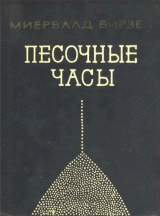
Текст книги "Песочные часы (Повесть)"
Автор книги: Миервалдис Бирзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Среди присутствующих в зале больных в первом ряду заметно выделялась белокурая головка Лазды и гладко зачесанная – Вединга.
Абола сошла с трибуны. К присутствующим обратился директор туберкулезного института:
– Коллега Абола сделала нам сообщение о первых обнадеживающих результатах применения препарата Ф-37 в «Ароне». У кого будут вопросы?
Гарша сидела молча и гордо, потому что речь шла также и о заслугах Эгле и еще потому, что их санаторий был самым первым, где применили новое средство. Она огляделась по сторонам.
Посреди зала встал незнакомый врач.
– Первые результаты как будто не плохи. Но хотелось бы услышать, чем объясняется неудача эксперимента с морскими свинками, а также есть ли больные, излеченные только с помощью Ф-37?
Эгле поднялся.
– Разрешите мне отвечать сидя, – попросил он, и после кивка директора снова сел и продолжал: – В своем ответе коллеге Гринблату я должен пояснить: неудача, которую он имеет в виду, объясняется тем, что свинкам не были одновременно введены в достаточном количестве витамины группы «Б». Однако даже и при этом концентрация препарата в легких была максимальной, он задерживался в тканях дольше, нежели все прочие. Теперь о больных. Да, у нас имеются больные, у которых улучшение наступило лишь благодаря Ф-37. Например, больная Лазда. Прошу вас!
Девушка встала и повернулась к публике. Лазда была уже не в халате, а в голубом ситцевом платье, и на лице у нее было такое выражение, словно она просила извинить ее за то, что выздоровела. Но просвечивало это смущение сквозь радость. Сквозь огромную радость, такую, что присутствующие не удержались от ответной улыбки.
Эгле подал врачам в президиуме историю болезни.
– Здесь же и рентгенограммы, наше наиболее надежное свидетельство. За четыре месяца инфильтрат рассосался, остались лишь рубцы. Процесс был свежий. Сегодня мы ее выписываем.
– Что ж, это могло бы послужить доказательством того, что препарат не хуже других. А есть у вас пример, когда он помог там, где другие оказались бессильны? – опять задал вопрос Гринблат.
Гарша сердито нахмурилась – незнакомый врач решил во что бы то ни стало опровергнуть доводы Эгле? Но Эгле знал: в медицине признание и вера рождаются только из сомнений. Если б не было сомнений, то не требовалось бы экспериментов, и тогда морских свинок можно было бы передать зоопарку на корм удавам.
Эгле отвечал и даже был доволен, что теперь может поведать о том, что у самого вызывало немало сомнений и раздумий.
– Препарат создан недавно, и таких случаев не может быть много. Но через год обязательно будут, – ответил Эгле.
– Но все-таки есть или нет? – не унимался Грин-блат.
– Есть. В тех случаях, когда микроб привыкал, становился резистентным к стрептомицину и фтивазиду, мы добились того, что палочки больше не выделялись, и можем сегодня этих больных выписать. Вот вам конкретный пример: прошу встать товарищей Вединга и Калея. – Эгле передал врачам две папки с рентгенограммами.
Со своих мест поднялись пожилой мужчина в халате и Вединг в клетчатом пиджаке. Вединг повернулся к залу. Гладкий зачес, лицо уже успело округлиться; лишь нос с горбинкой был по-прежнему хрящеват. Вединг иронически улыбнулся, как бы говоря этим, что о туберкулезе он знает больше, нежели все присутствующие.
Этот последовательный противник медицины развеселил Эгле, и он сказал, улыбаясь:
– Спасибо, можете идти, Вединг.
Вединг поклонился президиуму, бросил короткое «прощайте» и направился к выходу. В этом санатории ему делать больше нечего.
Дебаты продолжались своим чередом. В заключение директор института сказал:
– Есть основание надеяться, что через годик вот здесь же мы, врачи, а в еще большей мере – больные, сможем сказать спасибо за то, что в антитуберкулезном арсенале появилась еще одна винтовка. Мы располагаем данными, необходимыми для более широкого внедрения в клиническую практику Ф-37.
Тут Эгле вполголоса сказал:
– Я выйду, отдохну немного, – и незаметно покинул президиум.
– Слово предоставляется научному сотруднику Берсону.
Берсон поднялся на трибуну, достал из папки фотографию, на которой был изображен простой, кубической формы каменный обелиск. Он высоко поднял снимок и показал залу.
– На этом фотоснимке мы видим обелиск. Он находится в Гамбурге. Во дворе госпиталя святого Георгия. Этот обелиск – памятник тремстам шестидесяти врачам, которые в свое время погибли от рентгеновских лучей, спасая жизнь другим. Иногда следует вспоминать об этих людях. И о самой причине их смерти не забывать и соблюдать должные предосторожности. Я зачитаю вам сообщение о хроническом малокровии, развившемся в результате двадцатипятилетнего воздействия рентгеновских лучей. Возможно, малокровие обострилось от применения радиоактивного препарата. Автор сообщения рассказывает о себе, о начальных симптомах заболевания, на которые он сам обратил внимание, лишь когда болезнь уже развилась. Мы знаем и надеемся… Впрочем, я начинаю.
И Берсон приступил к чтению доклада, ни разу не отрывая глаз от рукописи. Он исполнял долг перед своим коллегой, но предпочел бы не делать этого.
Сидевшие впереди Гарши врачи рассуждали вполголоса: «Кто бы это мог быть?» – «Да это про Эгле. Сам-то он ушел».
У Гарши сжалось сердце. Больше она не видела ни сцены, ни людей, сидевших в зале. Она вышла в коридор.
Опираясь на палку, Эгле медленно шагал по коридору. В зал он решил не возвращаться. Труд, намеченный на сегодня, исполнен. Мускулы болят, лоб стиснут словно обручем. Домой, отдыхать – и больше никаких. На балкон, и любоваться порыжевшими лугами за Дзелве. Эгле подошел к окну и оперся на подоконник.
Перед санаторием остановился автобус, вокруг него столпились больные в халатах. На ступенях появились отъезжающие.
Отъезд из санатория. Вот так, спустя несколько месяцев, полгода, иногда и побольше, но настает день возвращения в жизнь. Словно после долгого и многотрудного путешествия.
Женщины расцеловались на прощанье – среди них принято целоваться на людях. Слышались возгласы: «Пиши!» – «В Риге будешь – заходи». И рукопожатия.
Великое содружество туберкулезников.
Нет, уже не великое. Это содружество постепенно тает. Трон палочки Коха зашатался. Теперь от туберкулеза умирают гораздо реже, но все же умирают. Еще надо потрудиться. Эгле помахал рукой, отвечая на приветствие Лазды, заметившей его у окна.
Затем девушка повернулась и на дорожке увидала долговязого парня. Увидала и, позабыв обо всем на свете, побежала к нему.
Вединг стоял возле автобуса. Он тоже увидал Эгле.
– Этот лекарь считает, что я здоров, но я и сам не знаю, верить ли ему, – покачал головой Вединг.
Стоявший рядом с ним человек достал из портфеля фотографию, на которой они были сняты вместе, в халатах, на ступенях санатория.
– Полюбуйся на свои мощи: таким ты сюда приехал!
– Возможно, все возможно. – Вединг еще раз бросил недовольный взгляд на Эгле.
Лазда с парнем, несшим ее чемодан, влезали в автобус последними. Там же, на лужайке, сидела в шезлонге больная с подушкой под спиной. Время от времени она покашливала.
– До свидания! – крикнула ей Лазда.
– Где? – чуть насмешливо спросила женщина в шезлонге.
– Там! – махнула рукой девушка куда-то вдаль, за вековые липы и сосны санаторского парка.
Там жизнь.
Эгле тоже помахал отъезжающему автобусу вслед. Эти автобусы за многие годы, уезжая, прихватывали с собой какую-то часть и его жизни. У кого-то кровь в мокроте, кому-то не хватает воздуха, кто-то мучительно борется с кашлем, раздирающим грудь, – и всегда тревога, беспокойство, волнение. Этот лающий кашель! Недаром раньше говорили: «Кладбищенский пес лает в груди».
А что оставляли эти автобусы взамен? Радость победы, когда его ум и руки бывали сильней болезни. Не всегда.
Обещание, данное Лазде, выполнено. Эгле еще раз помахал и отвернулся от окна. Он услышал позади шаги. За спиной стояла Гарша, брови ее все еще были нахмурены.
– Берсон читает?
Гарша кивнула.
Эгле избегал ее взгляда, не желая, чтобы она видела его минутную слабость, а возможно – кто знает! – и зависть, которую Эгле испытывал при виде скрывшегося в аллее зеленого автобуса.
Эгле вручил Гарше ключи.
– Отдадите Берсону. От директорского стола.
– Вы сами… – Гарша неуверенно взяла ключи.
– Берите, я не хочу, чтобы меня беспокоили, – нетерпеливо перебил Эгле. – Я устал. Позвоните, пожалуйста, Герте, пусть отвезет меня домой… Я посижу в рентгеновском, – добавил он, так как поблизости не было стула.
Гарша открыла дверь рентгеновского кабинета.
Окна тут как всегда были до половины прикрыты черными шторами, и в помещении царил полумрак. В этом полумраке поблескивали никелированные штанги экрана.
Эгле жаждал воздуха и света. Он пододвинул табурет к раскрытому окну, положил руки на подоконник и подпер ими лоб. Лоб ощутил солнечное тепло. И тогда Эгле еще раз приподнял голову и большими ясными глазами посмотрел на сосны на лужайке.
Внезапно ему померещилось, будто поднялась буря – сосны закачались и рухнули.
Из санатория Эгле домой не уехал.
Эпилог

Эгле скончался в сентябре, в рентгеновском кабинете. Из санатория к дому его несли по той же самой дорожке, по которой он ходил двадцать пять лет дважды в день, мимо длинного санаторского корпуса, подобно белому пароходу, спокойно стоявшему в обрамленной липами и соснами зеленой гавани парка.
Гроб с телом несли врачи, служащие санатория, рабочие мелиоративной станции и просто жители поселка. Оказалось, тут нет человека, с которым бы Эгле не встречался, нет ни одной семьи, в которой он кого-нибудь не лечил, в особенности в годы войны и первые послевоенные, когда он частенько бывал единственным врачом на всю округу. Процессия прошла через весь поселок, мимо каштанов у школы.
Были для него в Аргале и радостные дни. Эгле всегда говорил: жизнь – это не только слезы или только – смех. Жизнь – это и смех и слезы.
Затем процессия подошла к небольшим воротцам, за которыми сверкала красными гроздьями рябина. У застенчивой дикой розы уже созрели красные плоды, они были даже ярче ее цветов.
Место последнего прощания. Здесь гроб установили на машину. Когда грузовик тронулся по направлению к Аргальскому кладбищу, а до него было километра два, где Эгле предстояло покоиться рядом со своими родителями и навеки слиться с землей, взвыла сирена кареты Скорой помощи. Она выла протяжно и печально, тревожно повышая голос и жалобно замирая.
Она прощалась с врачом. Военачальников и государственных деятелей провожают орудийным салютом; врача оплакивала сирена Скорой помощи.
В один из дней конца октября, когда солнце часто и подолгу прячется за облаками, которые осенью ниже, чем летом, Мурашка надел простую телогрейку, просторный дождевик и резиновые сапоги. Он поехал за город. В кармане у него лежал длинный список. Это был список больших камней, адреса валунов.
В унылом мелколесье неподалеку от Салацгривы он обнаружил то, что искал.
В этот серый день никого не было около камня. Чахлые сосенки, низкие, сырые тучи, камень и он, Мурашка. Мурашка прижался лбом к стылому граниту, и в памяти сами собой возникли картины прошлого: трудные годы ученья, когда он вместе с Эгле бегал на студенческую кухню пить молоко, потому что там можно было к молоку есть сколько влезет хлеба, вспомнил он и недавние «музыкальные реминисценции» дома у Эгле, когда Эгле и сам уже знал про это. Эгле работал, пока были силы. Бессмертие человека – это его труд.
Человек, он тоже как большой валун, вот как этот, обросший мхом. Из этого камня требуется изваять произведение искусства. То же самое человек должен изваять из самого себя.
Мурашка отправился на поиски трактора, чтобы глыбу мертвого камня подтянуть к дороге.
Минул год. Была весна. Зелень деревьев еще не потеряла свежести. На поляне перед санаторием легко покачивали головками тюльпаны. Рябина перед домом Эгле цвела желтоватыми неприметными цветами. В кабинете главврача собрались свои и приезжие врачи. За год здесь ничего не изменилось. На столе по-прежнему стоял футлярчик с песочными часами. Лишь на стене прибавился еще один портрет. Не в том ряду, где были Кох, Форланини, Павлов и Рентген, – нет. Портрет был помещен в углу, где стояла девочка с ягненком.
Эгле пришел бы в негодование, если б его портрет повесили в одном ряду с теми, чьи имена известны всему миру. Про себя он говорил, что он «один из тысяч, занявших место в промежутках между этими портретами». Он бы еще добавил, что родился и вырос в деревне и некогда пас на лугу скотину, и потому ему милее общество пастушки.
Вошла Гарша, на этот раз не в халате, а в черном костюме.
– Автобус подошел, – сказала она.
Все встали. Выходя из кабинета, врачи задерживали взгляд на Эгле, улыбавшемся обыкновенной улыбкой, а не той, кривой, за которой он прятался в последние месяцы жизни. Они поглядели на черное кресло у письменного стола, на него сегодня никто не садился. Гарша вышла последней, легко проведя рукой по спинке кресла.
Автобус остановился у Аргальского кладбища. Врачи присоединились к людям, обступившим могилу Эгле. Над могилой стоял накрытый светлым покрывалом памятник высотой в два человеческих роста. Кругом, как и бывает на кладбище, ставшем последним приютом нескольких поколений жителей, росли деревья – высоченные липы, которым уже пора побаиваться сильных бурь, несущих гибель доживающим свой век деревьям, и совсем еще юные, нежно-зеленые березки, у которых впереди самое малое полета лет жизни.
Памятник открыли. Речей было немного. Они казались здесь особенно излишни – ведь говорил большой салацгривский камень, оживленный Мурашкой, он и сказал те единственные, нужные слова.
Отполированный, почти черный валун. Сильный юноша стремится ввысь, к небесам, так же как и вершины стоящих позади него деревьев. Ноги его сковала бесформенная масса, черная сила, грубый, неотесанный камень. В напряженной, но не бессильной позе юноша сжимает свои плечи перекрещенными руками.
И все же он устремлен ввысь. Он принадлежит к тем, кого можно уничтожить, но не умертвить.
Памятник говорил, а вокруг стояли те, кто знал Эгле, и слушали. Пришел сюда и большой плотогон Вагулис с товарищами. На лице его словно было удивление – как врачи позволили Эгле преждевременно умереть.
Медсестра Крузе, тоже в черном костюме, пыталась понять, о чем же каждый из присутствующих сейчас думает, и поглядывала по сторонам. Ей было непонятно, почему не плачет Гарша и только неотрывно смотрит на исполненное тревоги лицо юноши, словно сама напряженно силится что-то вспомнить или понять.
Больше всего Крузе поразило то, что пришел Вединг, – он ведь уже здоров. Его долговязую фигуру с лицом монаха можно было без труда заметить среди всех присутствующих, хотя он и стоял в задних рядах. Наверно, Вединг постарел, потому что он больше не улыбался.
Мурашка стоял рядом с памятником. На Мурашке тоже был черный костюм. Кладбище он покинул одним из последних, вместе с Гертой, Янелисом и Берсоном.
Трудно было Мурашке уходить, потому что здесь осталось и его творение, и тот, кому оно посвящено. Хоть был это и «каменный сын», как говорил Эгле, однако тоже частица его, Мурашкиной жизни.
Домой возвращались пешком.
– Почему он себя не щадил? – ни к кому не обращаясь, заговорила Герта. – Мог бы еще жить и жить, и мы с Янелисом не были бы сегодня одни.
Никто не ответил ей, почему Эгле, когда был жив, не щадил себя.
Они подошли к дому Эгле и присели на ступеньках веранды.
– Чем занимаешься? – спросил Мурашка у Янелиса.
Янелис вытянул вперед свои руки. Они были чисто вымыты, однако под ногтями виднелась въевшаяся чернота.
– У мелиораторов работаю.
– Ну, а дальше?
– Пока не знаю. Осенью ухожу в армию. Наверно, пошлют в какую-нибудь техническую часть, я ведь вожу бульдозер. В армии придумаю, что дальше делать.
Мурашка обратил внимание, что Янелис теперь носит более длинную прическу, чем год тому назад. Ежик исчез. Янелис становится похожим на Эгле в молодости, только повыше ростом.
Герта вынесла бутылку холодного вина и стаканы. Все смотрели на сад, фиолетовую полоску анютиных глазок вдоль дорожки, на воротца. Сегодня Эгле не отворял их.
Выпили вино.
– Если б умер я, Эгле сделал бы то же самое, – проговорил Мурашка. – Когда-то мы говорили об этом.
– Вы… расскажите мне про отца, – потупив голову, попросил Янелис. – Он не успел мне всего рассказать про свою жизнь. У меня… мне всегда было некогда, молодой я тогда был.
И еще один незначительный эпизод.
В саду Эгле со стороны дороги росла сирень. Она еще не цвела, хотя среди листьев виднелись гроздья мелких бутонов. Однако девушке с белокурой косой, проходившей мимо, казалось, что они уже распустились и даже благоухают. Наверно, оттого, что аромат ее она хорошо помнила еще с прошлой весны.
Девушка подошла к калитке сада. Янелиса не было. Окно мансарды открыто. Девушка приложила ладони к губам и позвала:
– Янелис!
Янелис подошел к окну и, увидав среди темно-зеленой сирени девушку, сбежал вниз по лестнице.
Жизнь не останавливается. Песочные часы перевернуты.
Чьи-то дни утекли, чьи-то покатились вновь. Песок течет непрерывно, и часы торопят!








