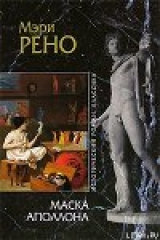
Текст книги "Маска Аполлона"
Автор книги: Мэри Рено
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Дион потянулся ко мне и положил мне руку на плечо.
– Платон, ругать Никерата я не позволю даже тебе. Ведь мы сегодня видели, как он жизнью своей рисковал, чтобы бога не опозорить. Он – пример для нас всех!
Платон тотчас ответил какой-то любезностью, чтобы разрядить ситуацию. Думаю, даже вполне искренно. Он явно не был пьян; просто, скорее всего, мысли увели его куда-то далеко. И хотя мне пора было уходить, я задержался еще немного; чтобы показать, что не в обиде.
Когда я начал прощаться, Дион налил мне вина, выпить за Добрую Богиню. А когда я выпил, – вытер мою чашу и отдал мне в руки:
– Возьми пожалуйста, на память об этом вечере и в благодарность за представление, которого я не забуду никогда. Жаль, что не было времени найти похожую, но с Аполлоном или Ахиллом, специально для тебя.
Я вышел в слабевший лунный свет. Тени Федриад затопляли долину. На дне чаши Эрос, в венке из белых цветов, играл на лире. За спиной моей, в доме, слышался голос Диона, говорившего другу своему что-то, чего нельзя было сказать при постороннем. А я – я чувствовал, что встретил человека, за которого был бы рад умереть.
4
Дельфийская мирная конференция оказалась пьесой, которая успеха не имела и призов не удостоилась. Дион объяснял это тем, что делегаты не молились загодя и жертв не принесли. Раз уж они были в Дельфах, то могли хотя бы к оракулу за советом сходить; но я думаю, каждый из них боялся оказаться на проигрывающей стороне.
– Иным из наши гостей, у кого были почетные места в театре, стоило бы хоть там чему-нибудь научиться, – сказал Дион, когда вызвал меня подписывать договор. – У этих людей были дела посерьезнее твоих. Если бы они проявили хоть половину твоего благочестия и верности долгу, могло бы получиться гораздо лучше.
Я видел, что говорил он от всей души; потому не спросил, чем же этот случайный договор, который проживет не дольше, чем они вернутся домой и передумают, серьезнее Эсхила; который уже пробыл с нами сотню лет и вполне сгодится еще лет на сто.
Анаксий был в экстазе; и с тех пор, как узнал нашу новость, – почти не умолкал. Конечно же, я даже не заикнулся, что Дион хотел Гермиппа. Некоторые актеры такого шанса не упустят, но они не жили с моим отцом. А кроме того, за такие удовольствия потом и платить приходится; причем счет предъявляют в самое неудачное время. Он был в восторге от того, что я выбрал Приама, а Ахилла оставил ему. Он полагал, что в таких ролях смотрится лучше всего, – а сейчас смотрелся, как кот в миске сметаны.
– Удачнее года и представить себе нельзя, – говорил он. – Сегодня Афины настроены против Дионисия меньше, чем когда бы то ни было. Если помнишь, когда он дал нам свои войска в Фиванской войне, ему предоставили в Городе все права. В любом случае, судьи будут голосовать за пьесу, а не против ее автора. А ты подумал, Нико, что если она победит – он наверняка захочет поставить ее и в Сиракузах, с тем же составом исполнителей?
– Плюнь! – говорю. – Скверная примета, к еще не рожденному теленку прицениваться.
Тут он проделал все ритуалы, какие только можно себе представить, для отвращения зла. Я боялся, он в такую лихорадку себя вгонит, что играть разучится. Бедный Анаксий, я его понимал. Он мечтал вернуть землю отца своего и обрести статус благородного.
Мне тоже не мешало бы заработать. Я уже собрал достаточно денег на черный день, чтобы не умереть с голоду, если этот «день» не протянется слишком долго; но их было маловато, чтобы добиваться и дожидаться хороших ролей. Однако, меня больше занимала мысль о возможном прорыве в Афинах; ну и о возможных последствиях. То, о чем Анаксий гадал, я знал наверняка: Дион сказал мне, что если пьеса победит в Афинах, она пойдет и в Сиракузах. А это означало, что я снова его увижу.
Если вы спросите, что это за любовь такая, так я и сам задавал себе тот же вопрос. Я с самого начала знал, что он недоступен, словно бог. Я был слишком стар для мальчишьей любви, когда перед мужчиной преклоняются; да и подражать ему, как мальчишка, я бы вовсе не хотел. Призвание мое, профессия моя были у меня в крови. Но было в душе моей какое-то что-то, которое знало, что он мне необходим.
В последний вечер в Дельфах я вышел погулять, один, чтобы разобраться в себе. Было уже поздно, улицы пусты, и статуи смотрели на меня; бронзовые сверкали белками своих агатовых глаз, а раскрашенные мраморные – неподвижным синим взглядом. Они словно спрашивали: «Чего ты хочешь, Нико? Ты хоть себе самому можешь это сказать?»
Я добрался до театра и поднимался по склону, рядом с ним. Кран, эта машина богов, торчал, словно палец, втыкаясь в небо, освещенное луной. Я поднялся выше и подошел к колеснице, отлитой в бронзе, – трофею победителей. Кони и высокий парень, державший вожжи, были неподвижны. Не так, как сделали бы сейчас, в скачке, с напряженными мускулами и развевающейся одеждой; они просто стояли в ожидании старта. Колесничий словно говорил: «Вот мы, я и кони мои. Мы тренировались, мы довели себя до совершенства, доступного нам, но мы всего лишь смертные. А теперь всё в руках богов.»
А я подумал: Ты на самом деле существовал, юный герой, или скульптор тебя создал из мечты своей? Ведь бывает и наоборот: художник задумывает совершенного атлета, а юноша его создает… Судя по этим рукам и ногам с широкой костью, ты настоящий. Так чью мечту ты воплотил в себе? Гомера? Пиндара? Платон сказал что поэты иллюзии создают. Да, но иногда эти иллюзии обретают плоть и возвращаются: «Здравствуй, отец!» Ну что ж, за эту иллюзию отцу краснеть не придется. Она заставляет думать.
И я подумал о Дионе. Он подхватил мечту Платона – и своей волей воплотил ее в себе, создал себя; отлично получилось. Но ведь и я мечтал, и многие другие. Как же иначе? Когда источники загажены, каждый думает о чистой воде. Только вспомнить, что видели Афины, да и вся Эллада, во времена наших отцов – и теперь. Сначала война; потом бессилие, тирания, революция; потом крушение тирании, и наконец-то могла бы начаться достойная жизнь… Но пыл в людях угас; они боролись с подлостью подлым оружием и это искалечило их души; для того чтобы строить достойную жизнь, надо знать, что это такое. А так – каждый раз перед достойной жизнью возникает то еще одна война, то еще одни выборы, которые надо выиграть; а тем временем люди, еще верящие в добро, спорят друг с другом, каково оно… И вот мы мечтаем. О чем? О человеке, которого боги пошлют, чтобы научил нас верить хоть во что-нибудь, хотя бы в него; а потом чтобы повел нас… Вот так. О царе мечтаем.
Я вспомнил о том восторге, какой испытал, когда он говорил о царской власти и о ее проблемах; о справедливости, милосердии и войне. Тогда мне показалось, это потому, что он учил меня, как надо играть царей и героев. Оказалось не то. Когда я играл этих богов и героев прежде, я создавал подобие того, чего мне самому хотелось; как моряки высвистывают ветер; это было заклинание. И кого я звал – тот и появлялся.
Разобравшись с сердцем своим, я успокоился. Оказалось вполне естественно любить его просто за то, что он есть; и ему не надо было ничего для меня делать – просто оставаться самим собой. А сверх того, я попросил бы у богов возможности иногда перекидываться с ним хоть парой слов, в доказательство того, что он еще жив и ходит по земле. А за это я сделаю для него всё, что только смогу, – всё, чего ему надо; хоть бы то был приз для пьесы его родственника.
Уходя, я поднял руку в салюте бронзовому колесничему. Он заслужил свою бронзу, надо и мне заслужить.
На другой день мы покинули Дельфы, чтобы продолжить гастроли. Ни один из спонсоров не предложил нам даже выпить на прощание. Театр они ни в грош не ставили; с тем же успехом они могли бы и флейтисток делегатам предложить, если бы те попросили. Впрочем, флейтистки тоже были; это я от фиванки Гиллис знаю. Однако расплатились с нами полностью, а это не всегда случается; так что пусть сами глотают свое вино, не жалко.
Я хорошо придумал сказать Анаксию, что Дион похвалил его работу; а то публика его не вызывала. Конечно же, Диону надо было бы самому это сделать, чтобы вдохновить Анаксия на полную отдачу; а теперь мне приходилось привирать. Анаксию просто не повезло: когда я был пьян в нашей уборной, он был трезв – и очень старался; а Дион расценил это как низкопоклонство. С некоторыми людьми он был совершенно беззащитен; но, чтобы не признаться в этом, он укрывался в своем ранге, как в высокой крепости, где они не могли его достать. Такая манера всю жизнь плодила ему врагов, и я думаю он это знал; но предпочитал не показывать свою слабость. Такой он был.
Вернувшись домой, мы оба снова подали заявку на включение в список ведущих актеров. Вскоре я узнал, что мое имя в список попало. Анаксий на этот раз не прошел, но ему предстояло играть несколько очень хороших ролей; и если пьеса победит – в будущем году его шансы будут гораздо лучше.
На гастролях – Дельфы, Коринф, Фивы, Мегалополис – мы очень прилично заработали, и я мог прекрасно дожить до зимы, когда начнутся репетиции к Ленеям. Так я и жил, в свое удовольствие. Угощал старых друзей, которые когда-то угощали меня, покупал пьесы для своей библиотеки, упражнялся в гимнасии, и всё такое. Чаще всего я ходил в тот гимнасий, что возле садов Академии, хотя это довольно далеко от дома моего; тихо надеялся, что Дион не сразу двинулся на Сицилию, а приехал погостить у Платона. Хотя его и не было видно, я от надежды своей не отказывался; зная, что он не любит, чтобы на него глазели на улицах.
Школа Платона располагалась неподалеку от гимнасия, за платановой рощей. Его ученики – выкупавшись, натершись маслом и переодевшись – уходили туда после тренировки; уходили с разговорами и смехом, но никогда ничего неприличного. Иногда какие-нибудь двое останавливались перед статуей Эроса в роще и приносили ему горсть цветов, собранных по дороге. Трогательно, очаровательно было, как они касались руками при этом. Пару раз, услышав смех, я подходил поближе, чтобы услышать шутку; но даже если и слышал – понять ничего не мог.
Большинство из них одевалось очень хорошо, некоторые даже роскошно, но без бахвальства. А одетые простенько – те носили свое платье с таким достоинством, что невозможно было сказать, что это: бедность или собственный выбор.
Вот среди этих простых я и приметил паренька, который часто бывал в садах, а в гимнасии никогда. У него был совершенно гладкий, мальчишечий подбородок; но строгий, слишком серьезный профиль не вязался с возрастом его. Однажды, встретив его на тропинке, я воспользовался случаем и спросил, не гостит ли у них Дион.
– Сейчас нет. – У него был красивый низкий голос, без обычной возрастной шершавости. – Ты промахнулся на месяц или два, он уехал с Платоном в Дельфы. А ты хотел его увидеть?
Я эту тему обошел, а вместо того задал несколько вопросов о школе. До сих пор парень казался застенчивым, но тут разговорился.
– Это вовсе не школа, как ты ее понимаешь. Мы тут встречаемся, чтобы работать вместе, и думать, обсуждать, экспериментировать; и младшие учатся у старших. Конечно, у Платона учатся все; но каждый имеет право не согласиться, если сможет обосновать свое мнение. Присоединяйся! Это изменит твою жизнь… Мою уже изменило.
Он явно принял меня за бездельника. Пока не станешь известен, ты можешь повесить маску на гвоздь и ходить куда угодно, свободен, как ветер; никто не знает тебя в лицо. Даже теперь мне этого не хватает иногда.
– Вряд ли у меня найдутся деньги на занятия здесь, – сказал я. – Сколько вы платите в год?
Я бы с удовольствием встретился с ним еще, если он не слишком родовит или богат.
– Да ничего мы не платим! Ни драхмы… Как говорит Платон, Сократ никогда не брал никакой платы; говорил, что ему нравится возможность выбирать себе собеседников.
Я посмотрел на крашеные колоннады, на цветы, на ухоженные лужайки…
– Но разве он не болтался целыми днями по улицам и на Агоре? Это можно делать и бесплатно.
– Верно. Платон не богат, хотя и побогаче Сократа; но школа принимает пожертвования. Только от своих, от «академиков», Платон не хочет быть обязан посторонним. Дион подарил нам новую библиотеку… Но никого и никогда сюда не принимают за богатство, разве что оно вот здесь. – Он постучал себя по лбу. Глаза у него были серые-серые. – Спасибо за приятную беседу, но мне надо идти; иначе не займу хорошего места на лекции Платона. Потрясающая лекция. Он ее читает раз в несколько лет.
– Ну ладно, мы можем здесь встретиться еще раз… А о чем лекция?
Он посмотрел на меня, словно удивившись вопросу. «О Природе Единого.»
Когда он ушел, я еще задержался в тени платанов; а вся молодежь была уже внутри. В палестре шум другой, громче, но пустой… В садах и на лужайках никого не осталось; я подошел поближе. Негромко журчал дельфин фонтана; постройки, хотя и новые, казались здесь так же на месте, как и древние оливы… Дверь была открыта, хотя и загорожена чьей-то спиной. Мне показалось, что еще один человек вряд ли помешает; а раз уж Платон денег не берет, то и обмануть его невозможно. А я мог бы узнать, что сделало Диона таким, каким он стал.
Подойдя еще ближе, я услышал знакомый голос. И подумал: Бог ты мой, ох уж эти любители! Ну зачем он говорит горлом? Красивый голос, а наполовину загублен. Ведь у него такая грудная клетка; он мог был театр заполнить; даже сейчас, отдать его в руки хорошего профессионала… В дверях меня никто не заметил, а слышно было прекрасно; даже ради Теодора, играющего в «Антигоне», никто не соблюдал бы такой тишины. Ну, я послушал, примерно столько времени, сколько уходит на вступительный хор; а понял столько же, как если бы он говорил по-скифски.
Я выскользнул наружу; но, уходя, уже издали оглянулся на это здание. Над портиком оказались вырезаны какие-то слова, буквы позолочены. Я вернулся посмотреть и прочитал: БЕЗ МАТЕМАТИКИ НЕ ВХОДИТЬ.
Всяк сверчок знай шесток, подумал я. Пропало утро, если не считать тех серых глаз. Я вернулся к своим упражнениям и к «Выкупу за Гектора», а гулять стал поближе к дому. Если бы паренек хоть когда-нибудь появлялся в палестре, другое дело; но раз уж он весь в духе и разуме, – и в Природе Единого, – тут ничего хорошего не жди.
Однако, спустя несколько недель, в славный осенний денек друзья позвали меня погулять, и мы каким-то странным образом оказались там. Когда шли через парк, один подтолкнул меня локтем и засмеялся: «Нико, пёс ты эдакий! Ты говорил, тебе всё равно куда пойти, но постарался затащить нас именно сюда. Где ты находишь таких красавцев? И не вздумай притворяться, будто не видишь, как он смотрит на тебя! Нам, пожалуй, лучше не уходить…»
Я избавился от них раньше, чем мальчик мог заметить, по какому поводу смеются; и пошел к нему. Он поздоровался и сразу сказал:
– Теперь я знаю, кто ты. Как только ты ушел в прошлый раз, сразу вспомнилось. Ты Никерат, актер-трагик.
Я был, прямо скажем, тронут. А кто бы не был? Ведь не так уж просто запомнить лицо за те немногие моменты, когда человек кланяться выходит.
– Ты был Алкестой в Пирее. Мне довелось видеть эту пьесу еще дважды, но там они были слезливые, очень себя жалели… А ты показал настоящий переход через Стикс, лежа там в окружении скорбящих. Невозможно было слезы удержать. В душе конечно, не реветь же в голос.
На лице его не было ни пушинки, ему могло быть никак не больше пятнадцати – откуда такая уверенность в себе?
– Так у вас тут не только математика? – спросил я.
– Конечно нет! А почему ты к нам не присоединился?
– Милый мой мальчик, хотя платить не надо, но есть-то надо всё равно… Но, надеюсь, мы можем встретиться еще?
– Ты мог бы приходить и учиться, когда свободен от работы…
– Без математики не входить, видел? Я бы среди вас белой вороной оказался. А ты не поужинаешь со мной сегодня?
– Белой вороной – это потому что ты актер? Платон на условности не смотрит. – Он чуть примолк и добавил: – Он наверно даже женщину взял бы, если бы посчитал, что она подходит.
– Ну, это уж слишком. Просто невероятно.
– Все так говорили. Но я же здесь…
Я собирался еще что-то сказать, но тут мне дыхание перехватило. Конечно, если присмотреться – можно было заметить под мужской туникой невысокую женскую грудь.
– Я Аксиотея, из Филоса. В Академии все знают. И одеваюсь так вовсе не ради маскировки.
Я только глазами хлопал. Если бы знал с самого начала, я бы конечно ее осудил; а теперь просто не знал, что и думать.
– Знаешь, я поняла, что не сказать тебе – нехорошо было бы. Надеюсь, ты на меня не сердишься…
Ее улыбка, и открытость ее меня покорили. Да и с чего сердиться, если она такая же женщина, как я – мужчина?
– Дружба она и есть дружба, – говорю. – Но можно мне воспользоваться дружеской привилегией и спросить, сколько тебе лет?
– Девятнадцать. А ты решил, что я слишком ранняя?
Мы посмеялись, и я спросил, как она дошла до жизни такой. Она рассказала, что в пятнадцать лет выиграла бег по девушкам на Олимпиаде; а Платон там был, она его видела, и услышала кое-что об Академии.
– Однако, – рассказывала она, – я об этой Академии думала, как о гонке колесничной: мечта прекрасная, но недостижимая. И я сделала, что могла. Купила все его книги и прочитала. Так я и жила в отчем доме, белой вороной, как ты только что выразился; никто ко мне не сватался, отца это угнетало…
Ей пришлось нелегко: он и бил ее, и книги ее сжег, какие нашел; а что осталось – те ей пришлось прятать в скалах и читать украдкой. Единственным человеком, кто поддерживал ее, был ее дядя по матери, который когда-то учился в школе Федона в Элии. Но мать уже умерла, и на ее брата никто внимания не обращал. А потом, вдруг, отец умер, и этот человек стал ее опекуном.
– Все, и я в том числе, были уверены, что отец лишил меня наследства. Но он то ли отложил на будущее, то ли передумал; а когда это стало известно – женихи поперли отовсюду, словно Воины Посеянные. Дядя мой, я лучше его человека не знаю, не только понимал мое отвращение к ним, но и разделял. Так что поговорили мы с ним, и он пообещал оплатить мне все расходы. Правда, он предпочел бы, чтобы я поехала к Федону; сказал, что Платон мечтатель; но он же сказал и то, что к Платону попасть вероятнее.
Собираясь к нему, она состригла волосы и переоделась в мужское платье, потому что хотела, чтобы ее интеллект оценивали как таковой, а не как выдающийся для женщины.
– Но, – сказала она, – когда я всё это надела, оказалось, что как раз такая одежда мне и нужна; она душе моей больше подходит. Думаю, ты в состоянии это понять.
– Да, – согласился я. – В театре это естественно.
– Так что я пришла к нему, как оказалось, в своей истинной сущности; как раз поэтому он и обманулся наверно, если можно так сказать. Во всяком случае, он меня поспрашивал – и сказал, что берет. Но к тому времени я уже так его зауважала, что скорей стала бы врать богу, чем ему; вот и рассказала ему всё. На самом деле, Никерат, он человек великой души. Ведь вполне мог бы разозлиться; мог бы подумать, что я всё это затеяла, чтобы его одурачить. А он только сказал, – я подтвердила его мысль, что женщин вполне можно учить философии, если у них есть природная предрасположенность, и что он меня тем более берет. А что до одежды, сказал, что прежде всего надо быть в ладу с духом своим; а потом уже тело.
– И он на самом деле никак тебя не выделяет, ты на равных со всеми?
Жест ее был настолько силен и красноречив, что я решил использовать его на сцене.
– На равных?! Надеюсь, так низко пасть мне не придется. Тоже мне, маковый сироп! Солдат стремится быть таким, как все? Нет, он хочет испытать и проявить себя. А философ? Тоже нет, – ему надо познать себя. Уж лучше быть самой последней в школе Платона, но знать, что есть благо, и мерить им себя, чем сбежать обратно во Флиос и слушать там любые славословия, какие только захочешь. Равенство! Нет уж, Платон меня не оскорбляет. Людей, которых такие вещи волнуют, ты ищи в школах риторики. Здесь такие не водятся.
– Прости, – сказал я. – Артист мог бы и сам догадаться.
Мы сели на скамью под оливой. Стоило мне чуть привыкнуть, и оказалось, что разговаривать с ней даже легче, чем с беззаботной фиванкой Гиллис. Та могла бы выставить целый полк своих любовников, на этой целомудрие написано с ног до головы; но, привычная к мужскому обществу, она была дружелюбна и уверена в себе без намека на дерзость. Похоже, Платон знал своё дело.
Через какое-то время я сказал ей, что встретил в Дельфах Диона. Она засияла:
– Слушай, он наша надежда! Надежда для всего мира!
Я ожидал какой-то похвалы в его адрес, но тут было гораздо больше.
– Ты удивился, что ли? – удивилась она. – Неужто ты вообще ничего не читал из Платона, даже «Республику»? – Я сознался, что не читал. – Ты всё найдешь в Четвертой и Пятой книгах, где он говорит, что человечество не избавится от зла, пока в каком-нибудь великом государстве не воцарится философ, обученный царской власти. Но чтобы люди поверили, что это работает, кто-то ведь должен начать. Он говорит, любая политика сегодня похожа на корабль под управлением полуслепого капитана. Команда знает, что он сбился с курса, и готовится к бунту; но если им повезет добраться до кормила, лучше не станет, потому что ни один из них не имеет понятия о навигации, они не знают даже о существовании такой науки. Если подойдет настоящий кормчий и скажет им: «Ориентируйся по Арктуру», – они поднимут его на смех; скажут – придурок, на звездах помешанный… Так вот, философ и есть кормчий. Он знает, где гавань, а где рифы; он знает неподвижные звезды. Но люди цепляются за иллюзии свои. И их предрассудки не исчезнут, пока такой человек не возьмется за руль и не покажет им… Когда он проведет их мимо скал, всяким домыслам придет конец. Ведь никому не захочется тонуть, если можно спастись, верно же?
Она умолкла, чтобы дать мне возможность ответить. Философы часто делают такую паузу; точь-в-точь как актеры-комики, но этого им лучше не говорить.
– Разумеется, верно! – ответил я.
– Так вот, когда Дион получит свой корабль – начнется новая эра.
Я изумился:
– Он что, переворот затевает?
– Ну что ты! Как ты мог подумать?! Ведь он друг Платона; а Платон всегда учил, что насилие и предательство порождают лишь подобие своё. То же самое утверждает и Пифагор, мудрейший из людей.
– Так на что же он надеется? Верно, он словно богами создан царем быть; но у Дионисия есть наследник.
– Он своего наследника презирает.
– Но кровь есть кровь; в решающий момент она всего важней.
– Иногда гордость оказывается важнее. Дионисий не для того создавал свою державу, чтобы отдать ее карфагенянам после смерти.
– Он такого мнения о своем сыне?
– Так все говорят. Он с раннего детства держал сына в постоянном страхе, а теперь презирает за трусость.
– Он и в самом деле трус?
– Может быть. А может, он просто жить хочет; и придумал себе такую личину… На войне старому Дионисию храбрости вполне хватает; но за каждым стулом ему мерещится убийца. Ты знаешь, что даже члены его семьи не могут зайти к нему, пока их не обыщут? Догола раздевают! Почти с самого детства молодой Дионисий, сын старого, живет в постоянном страхе, что отец заподозрит его в каком-нибудь заговоре и решит от него избавиться. Он никогда и близко не подходил к общественным делам; разве что жертву приносил на играх или освящал постройку над источником, да и то редко.
– Ну знаешь, от зарезанной коровы трудно ждать молока. На что же рассчитывает его отец?
– А кто знает, как рассуждает дурная, необученная голова? Достоверно только одно: Диону он верит больше, чем кому-либо еще. Диона даже не обыскивают, потому что тиран знает его – и уверен, что на предательство он не способен. Дион ему родня не по крови, а по женитьбе; но Дион из древней аристократии, а Дионисий – никто; Диона уважают во всей Элладе и готовы иметь с ним дело как с послом Сиракуз, а Дионисию и ближайший сосед не поверит; Дион солдат, проверенный в боях, его люди за ним в огонь пойдут… Он даже не всегда приказы выполнял. Его посылали в карательные экспедиции, страху нагнать; а он вместо того вершил правосудие и завоевал всеобщее уважение… Однако наследника обыскивают, а его нет.
– Это всё прекрасно. Но, по-моему, только философ может обойти собственного сына, чтобы выбрать наследника по достоинствам его.
– Да, конечно. Мы на это и не рассчитываем. Но у Дионисия есть еще два сына от второй жены, а она сестра Диона. Они еще слишком малы, но он помогал их воспитывать; старший души в нем не чает. Возможно Дионисий назначит наследником его, и тогда у Диона появится возможность что-то сделать. Ведь ему не нужна внешняя сторона власти, – роскошь, почести и всё такое, – нужна лишь возможность сделать город таким, чтобы в нем царил не человек, а закон.
По тому, как она это сказала, я понял – цитирует; и догадался, что Платона.
– Какой закон? – спросил я. – Афинский?
– Ой, Никерат, ну как с тобой разговаривать, пока ты «Республику» не прочитал? Послушай. Подожди здесь; я посмотрю, может она в библиотеке свободна. Но ты беречь ее будешь? Если она пропадет, у меня денег на копию не хватит; мне придется самой ее делать с воска, а на это не меньше года уйдет.
– Она такая длинная? – испугался я. Но потом вспомнил о Дионе и пообещал: – Да, поберегу.
Ее не было довольно долго. Наконец я увидел, что она бежит через рощу, ероша темные кудри. Право же, она хорошо сделала, что вовремя призналась; интересно, Платон то же самое чувствовал?
– Извини, – сказала, – книги нет. А потом Спевсипп, племянник Платона, меня разговором задержал. Но я тебе вот что принесла. Совсем короткая, и она тебе конечно больше понравится. Мне надо было сразу о ней вспомнить.
Там был всего один свиток, и не толстый. Я поблагодарил ее (быть может, слишком радостно) и спросил:
– Это тоже про закон?
– Нет, про любовь.
– Ну тогда мне точно понравится. Завтра, примерно в это же время, я ее принесу назад. Пойдет?
– Я буду здесь. Знаешь, ты первый мужчина, кто стал моим другом, хотя не занимался философией. Все остальные считают меня чудовищем.
– Ни один актер не посчитал бы наверно. Когда я надеваю женскую маску, я становлюсь женщиной. А если бы не стал – и сделать ничего не смог бы… У большинства из нас, служителей бога, природа двойная…
– Тебе эта книга понравится. Я рада, что нашла ее.
– А я – что познакомился с тобой.
Это была не просто вежливость.
В тот вечер я собирался с друзьями встречаться, но было еще слишком рано, потому я развязал книгу и заглянул в нее. Называлась она «Пир», начало во всяком случае веселое; а когда выяснилось, что пир этот происходил в доме Агафона после первой победы его пьесы, мне стало еще интереснее. Я играл в его «Антее»; это не только замечательная пьеса, но и начало нового театра, потому что он избавился от хора и дал нам сюжеты, не требующие присутствия на сцене полусотни зевак. К разочарованию моему, никаких сведений о постановке в книге не было; но диалог меня захватил и я стал читать всё подряд. А они там затеяли игру – каждый по очереди должен был сказать хвалебную речь о любви. Я настолько увлекся, что не замечал времени, пока не стемнело. Тогда я зажег лампу и вернулся к книге; и с места не двинулся, пока не дочитал.
В процессе чтения выясняешь, что первые речи задуманы лишь как иллюстрация самых нижних уровней любви; а чем дальше – тем выше. Но ведь то была мечта моего детства: благородная связь Аристогетона и Гармодия, Ахилла и Патрокла, Пилада и Ореста. Я вспомнил, как это было с моим первым возлюбленным, актером из Сиракуз. Он постоянно носил маску героя, но не для того чтобы меня обманывать, а уступая моему желанию, как я давно уже понял. Бедняга, ему наверно гораздо приятнее было бы иметь слушателя, кому можно было бы пожаловаться на свои беды: соперник не дал ему строки договорить или испортил его коронную сцену негодной жестикуляцией, гастроли обвалились где-то в дебрях Фессалии… Я вспоминал его доброту с благодарностью: он пощадил мои иллюзии; впрочем, мне всегда везло, как в основном и сейчас везет. Но я давно уже разуверился, что такая благородная связь существует на самом деле; а сейчас вдруг узнал, что существует, хоть и не для меня.
У Платона с Дионом это было; и я видел доказательство тому: двадцать лет прошло с тех пор, как был зажжен их факел, и весь жар уже выгорел из него, но он продолжал светить. Это было мне горько, хоть я и не рассчитывал на что-нибудь для себя; такова уж человеческая природа… Однако, поскольку слова и звучание их у меня в крови, я продолжал читать и не мог остановиться. Словно человек, услышавший лиру на горе, который просто не может не пойти к ней через все камни и колючки. Этот человек писал, как бог. Теперь, когда он умер, люди начинают говорить, будто мать зачала его от Аполлона… Нет, он был смертный. Я видел его, я знаю. Но легенду эту могу понять.
Ну а кроме всего прочего, это был великолепный театр. Просто руки чесались, поставить этот «Пир» на сцене. Алкивиад – бравурная роль, которую слушать просто наслаждение; Сократ попадал где-то между трагедией и комедией (современные авторы только-только начинают осваивать эту территорию), но персонаж меня захватил, поскольку прежде я его знал только по злой сатире в «Облаках» Аристофана… Если Сократ на самом деле был таким, как его подает Платон, то казнь его была гнусным убийством; руки Аристофана порядком запачканы… Это натолкнуло меня на мысль, что у Платона есть основания не любить драматургов, да и актеров тоже.
Возвращая книгу Аксиотее, я спросил ее, правда ли что он нас не любит. Всё это было задолго до нее, но она слышала школьные предания. Во время суда над Сократом Платон поднялся с защитной речью, что было чрезвычайно опасно в тот момент, учитывая настроения судей и правительства. Он успел только сказать «Господа, хотя я самый младший из всех, кто когда-либо стоял здесь перед вами…» Он собирался говорить от лица молодежи, которую, согласно обвинению, Сократ разлагал. Но все дикасты заорали «Сядь!», и он – не будучи профессионалом – просто не смог их заглушить, его не слышно было. Пожалуй, если он за всю свою жизнь так и не смог через это перешагнуть, тут удивляться нечему. Но, как я и сказал Аксиотее, это была громадная потеря для театра; у меня не было сомнений, что он мог бы сделать очень много.
Я встречался с ней часто. И потому что она мне просто нравилась, сама по себе, и потому что могла порассказать о Дионе. Не утратив надежды приобщить меня к философии, она познакомила меня со своими друзьями, среди которых был и Спевсипп, племянник Платона. Это был элегантный молодой человек, худощавый и жилистый, с лицом красивой обезьяны; который почти всегда выглядел так, словно почти не спал накануне; иногда с книгами, а иногда и нет. Но, несмотря на это, он ничего не пропускал. Аксиотея называла его одним из самых блестящих умов в их компании; и манеры у него были отменные; так что если речь заходила о театре, он обязательно спрашивал моё мнение, хотя и сам отлично знал все стоящие пьесы.








