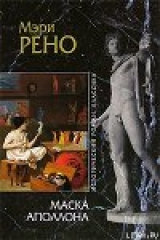
Текст книги "Маска Аполлона"
Автор книги: Мэри Рено
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
11
Едва вернувшись в город, я пошел к Филисту. Он был общителен, оживлен, деловит; и прекрасно понимал, что от него требуется как от хорега. Очевидно, моя работа на Диона оставалась тайной; это была вполне обычная встреча со спонсором. Он был очень корректен: знал, что причитается и его рангу, и моему положению, так что не спорил и не пытался учить меня моему делу. Будь он чужестранцем в чужом городе, я бы возвращался домой вполне довольным. А так – не мог отделаться от мысли о том, как легко он нашел оружие против Диона: простейший трюк, доставить удовольствие полезному человеку, на которого тебе наплевать.
В труппе теперь меня готовы были на руках носить, как жену старшего сына, которая наконец-то наследника родила. Когда я еще размышлял над письмом в Гелоре, они уже узнали о курьере. Менекрат мне рассказал, остальные почти что на коленях к нему приползли, чтобы он меня уговорил. Ну, он-то знал меня лучше, потому воздержался. А когда я сказал, что буду играть, – лица у ребят стали такие, словно им амнистию объявили от Карьеров. Мне пришлось напиться с ними, чтобы прежние отношения сохранить.
Но меня никак не оставляла мысль, что я должен повидать Диона. Не для того, чтобы извиняться перед ним; никакого обещания я не нарушил; наоборот, еще тогда объявил, что буду делать то самое, что делаю сейчас. Но я хотел сказать, что мне очень жаль переходить ему дорогу даже ради бога, которому служу, и что во всём прочем он может по-прежнему полагаться на меня. Но я никогда не произносил его имени, чтобы пройти через ворота; и ни в коем случае не должен этого делать, если у него могут возникнуть какие-то поручения ко мне. Конечно, можно было бы пойти к нему сразу от Филиста, который тоже жил в Ортидже; но мне показалось, что Филист окружен шпионами, и кого-нибудь из них он мог послать последить за мной.
Я промучился с этим делом две ночи и день; а потом меня вызвали к Дионисию.
Это могло послужить мне хорошую службу, как и прежде. Но, кроме того, должен признаться, я был полон любопытства. Этот человек мог надевать по три маски в день, будучи уверен, что каждая из них и есть его истинное лицо. Мне хотелось увидеть нынешнюю.
Настроение у всех стражников было получше. Римский офицер запомнил меня с прошлого раза и теперь спросил, уж не за Платоном ли я явился. Спросил не сердито, а как шутят с ребенком. Когда я показал ему письмо Дионисия, он тотчас посерьезнел. И я снова обратил внимание на то, как у этих людей повиновение обходится без угодливости; как ладно подогнаны у них доспехи; и как они держатся, словно не только сами знают, что они лучше всех, но и весь мир должен это знать.
Меня провели через комнату обыска, где обшарили всего. Евнух даже промежность мою прощупал. Но одежду мне дали покрасивее, чем в прошлый раз; очевидно, ранг мой повысился.
Приемный зал изменился. Судя по тому, что я успел увидеть, самое лучшее из коллекции старика отсюда выкинули, а освободившееся место заполнили современным искусством (зал был забит пуще прежнего). Зевксий исчез; все статуи жестикулировали, словно ораторы, а если женские – прятали руками гениталии. Одна Афродита выглядела настолько испуганной, словно ее только что провели через комнату обыска. По счастью, я заметил Дионисия раньше, чем успел расхохотаться.
Он сидел у мраморного стола (без крана такой не пошевелишь) в кресле из слоновой кости. Теперь его вполне хватало, чтобы это кресло заполнить. Наряжен был не только до предела сиракузской моды, но даже сверх того. Волосы вымыты ромашкой, завиты и посыпаны золотой пудрой; платье расшито пурпуром по кайме, настолько широкой, что ничего другого просто не видно… Я подумал, как бы мне добраться до его камердинера, чтобы тот мне продал, что они выкидывают; в этом наряде можно было б Радаманта играть. А вблизи Дионисий едва с ног не сшибал запахом духов, которыми был пропитан, словно старая гетера. Лицо он раскрасил «Загаром Атлета» и кармином, а глаза подвел углем. Я удивился было, что он носит всё это так, словно привычен, – пока не вспомнил рассказы Менекрата. Разумеется, когда появился Платон, всё это было спрятано. Но я, наверно, был единственным человеком в Сиракузах, кто мог удивиться.
Встретил он меня сердечно, но сказать ему было практически нечего; поначалу показалось, что он просто дает мне аудиенцию, чтобы продемонстрировать расположение свое. Только потом, когда он заговорил о прежних постановках в городе, расхваливая того или иного артиста, я понял, зачем меня позвали: разнести по городу новость, что запрет театра отменяется.
Я подивился, каким образом Платона выгнали из города на этот раз, и представил себе уныние в Академии. Надо будет привезти Аксиотее какой-нибудь подарок, чтобы хоть как-то ее развеселить.
Дионисий копался в вазе со сластями, стоявшей на столе. И вдруг заявил:
– Мне Платон только сегодня рассказал, как ты попал в кораблекрушение по дороге домой в прошлый раз. Я этого не знал…
Я начал рассказывать, но думал совсем о другом. Значит, чары Платона еще не иссякли, думал я. Но что дальше? Ну, высвистел он эту птичку себе на ладонь; улетать она не хочет, но и петь ему не собирается. Иначе откуда бы взялся этот ужасный наряд? Хотя, весь мир знает, как Алкивиад срывался в поводка и с мольбой возвращался к Сократу, предъявляя вместо пропуска свое непобедимое очарование.
– Я полагаю, – сказал он, – ты потерял ту картину, что я тебе подарил? Осаду Моти.
– Увы, господин мой. Она погибла. – Он расстроился, как ребенок; и я решил доставить ему удовольствие: – Это великая потеря и для меня, и для Афин. Но я еще больше горевал о той модели колесницы; и не только потому, кто мне ее подарил, но и потому, что я никогда не видел столь совершенной работы.
Я надеялся, что лицо его просияет, как прежде; но он небрежно улыбнулся и послал за дворецким. Тот появился со связкой ключей.
– Пойди в мою старую мастерскую и принеси модель колесницы, – распорядился Дионисий. Когда дворецкий вернулся, он пару раз повертел колесницу в руках, протянул мне (я заметил, что ногти он по-прежнему грызет) и сказал: – Ну, хотя бы одну потерю я могу тебе возместить. Государственные дела не оставляют времени на игрушки.
Игрушка была покрыта пылью. Стыдно признаваться в такой глупости, но я чуть не заплакал.
Когда уходил, никто не обращал на меня ни малейшего внимания; потому я направился к дому Диона, размышляя по дороге о словах Дионисия по поводу государственных дел. Уж очень он старался показаться важным. Когда я видел его с Филистом, ясно было, что тот ему подыгрывает; так опытный колесничий, тренируя молодого богача, позволяет тому думать, будто он правит сам. Дионисий подходил для этой игры больше любого другого. Но у меня и в мыслях не было, что Дион может опуститься до такого притворства: слишком это было не похоже на него.
Дом Диона был в полном порядке, ухожен как всегда… Но что-то там поменялось, жизни не чувствовалось вокруг. Подойдя к двери, я понял, что это мне не померещилось: раньше она стояла открытой, теперь была заперта.
Я постучал и отрекомендовался. Пока стоял, ожидая ответа, из-за угла появился очень красивый мальчишка лет семи-восьми, поглядеть на меня. Сходство было разительным. Вероятно, он слышал мое имя раньше и ему стало любопытно; но едва он заметил, что его увидели, – сразу исчез. А вскоре появился слуга и сказал, что хозяин занят и никого не принимает. И ни слова о том, чтобы я пришел в другое время.
И вот иду я по Ортидже, а на душе кошки скребут. Я-то думал, он меня простит; сам он делал, что считал правильным; хоть и жалел меня, но поворачивать назад не собирался. Вот и теперь то же самое. Я бы никогда не закрыл для него свою дверь. Но то я, для меня жизнь человеческая – дерево с переплетенными корнями. А для философа-политика она, должно быть, больше похожа на чертеж Пифагора…
Вскоре я заметил на улице Спевсиппа. Даже поздороваться с ним было трудно; но он перешел на мою сторону и пригласил меня выпить. Поэтому я набрался храбрости спросить, очень ли сердит на меня Дион.
– Сердит? – переспросил он. – Я такого не знаю. С чего ты взял?
Когда я рассказал, он сообщил мне, что спектакль еще не объявлен; я понял что это для него новость, причем новость не такая уж важная. Однако, разговаривал он очень ласково:
– Ты не расстраивайся из-за этого. Если Дион и знает о постановке, в чем я сомневаюсь, он же понимает, что работа тебе нужна, иначе голодать придется. Можешь не сомневаться, он справедлив. Ты знаешь, насколько я понял, Дионисий собирался закрывать театр по собственной инициативе. Ни Дион, ни Платон этого не добивались; их задача учредить закон вместо тирании. Но Дионисий нашел эту мысль в «Республике»; и это было нечто такое, что можно сделать сразу же и без труда. Ты ж его знаешь; он как ребенок с новой одежкой.
– Но написал-то Платон, – возразил я.
– Да… Знаешь, Нико, мы в Академии стремимся обеспечить мир государственными деятелями. Уже сейчас города приходят к нам, чтобы мы составили своды законов для них. Но мы – как сапожники: кроим по мерке. В «Республике», я бы сказал, не рецепты даются, а принципы обсуждаются. Между нами, мне кажется, что те строки были обращены к поэтам, призывали их к ответственности. Сегодня у половины из них психология шлюх: отдай мою драхму, а если кто оспой заразится – не моя печаль. А Платон такой человек, что он ни за что на свете не добавил бы и зернышка к мировому злу. Когда таких, как он, не останется, люди начнут пожирать друг друга и исчезнут с лица земли. Вот почему Дион защищал его перед тобой; и я тоже.
– Но если не из-за пьесы, – говорю, – почему же Дион не хочет меня видеть?
– Сомневаюсь, чтобы он как-то специально тебя выделил; в последнее время он с многими встречаться отказывается. Он обнаружил, что если пытается кому-то посодействовать, то происходит нечто противоположное. Похоже, что Дионисий таким образом значимость свою демонстрирует, не вступая в открытую ссору. Платона он, по возможности, во все эти дела не вовлекает; чтобы не услышать что-нибудь такое, чего слышать не хочется. А Диона подкусывает. Дион обнаружил, что если он замечает друзей – это им во вред. Потому и не хочет никого видеть.
– Обидно… Но со мной, я боюсь, он на самом деле сердится. Иначе – зная, что я так думаю, – он бы мне написал. Разве нет?
Спевсипп покачал головой:
– Нет, Нико. Ты сам в таком случае написал бы, потому и от него того же ждешь. Но Дион очень горд. Пока ты этого не поймешь, считай что не знаешь его.
Я вспомнил его стол, заваленный прошениями и государственными бумагами. Как человеку вроде него – просить прощения у такого, как я, за то что он не может больше считаться надежным слугой? Горечь моя прошла.
С тех пор как умер мой отец, когда я выходил на сцену статистом, я ни разу не играл в «Вакханках». В бытность мою вторым актером, мне однажды предложили отцовские роли, но я отказался; наверно больше из суеверия, чем из почтения к отцу; уж он-то точно посчитал бы это глупостью. Теперь, протагонистом, мне предстояло играть бога; с одним коротким выходом прорицателя Тиресия. У Менекрата обе роли, Пентей и царица Агава, получались отлично.
Это пьеса о таинстве, и сама она таинство. Спросите разных актеров, что Эврипид хотел сказать в ней, – и каждый ответит что-нибудь своё. Вот я отыграл в ней уже раз семь, но так и не решусь сказать ничего определенного. Мне кажется, можно даже предположить, что написана она, чтобы показать что богов нет. Если так, то кто-то подкрался к поэту и дышал ему в затылок, когда он не видел. В одном, мне кажется, мы можем согласиться: бог «Вакханок» не был задуман похожим на людей.
В Сиракузах есть первоклассные масочники; и на нас, разумеется, работали самые лучшие. Дионис получился красив до чрезвычайности; белокурый, тонкое, почти женственное лицо, как описывает его пьеса, но глаза раскосые, обведенные темным, как у леопарда. Мне маска понравилась: как раз то что надо. Менекрат был очень доволен своей Агавой, а Пентея должны были вот-вот закончить.
С Филистом никаких проблем не возникало. Иногда он появлялся на репетициях, сидел в амфитеатре; заходил за сцену сказать, что всё идет замечательно; или спрашивал, довольны ли мы машинами… У них там была масса отличных эффектов, землетрясения и много чего еще. Конечно, в Сиракузах такие вещи делают лучше, чем где бы то ни было; но казалось, что он старается сердечность проявить, даже пригласил труппу на банкет. Остальные пошли, и я ничего не имел против. Но сам отговорился, сказав, что во время гастролей страдал расстройством желудка (обычная жалоба на Сицилии, где много плохой воды), и теперь нахожусь под наблюдением врачей. Настаивать он не мог, если хотел чтобы пьеса пошла, так что меня оставили в покое. А я готовился к роли, чтобы богу служить, а не идти в прихлебатели к Филисту.
Эти полмесяца репетиций я занимался еще и тем, что ходил по винным лавчонкам на бедных улицах и слушал, что говорят люди. Я рассчитывал, что таким образом выясню что-нибудь такое, чего Спевсипп узнать не может. Ведь на нем написано, что это аристократ; а я мог выдать себя за солдата или за ремесленника, даже не переодеваясь, просто жестами: как сидеть, как стоять, как волосы приглаживать… Обычно я говорил, что я сценограф из Коринфа. У коринфян акцент очень легкий.
Пробыв достаточно долго среди солдат и слуг Архонта в Ортидже, я уж начал думать, что у Диона вообще ни единого друга в городе не осталось. А теперь узнал совершенно обратное. Рабочий люд единодушно обвинял в запрете театра Платона, заморского софиста, о котором они знали только то, что он очередная причуда Дионисия; уже этого было достаточно, чтобы его проклинать. Они были уверены, что Дион никогда не учудил бы такого богохульства. Дион – прекрасный человек. Когда умер старый тиран, и он прибрал щенка к рукам, золотое время было. Люди могли приносить на его суд свои обиды, даже против богачей; и налоги распределены были справедливо; а самые подлые грабители в Карьеры пошли. Наемников заставили вести себя в городе прилично, а не так словно они завоеватели… И так далее. Говорили, все надеялись, что он поднимет город; но, похоже, когда дошло до свары, он оказался слишком благороден.
Я не мог себе представить, на что они рассчитывали; что он мог бы сделать без их помощи. Они, наверно, думали, он мог бы составить заговор, перекупить наемников и захватить Ортиджу; но, похоже, никто не имел понятия, как такие вещи делаются. Дома мне постоянно говорили, что я в политике круглый дурак; но здесь любой афинянин, даже я, казался экспертом, как взрослый среди детей. Мы можем быть как угодно беззаботны, но есть вещи, о которых любой взрослый человек обязан заботиться сам; и для нас это само собой разумеется. А они это всё позабыли.
Они говорили о Дионе, словно о боге, помыслы которого неисповедимы. Наверно, на Сицилии как раз этого и стоило ожидать. Но у богов есть оракулы, есть жрецы, передающие им послания от простых людей. У Диона таких не было.
Я понес свои открытия Спевсиппу. Он рад был получить новую информацию; самому ему лучше всего удавались контакты с горожанами среднего класса, среди которых день ото дня набирали силу сторонника Филиста. На самого Диона они не нападали, зная, насколько его уважают; зато сочились ядом в адрес Платона. «Во времена наших отцов афиняне послали две армии с флотом, чтобы покорить Сиракузы. Никто живым не вернулся, кроме нескольких дезертиров, кто в лесах попрятался, да беглых рабов. А теперь Афины шлют велеречивого софиста – и смотрите, чего он добился! Запутал Архонта в своей паутине; скоро высосет его и отдаст власть Диону, который был его мальчиком когда-то, весь мир это знает…» Такие разговоры шли.
Спевсипп сказал, что люди культурные, сами читавшие Платона или хотя бы говорившие с теми, кто читал, поддаются агитации не так легко; но и они начинают верить, что реформы проводятся слишком поспешно и вызовут хаос, это им внушают каждый день. Самую серьезную поддержку, сказал он, Дион имеет среди людей, которых он почти не знает, а я вообще не встречал: это потомки древней Сиракузской аристократии, отцы которых боролись со старым тираном. Их восстание было недолгим, но свирепым; ответ Дионисия соответствующим; они, или их вдовы, передали сыновьям факел кровной мести, и он еще тлел.
Он мне еще много чего рассказывал, но почти всё остальное забылось: к тому времени я уже по уши в «Вакханках» увяз. Однако помню, что был разговор о Карфагенском посольстве, которое должно приехать для переговоров о мире. При старом Архонте, сказал Спевсипп, таких послов всегда Дион принимал; они верили его слову; а кроме того он знал их обычаи, – и держался так, что они восхищались его прямотой и немногословной четкостью. Теперь он начинает волноваться, как бы Дионисию не вздумалось взять это на себя. Он с ними тягаться не в состоянии; в лучшем случае они выторгуют себе преимущества, в худшем – он потеряет голову и спровоцирует их на новую войну; им будет даже легче решиться после знакомства с ним. Поэтому Дион делает всё что может, чтобы карфагеняне не узнали о его опале.
Я сказал, надеюсь, что ему это удастся; а сам думал, придет ли он в театр. И переменится ли ко мне, если я хорошо сыграю; откроет ли снова дверь свою для меня. Я боялся, что эта пьеса не для него: он может увидеть в ней лишь еще одну сказку про Олимпийцев, которые ведут себя хуже людей. Но этого бога головой воспринять невозможно; как раз об этом и пьеса, насколько я понимаю. Я должен играть – как чувствую; а всё прочее оставить богу.
Стратокл, хормейстер старого Дионисия, оставался в городе, дифирамбы ставил, так что всегда был под рукой. Этот человек знал своё дело и не считал для себя зазорным прислушаться к протагонисту, что в нашей пьесе очень важно. И всё шло так хорошо, – мы уж начали бояться, как бы какой бог не позавидовал; и почти обрадовались, когда масочник сказал Менекрату, что подмастерье испортил его маску, – краску на нее пролил, – и теперь она будет готова только к спектаклю.
– Если что, – сказал Менекрат, – я могу надеть вторую маску Ипполита. – (Там три маски: счастливая, сердитая и предсмертная) – Пентей по всей пьесе молод и сердит; так что в крайнем случае сойдет и она; а мы сможем сказать, что принесли жертву богу удачи.
– Аминь, – ответил я.
На Сицилии пьесы начинаются очень рано, потому что скоро наступает жара. Театр в Сиракузах обращен к юго-западу и врезан в склон Ахрадины. Солнце поднимается за горой, и начинаешь в сумерках ее тени, пока первые лучи не осветят сцену.
В то утро небо пылало, громадные крылья пламени вздымались с востока из-за горы почти до самого зенита. Но когда подошло наше время, эти крылья сложились и замерли; нам осталось тонкое мрачное зарево пурпура и бронзы. Увидев этот заколдованный мрачный свет, который сам Эврипид мог бы вписать в свою пьесу, мы с Менекратом переглянулись; мы не решались сказать «Добрый знак!»
Погасили факелы, провожавшие зрителей на места; зазвучали флейты… Я надел свою маску.
Дионис вступает один. У меня есть свой приём, которым я всегда пользуюсь, когда пьеса начинается в полумраке. Я прохожу к алтарю Семелы, на котором догорает огонь, – это у драматурга так, – там подбираю факел, зажигаю его, поднимаю над головой и осматриваюсь вокруг. И весь вступительный монолог читаю вот так, с факелом, расхаживая по сцене, разглядывая царский дворец, который мне предстоит разрушить. Бог не может быть похож на смертного, замышляющего зло. Он любопытен, он хочет понять, что здесь происходит; так леопард, пришедший из горных лесов, бесшумно крадется вдоль людских стен, нюхает их… И нет в нем никакой вины, что он именно таков.
Я люблю это спокойное начало. Потом, когда я поднимаю голос, призывая фригийских менад, – все вздрагивают; и это хорошо. И тут они появляются, в пляске, с дудками, барабанами и кимвалами; и тишины как не бывало… А с ними и молодые сатиры, факельный танец исполняют.
Уйдя со сцены, я увидел Менекрата уже одетым; на затылок сдвинута маска Ипполита, новую так и не принесли. Я сказал, обидно, что ему придется играть в старой маске; ведь все остальные просто замечательны. Он возразил:
– А знаешь, мне так даже удобнее. Я с этой маской сыгрался. Больше всего боялся, что сейчас примчится посыльный, весь в мыле, и притащит другую, пока я ботинки шнурую. Знаю я этих знаменитых художников; никому не хочется такого обижать, хореги всегда на его стороне, потому что им еще придется иметь с ним дело… Новую пришлось бы носить, едва глянув на себя в зеркало; а этого мало.
Я обрадовался, что он принял это так легко, и пошел переодеваться в пророка Тиресия.
Когда я вновь вышел на сцену, небо уже начинало синеть, и горы осветились солнцем. Это как раз то, что нужно, когда вместо богов выступают смертные.
Тиресия при желании можно приподнять; некоторые актеры так и делают; но я предпочитаю отдавать эту сцену царю Кадму, старому приспособленцу, который готов, ничего не спрашивая, плясать в горах хоть с богом, хоть с шарлатаном если это придает ему какой-то статус. Я играл просто откровенного человека, ради смеха его. Он помогает раскрыть пьесу; ведь как Пентей ни злобен и ни упрям – кто-то должен подчеркнуть его искренность. В ней самый гвоздь трагедии.
Тиресий слеп, и маска для него соответствующая: смотреть можно только через щелочки между веками. Но и через них было видно, что принимают нас хорошо.
Менекрат закричал, понося вакханок и их обряды. И как раз перед его выходом первые солнечные лучи осветили сцену, один попал прямо на дверь, уже открытую. «Кто-то из богов любит нас сегодня», – подумал я.
И вот в этот свет вступил Менекрат; там большой выход с толпой статистов. Одеяние его горело кровавым пламенем, на нем полыхало золото и сверкали камни. И он был в новой маске. Должно быть, ее принесли в самый последний момент, когда я переодевался. Такого достаточно, чтобы выбить из колеи любого актера; но он держался отлично, головы не потерял.
И тут я начал слышать зрителей. Сначала стало слишком тихо; потом толпа загудела, послышались сердитые возгласы; а потом – смех. Хорошие маски лучше всего видны издали. Менекрат подходил в маске Пентея, а я старался рассмотреть ее через свои щелочки слепца, чтобы понять, что там не так. Хорошая характерная маска; резкое, гордое лицо; в самый раз для ненавистника смеха и врага радостного бога. Так что же там не в порядке? И тут я увидел.
Маска была портретная, какие в комедии используют, только не такая грубая; карикатура, но карикатура мягкая, приглушенная, чтобы хоть как-то соответствовать трагедии. То было лицо Диона.
Менекрат начинал свой длинный монолог, – а я в сцену врос; стоял деревянный, как столб. Вспомнил все проволочки, извинения масочника; а потом ее принесли, когда я уже на сцене был, так что не мог увидеть… Когда копье впивается в тело, бывает – человек смотрит на него и удивляется, что это такое; пока до него не доходит боль. Вот так дошла до меня мысль о Дионе: ведь он сидит там на почетной скамье, а мы бросаем это поношение ему в лицо! Ведь он будет уверен, что я знал!
Он и так уже наверняка подумал обо мне хуже, из-за того что я согласился играть. А теперь будет думать, сколько же заплатили мне Филист и его хозяин, чтобы я на это пошел? Ничтожество в маске, продавец иллюзий; наложник поэтов, тратящий жизнь свою на демонстрацию страстей, которые любой философ старается обуздать; бездомный бродяга, кочующий из города в город – таких людей купить не трудно…
Меня замутило. Был момент, когда показалось, что вот-вот вырвет на сцене. А Менекрат был уже на середине своего монолога:
Да говорят, какой-то чародей
Пожаловал из Лидии к нам в Фивы…
Это ж Дионис, в маске которого мне скоро выходить. Я вспомнил тот вступительный монолог с факелом, где я обещал месть человеку, запретившему мой культ. Я – Дионис, бог театра. А теперь…
Теперь я мечтал о землетрясении, чтобы сцена провалилась; точь-в-точь как в детстве, когда лежал нагишом на троянском щите. Но ведь само оно не начнется; это я – бог – должен сказать своё слово. А потом бы я сел и смеялся бы, смеялся, пока бы не заплакал…
Ну, попадись он мне, – тогда стучать
О землю тирсом, встряхивать кудрями
Не долго будет – голову сниму.
Менекрат шел вперед, с угрожающими жестами; а я думал, что он знает? Всё казалось наполнено ядом.
Маску принесли поздно. Но всегда можно найти время отойти от нее и глянуть. Однако, он мог и не сделать этого; не хотел сбивать свой образ и предпочел просто нацепить ее, не глядя. Но, с другой стороны, кто ему Дион, чтобы ради Диона портить отношения с могущественным спонсором? Мой друг – так что с того? Если он и видел, то никогда не признается. Никто бы не признался. Он живет в Сиракузах; как смеет упрекать его свободный афинянин? Так это и остается у нас, будет стоять между нами…
Все ты, Тиресий…
Он пошел по сцене ко мне. В конце этой тирады я должен начать свой монолог; но в голове не было ни единой строчки.
… видно, снова хочешь,
Вводя к фиванцам бога, погадать
По птицам и за жертвы взять деньжонок.
По идее, я должен был как-то реагировать на его слова. Он уже ощутил мою немоту и начал терять силу; я ему никак не помогал. Но тут рука моя сама поднялась за оскорбленного провидца и ударила тирсом по сцене.
У Тиресия были все основания разозлиться. Я вспомнил тщеславного дурачка в Ортидже, сидящего, словно писарь, у стола своего великого, хоть и мерзкого отца; и веселого Филиста, с благородными манерами, жирного старого паука, трясущего свою сеть; и Диона, сидящего сейчас в амфитеатре и хранящего невозмутимое лицо (достойный человек принимает и удовольствие и боль одинаково бесстрастно) в час крушения, когда даже бездомный пес, которого он кормил со своей тарелки, взялся его кусать. До сих пор сердиться было рано.
Выйти из себя на сцене – катастрофа; мне повезло, что я еще в юности научился с этим бороться. Когда в девятнадцать лет тебе приходится выходить на сцену в маске, измазанной изнутри дерьмом, этого уже не забываешь. Бедный Мидий никогда, до самого конце наших гастролей, не прекращал подобных попыток заставить меня забыть мои строки. Так что теперь я схватился за оружие, которое всегда меня выручало, если не было другого. Я здесь для того, чтобы почтить бога; в священном пределе, где никто не даст воли рукам, даже встретив убийцу своего отца. Об этих священных законах вспоминаешь редко; да и приходится редко; но у нас они в крови. И теперь я мог сражаться лишь в рамках этих законов. Они попытались отобрать у меня пьесу, превратив ее в третьесортную сатиру, – я снова сделаю ее трагедией, если даже умру на сцене.
Я вступил вовремя, но перебивался со строки на строку. В какой-то момент увидел за глазницами маски, как Менекрат замигал, – и подивился, сколько же я пропустил. По счастью, это самое скучное место в пьесе. Я потряс свои тирсом; точнее, просто держал руку, а она сама тряслась; но Тиресий очень стар и очень рассержен. Я переигрывал, конечно; но Менекрата это снова разогрело, так что в общем получилось не плохо.
Со сцены я уходил вместе с Филантом, игравшим Кадма. Едва мы убрались с глаз долой, он сдвинул маску на затылок и уставился на меня; переполненный словами настолько, что сказать ничего не мог, только хотел. Я поднял руку, чтобы его остановить:
– Нет, помолчи. Сначала доиграем, всё остальное потом. И ни слова Менекрату.
Едва я начал раздеваться, в моей уборной появился Менекрат, прямо со сцены.
– Что случилось, Нико? Что с публикой? Ты знаешь, что пропустил двадцать строк, а остальные всё больше импровизировал?… И у этой маски глазницы слишком узкие, почти ничего не видно.
Я не сказал ему «Со мной не надо притворяться, друг мой». Ведь это могло быть и правдой. Даже при хороших глазницах видишь только то, что прямо перед тобой; чтобы посмотреть вбок, надо голову поворачивать. Так что он мог и понятия не иметь, что вызвало тот переполох.
– Дорогой мой, – говорю. – Давай оставим это на потом. Это политика; но мы будем заниматься своим делом, пока не закончим. Если ты что-нибудь узнаешь – не расстраивайся; нам надо пьесу доиграть. Когда оденусь, я хочу со своей маской посидеть.
Некоторые актеры просто обойтись не могут без этого ритуала; его очень любят изображать художники и скульпторы. Что до меня, я предпочитаю заранее забирать свои маски домой (если не дают, скандалю) и осваиваться с ними в тишине, чтобы не было никаких свидетелей кроме бога. Но в театре есть хорошая традиция: если кто-то сидит перед маской, тревожить его нельзя. Это дает человеку возможность собраться, если что-нибудь выбило его из колеи. Я слышал, как мой костюмер шёпотом спроваживает людей от двери. Голоса мальчишек-хористов то приближались, то удалялись: они там плясали на орхестре. А я сидел, опершись подбородком на кулак, и смотрел в леопардовые глаза изящного, мягкого Диониса; и размышлял о бессмертном охотнике и его жертве.
Но вот позвали; стража вывела меня к целомудренному Пентею. Бог маскируется под смертного юношу, но все вокруг ощущают в нем что-то сверхчеловеческое, все кроме царя; а царю он отвечает мягко, с улыбкой, и хоть говорит правду – но туманно. Аудитория наша притихла; но я чувствовал, как все напряглись; толпа шелестела, словно мыши в стене. Вот сейчас я должен их забрать; потом уже поздно будет: важнейшая сцена пьесы как раз здесь.
Пентей обвиняет бога в том, что тот просто-напросто ловкий шарлатан, срезает ему волосы (парик там хитрый) и требует, чтобы тот отдал ему тирс. «Сам отними, – спокойно отвечает бог. – Мой тирс – от Диониса.»
Эту строку я произнес со всем смыслом, какой в ней есть; и Менекрат – актер очень чувствительный – мне подыграл: он задержался на момент и замолк, прежде чем яростно схватился за мой посох. Я повернулся к хору менад с жестом, который говорит: «Готово!» В театре воцарилась тишина; нагруженная страхом, как я и хотел.
Тирс – символ божественного безумии, который человек должен выбрать сам. Так каждый удовлетворяет свою природу.
Ведь бог поначалу пришел в Фивы с миром. Он говорил: «Принесите мне всю необузданность, всю распущенность ваших сердец; я это понимаю, это мое царство. Мой дар – это меньшее безумство, которое даст отдохнуть вашим душам и избавит их от большего. Познайте себя, как говорит вам мой брат Аполлон. Я нужен вам.» Фиванские женщины возмутились: «Да как ты смеешь?! Ты хочешь нас в животных превратить? Мы в городе живем, у нас законы. Ты оскорбляешь нас. Оставь, уйди!» Как раз поэтому они и получили безумие бога без благословения его; и теперь носились по горам, разрывая волков ногтями.








