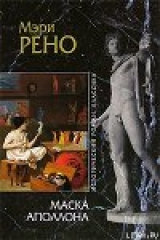
Текст книги "Маска Аполлона"
Автор книги: Мэри Рено
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
22
На следующем Собрании, – едва успели мертвых похоронить и пленных отдать в Ортиджу за выкуп, – Гераклид предложил, чтобы Дион был провозглашен Верховным Главнокомандующим с неограниченной властью. Это был прежний титул Архонтов. Дион не стал ни отказываться, ни соглашаться, а оставил это народу. Дворянство и средние горожане были за; а простолюдины, среди которых болтались друзья Гераклида, стали превозносить его широту души и снова избрали его адмиралом, с тем же статусом.
Я репетировал «Персов»; но услышав эту новость на агоре в Леонтинах тотчас понёс ее Рупилиусу.
– О, Юпитер гремящий!.. – простонал он. – Этот парень даже зерновоз через проливы провести не может… Дион их остановил?
– А как? Он же торжественно простил Гераклида, при всех; а неограниченную власть он вообще не признаёт. Начни он возражать, – выглядел бы подозрительно со всех сторон.
– И Гераклид это знал. Нельзя было оставлять его в живых.
– Дион мне сказал однажды «Государство – это совокупность граждан. Если все они откажутся от собственной добродетели, то как смогут они построить общественное благо?» Конечно, это верно.
– Да? Ну и что?
Он потянулся за палкой; я ее вложил ему в руку.
– Не знаю, – говорю. – Даже Платон вернулся домой, еще раз подумать.
– Платон!.. Ты при мне его имя не называй лучше…
И вежливо отвернулся, чтобы сплюнуть по другую сторону ложа.
А на следующем Собрании Гераклид снова выступил с разделом земли. Напомнил людям, что однажды это предложение уже было принято; что было после, – об этом говорить не стал. Большинство голосов было за. Возражали только землевладельцы; и крупные и мелкие; а на них лежало бремя войны, поскольку именно они имели военную подготовку. Дион, не тратя слов на официальные речи, просто запретил это дело; на правах Командующего сухопутными силами. Народ расходился с ворчанием, – бедняки всегда и везде ворчат, – а люди Гераклида разносили: «Тирания!»
Вскоре после того я поставил «Персов», разделив главные роли с Менекратом. Он сказал, что если не будет работать с ума сойдет. Он до того рвался домой из Италии… По счастью, вернулся так поздно, что уже не увидел тела своих. Я расплатился с человеком, которого собирался занять в пьесе; тот конечно не обрадовался, но понял. Уж такую мелочь для давнего друга хоть кто обязан. Я играл Вестника и Духа; Менекрат царицу Атоссу и Ксеркса. Получилось плохо. Я и не настроен был, и вообще не в форме; хор с бору по сосенке; а Менекрат – хотя, мне кажется, он и рассудок сохранил только потому, что смог выговорить своё отчаяние в той повести о древних бедах, – выступил слабо. Так всегда бывает если актер работает только на эмоциях, забывая о школе. Однако, как всегда в такие времена, зрители решили, что раз уж он чувствует, что показывает, он и должен быть вот таким; и пьесу приняли на ура. К концу он был весь в слезах, – неважно, там и действие к этому подводит, – но после того снова смог и есть, и спать.
Вскоре он уехал в Ионию, в которой никогда прежде не бывал. Забыться хотел, естественно. Дом его спалили дотла; но деньги были по-прежнему зарыты в таком месте, которого никто не знал. Если бы жена знала, это всё её не спасло бы; разве что умерла бы полегче, поскорей. Но он и понятия об этом не имел; и мог хотя бы радоваться, что не разорился. А я остался на Сицилии чуть подольше, обучая Рупилиуса писать по-гречески. Ему предстояло вскоре встать на ноги, но уж слишком он ко мне привык; дочери его были замужем, сыновей живых не было… Но, по правде сказать, это был просто предлог. А я и сам не знал, что меня держит: надежда или страх.
Дионисий обосновался в Локри, в городе матери его, к северу от Региума по побережью. Говорили, что трезвым он бывал очень редко. Но капитаны его бывали; так что флот частенько неприятности приносил. Потому эскадра Гераклита пошла на север очищать проливы, и встала на якорь у Мессины.
Солдаты, воевавшие на кораблях, подчинялись своим офицерам, как обычно. И едва они лагерь разбили, как их командующий послал Диону донесение, что Гераклит склоняет флот к мятежу.
Моряки всё время служили под Гераклитом; он завоевал из расположение расхлябанной дисциплиной; а Диона они не знали, как солдаты. В Сиракузах, как и везде, моряки победнее чем горожане-солдаты, которым приходится доспехи приобретать. И все моряки демократы; но наши в Афинах привычны к общественным делам и слишком много разных обещаний от демагогов наслушались, чтобы всему верить; а у этих практики было поменьше. И Гераклид стал им рассказывать, что прежний тиран бывал постоянно настолько пьян, что в худшем случае мог только пренебрегать ими; а вот новый всегда трезв, и никогда не даст им свободы.
Солдаты все как один были за Диона; вся экспедиция оказалась на грани войны. Если встречались солдаты с моряками в винной лавке, дело кончалось потасовкой. А офицеры следили за Гераклидом, словно псы у лисьей норы. И поймали-таки подозрительного гонца: оказалось, что связан с Дионисием.
Когда это случилось, они пригрозили, что уведут свои людей и обвинят его, если он немедленно не вернётся. Пришлось ему возвращаться. Но как раз в это время Дионисий послал на Сицилию наёмную армию со спартанскими офицерами. Корабли Гераклида им мешать не стали, и они высадились у Аркаги.
К этому времени Рупилиус уже прыгал по дому, но в сад выйти еще не мог. Когда он услышал о спартанцах, – я думал, убьёт себя, пытаясь дотренироваться до боевой формы; носился вокруг него дурак-дураком, всё уговаривал его отдохнуть; а он в ответ возмущался, что мол я знаю о таких вещах. В конце концов рана его рассердилась, а доктор и того пуще; он-таки себя угробил. Наверно, плакал бы, если бы римляне умели.
Леонины крошечный город; афинянин там себя чувствует взаперти; потому я быстренько нашел себе дело в Сиракузах. Город выглядел ужасно; повсюду крысы на развалинах, а люди в шалашах или за плетенками прячутся. Театральная харчевня, чтобы хоть как концы в концами сводить, продавала вино кому попало; а ни одного актера я там не увидел. И всё-таки, именно в Сиракузах хоть что-то происходило, и там был Дион. На людях он не показывался, только распоряжения рассылал; а фракции из Мессины вернулись туда, плодились и множились. Схватки на улицах случались по несколько раз в день. Солдаты постоянно маршировали по улицам, а моряки частенько забрасывали их камнями или старались задержать.
На улице я повстречал Тимонида из Академии, того самого, что после историю написал; а тогда он держал Платона в курсе дел, регулярно письма ему слал. Хоть мы были едва знакомы, встретились почти как родные; два афинянина в чужом городе. Это был небольшой жилистый человечек с высокой лысой головой; на сей раз даже в шлеме. Он рассказал мне, что силы Дионисия окапываются, а Геракид носится с идеей атаковать спартанцев в поле. Ребенку было ясно, что в тех обстоятельствах это самоубийство. Как и при разделе земли, «Нет» пришлось сказать Диону. А тогда Гераклид обвинил его в том, что он затягивает войну, чтобы продлить свою власть.
– Но послушай, – сказал я, вытаскивая его из галереи, которая могла вот-вот обвалиться. – Почему его не судят? Ведь он не только нарушил торжественную клятву, данную перед всеми; он просто предаёт город!
– Пока граждане не потребуют, никакого суда быть не может. Кто его станет судить?
Тимонид был не только тощ, как оса, и совсем желт от недавнего приступа лихорадки, но и раздражителен. И теперь взорвался:
– Я говорил ему; мы все ему говорили, что он много бед себе наделал, когда простил того типа. Моральная логика, государственная мудрость, да простой здравый смысл сельской домохозяйки – хоть что-нибудь покажи мне том дурацком решении! – покажи хоть что-нибудь одно, сказал я ему. Но нет. Каменеет и стучит пальцами по столу, вот и всё. Он Дион; и на меньшее не согласен; а теперь всё кончается. Закон, согласие граждан, правосудие… После погрома, когда того судили, все были на стороне Диона. А что ему теперь осталось? Только сказать, как Дионисий говаривал: «В Карьеры его, потому что я так хочу»? Ты можешь себе такое представить? Да он скорее шлюху прилюдно поимеет. Он связан по рукам и ногам; и мы все это знаем; и он это знает; и хуже того – Гераклид тоже знает! И что мы можем? Только молиться, чтобы его как-нибудь убили в бою. Дорогой мой Никерат, я каждый день об этом молюсь; каждому богу, кто мог бы услышать.
– Да в каком бою, раз вы не выступаете из-за него?
– О, выступим… Дион не потерпит обвинений в трусости и тирании.
– Чего-чего? В трусости?
– Да-да, ведь люди забывают… Ты в своей профессии не видал разве, что толпа забывчива?
– Холодный мир ты показал мне, Тимонид, – сказал я.
– Ну, это не ново. Надо делать, что можем… «Познай себя», «Ничего сверх меры»… В этих старых афоризмах есть своя истина. – Он уже попрощался со мной, а потом вдруг вернулся и добавил: – Он очень хороший человек. Один из лучших в наше время. Если бы он мог еще и сомневаться в этом, как Сократ, был бы по-настоящему велик.
В результате, экспедиция выступила таки против сил Дионисия; флот пошел вдоль берега, а армия по суше. Несколько недель их не было, но ничто так и не решилось. Рупилиус снова начал ходить; и говорил всем, что скоро снова будет в строю; хотя ясно было, что останется хромым на всю жизнь. А потом пришла весть, что Дион со всей кавалерией прискакал в город на полузагнанных конях, запер ворота и выставил людей на стены. Человеку, который нам это рассказал, пришлось провести ночь в запертом городе. Дион вовремя узнал, что Гераклид возвращался с флотом, чтобы захватить Сиракузы. Увидев, что его опередили, он вошел в город спокойно; под предлогом того, что услышал о флоте Дионисия на подходе. Правду знали все; но пойди докажи!
Слухи об этой сваре расходились теперь по всей Греции. Спартанцы, со своим древним высокомерием, словно и сейчас были хозяевами всей Эллады, послали в Сиракузы своего генерала; чтобы разобрался там, раз вожди не могут помириться сами. Гераклид встретил его первым, с полными руками лжи; но тот, хоть и спартанец, понял что к чему. И объявил, что Дион прав. А Гераклид так был в нём уверен, что заранее и публично признал его арбитраж. Так что теперь, по требованию спартанца, ему пришлось идти в храм и клясться, что исправится. Это спартанца удовлетворило, и он уехал домой. Они простые, спартанцы; и благочестивые.
А вскоре после того пришло письмо от Феттала. Он спрашивал, уж не сошел ли я с ума, что торчу в таком дохлом месте как Сицилия, да еще и без работы. Или нового любовника нашел, как он начинает подозревать? В письме было полно театральных новостей; и изложены они были так, чтобы мне захотелось вернуться. На самом деле, чем я здесь занимаюсь? Ставлю пьесы на местных фестивалях (на самом деле, только что поставил в Катане «Ниобею») и смотрю, как вянут все наши великие надежды? Я написал в ответ, что вернусь при первой же возможности, и в сердце своем не изменился. На самом деле. Был, правда, в Леонтини кудрявый греко-римский парнишка, но это не всерьез.
Я так давно не был в Афинах, что теперь знал: надо появиться на приличном корабле, чтобы не выглядеть кем попало. Поэтому я пропустил самый первый, на который мог сесть: тот шкуры вёз. Это меня кто-то из богов предостерег, не иначе. Возле Локри он затонул, и половина людей погибла. И как раз после моего предполагавшегося отъезда сдалась Ортиджа.
После торжественной клятвы в храме Гераклид не мог пренебрегать своими обязанностями; и блокаду держали по-настоящему. Стража у ворот больше не пела. А дезертир, переплывший ночью, рассказал, что съели слона, хотя ему было больше сорока лет. Но даже тогда никто не решался говорить вслух о своих надеждах, пока от Аполлократа не явился посол. Он соглашался сдать Ортиджу вместе в гарнизоном, флотом, военными машинами и всем, что было в крепости, взамен на охранную грамоту и пять триер, на которых увезёт мать и сестер с их имуществом. Похоже, Дионисий просто бросил этих дам, когда удирал. Но надо отдать ему справедливость: он мог бояться нападения в море.
Все в Сиракузах, у кого были друзья в пределах досягаемости, позвали их присутствовать при великом дне. Мы с Рупилиусом узнали одни из первых; и за ночь добрались туда, чтобы занять места получше, возле моря. Полуразрушенный город вдруг воспрянул к жизни. Кое-как висевшие, подпертые брёвнами портики теперь были украшены гирляндами; исхудавшие ребятишки носили цветы в волосах и плясали на улицах. Все гетеры понадевали тончайшие шелковые платья, – это даже красивее наготы, – и в расписных колясках поехали к морю, распевая под лиру. Мальчишки висели на пальмах, словно гроздья фиников. А у каждого алтаря жрецы совершали возлияния и украшали венками статуи богов.
Был яркий день с хорошим свежим ветром; свет блестел на развернутых парусах и вспыхивал на мокрых веслах. Дион поднялся на борт судна, провожавшего эскадру уходящего тирана. Со стен зазвучали фанфары, и ликующие крики покатились вдоль берега, словно прибой. Старики плакали, молодежь плясала и бросала друг друга в воздух… А ворота Ортиджи стояли настежь и без охраны, впервые за пятьдесят лет.
Тимонид, которого я видел перед самым отъездом, рассказал мне, как Дион входил во Дворец, и как его встречала мать, ведя его сына за руку. Позади них шла жена его; седеющая женщина, в слезах; смотрелась как чужая. С тех пор как ее последний муж бежал перед Дионом, она так и жила в Ортидже; женой обоих – и никого. Его мать, благородная старая дама с тонкой фамильной костью, – кроме кости в ней почти ничего и не оставалось, – вывела эту беднягу за руку и спросила, хочет ли Дион принять ее как родственницу, на что она имела право по рождению, или как жену, которой она всегда была в душе своей. Дион повел себя прекрасно. Если бы кто-нибудь стал писать пьесу о нём, – чтобы показать его наилучшим образом, надо было бы разработать вот эту сцену. Он нежно обнял ее и поцеловал, вверил мальчика ее попечению, и с честью ввел в свой дом. Даже вспоминая об этом, Тимонид нос вытирал. А тогда, сказал, ни у кого сухих глаз не видно было.
– А как это воспринял сам Гиппарин?
– Знаешь, выглядел испуганно; и нерадостно, пожалуй. Но, может, просто чересчур ошеломлен был? Событие-то!.. Ему всего шестнадцать или около того; масса времени исправить прежнее воспитание.
– Конечно, – согласился я.
Потому что здесь пьеса должна кончаться.
Победная процессия, жена возвращается, герой на вершине славы, хор поет хвалу, а счастливые зрители расходятся по домам.
И я могу возвращаться в Афины, самым первым с отличными новостями. Долгий период моей жизни, нередко и душу мне терзавший, заканчивается радостным пеаном.
На другой день, или через, я пошел свидетельствовать своё почтение Диону, как делали все более или менее с положением. Он принимал по двенадцать человек за раз; иного я и не ожидал при таком наплыве; и единственно чего хотел – пожелать ему радости. Он встретил нас в белом плаще, простом даже для него. За время фракционной борьбы он еще похудел; но это только выявило прекрасную кость его лица, сейчас освещенного триумфом. Он спас свой народ; он отомстил за изгнание своё и унижение жены своей; он победил низкого врага, ни разу не унизившись до низости. Это был Дион, и никогда меньше чем Дион.
Здороваясь, он выделил меня; сказал, что слишком коротко поблагодарил в тот раз на дороге в Леонтины. Доброта его меня тронула: он ведь и профессию мою простил от полноты сердечной. Простое помещение было до краёв полно счастьем и победой, как красивый кратер может быть полон вином.
Вокруг него стояли близкие друзья, которые оставались, когда другие уходили: Тимонид, мечтавший наверно убраться оттуда, чтобы писать свою историю, и Каллипп ненавистник тиранов, правая рука Диона с давних пор. Я подумал, а как он почувствовал себя, когда Ортиджа опустела? Его бледные глаза блуждали, словно искали что-то потерянное.
Пора было уходить. Я последний раз глянул на Диона, улыбавшегося друзьям; и тут мне вспомнилась история одного давнего Олимпийского победителя, у которого оба сына тоже оказались увенчаны, на одних и тех же Играх. «Умри сейчас!» – кричали ему, имея в виду, что такое никогда больше не повторится, и большей радости не будет. Я задержался в дверях, хоть уже ушел со сцены, и смотрел на его сильное, счастливое лицо; а голос в душе моей, которого я не мог заглушить, кричал: «Умри сейчас, Дион! Умри!»
Я кое-как выкинул это из головы, – не надо плохих примет! – и пошел собираться на корабль.
23
В тот год я был здорово занят. Когда вернулся, – долго слушал рассказы о том, кто что делал, пока меня не было. Феттал сознался, что была у него интрижка с юношей в Коринфе… Тем не менее, встреча наша оказалась радостной; мы друг друга простили и проболтали два дня без остановки. У нас всегда так после разлуки, и время этого не меняет.
По слухам, я был на Сицилии с секретной миссией, потому и задержался так надолго. Я помалкивал, и меня хвалили за сдержанность. А пока я отсутствовал, Феттал попал в список первых актеров; и на Дионисиях мы впервые оказались в соревнующихся пьесах: он Троилом, а я Улиссом. Мы оба знали, что постараемся победить, и никаких упреков не будет: уж такие глупости мы точно переросли. Я тогда выиграл, но голоса разделились; так что ему уже недолго осталось. А на пиру мы так увлеклись разговором о технике (он смог, наконец, сам ставить пьесу, и спектакль получился потрясающий), что друзьям пришлось нас растаскивать. Я уж и не помню, чей же это был банкет.
Мы решили поработать какое-то время партнерами и поехали на гастроли в Эфес. Раз в несколько лет поездить с Фетталом в радость; ну а после того пару лет отдышаться надо. Он ни в работе меры не знает, ни в выходках своих; так что ни днем ни ночью ни на что времени нет, кроме него. В искусстве он делает всё что хочет; зато в приключениях постоянно просит моего совета, и бывает так благодарен, как будто принял его.
Время от времени приходили новости с Сицилии. Дион по-прежнему был у власти; Дионисий возвращаться не пытался, хотя в Локри его все презирали за скотское пьянство и отношение к местным женщинам. Обе армии всё еще служили в Сиракузах, – кампанцев Дион выгнал, но всех остальных сохранил, – так что со времен старого Дионисия город никогда не был защищен лучше, чем сейчас. А сам Дион по-прежнему жил в пифагорейской скромности и простоте.
Ничего больше я не слышал; быть может потому что не спрашивал. Пьеса закончилась. Герой во славе, и публика это знает, – но театр пуст; одни уборщики. Остаётся только вспоминать.
Возвращаясь через Делос, мы задержались на праздник Аполлона и поставили «Гиперборейцев», действие которых как на этом острове и происходит. Во время репетиций, в ослепительный и обжигающий день, какие бывают на Делосе, гуляли мы по террасе возле Львиного озера, чтобы хоть чуть ветерка поймать, и там встретили Хэрамона. Поэта. Побывав гостем Дионисия, он постарался никогда больше не связываться с Сиракузами; но, поскольку пробыл там целый месяц, считался авторитетом в тамошних делах. Нам снова пришлось выслушать россказни о его приключениях, которые все Афины уже наизусть знали; ну, кроме самых последних обновлений, которые он постоянно добавлял, чтобы подчеркнуть свою ненависть к тирании… А под конец он сказал:
– Несчастный народ! Похоже, что проклятие за жестокость к людям Никия так и прилипло к ним со времен отцов наших.
– Ну, сейчас-то Эриннии смягчились, – предположил я.
– Скажи пожалуйста, – вмешался Феттал, – ты новую пьесу дописал?
Хэрамон терпеть не мог, чтобы его перебивали даже ради лести; потому снова повернулся ко мне:
– Вот это нам и предстоит увидеть. Похоже, что кроме оргий во Дворце всё стальное идет по-старому.
– Да брось ты, – говорю. – Сейчас-то они по закону живут.
– Конституционный совет до сих пор заседает… Конечно, за день никто свод законов принять не может; но военное правление продолжается до сих пор.
– Ну, тут вряд ли можно что-нибудь сделать. Однако, людям больше не приходится оплачивать пиры Дионисия.
– Я слыхал, что налоги до сих пор достаточно тяжелы. Войскам платить надо. Вот им не на что жаловаться; дисциплина строгая, но о них и заботятся; прежней скупости Дионисия и в помине нет. Ну и конечно, все кто помог Диону придти к власти – те тоже не в обиде. Он всегда был щедр, даже в изгнании. Но нынешняя его щедрость превосходит ту, что можно оплачивать из своего кошелька. Ладно, он верховный командующий и делает что хочет. И никто не обвиняет его в тратах на себя.
– Так Гераклид на самом деле держит свои клятвы?
– Гераклид!? – Он удивился; и явно был рад, что больше знает. – Ну, там где он сейчас, у него и выбора нет!
– Нико, – перебил Феттал. – Флейтист ждать будет. Ты ведь хотел тот кусок речитатива еще раз прогнать.
Я не обратил внимания.
– Что? – говорю. – Гераклид мёртв? Вот это благословение всем и каждому. Боги давно были в долгу перед Дионом.
Хэрамон поднял брови:
– «Боги лишь тем помогают, кто сам защититься умеет.» В этом смысле ты можешь быть и прав.
– Совершенно верно, – сказал Феттал. – Тебе придется извинить нас, Хэрамон. Мы…
– Постой, – прервал я. – Погоди. Хэрамон, как он умер?
– Его закололи кинжалами в собственном доме; и сделали это люди благородные, древнего происхождения, целый год прождавшие позволения. Воздерживались, пока он не предложил на Собрании срыть крепость Ортиджи, поскольку это логово тирании, укрепленное против народа. Они, по-видимому, рассчитывали на такое с самого дня ее сдачи; и поддержки у Гераклида становилось всё больше… А публично судить его не стоило. Ужасно, отвратительно… Но это Сицилия; там греческой этики ждать не стоит. Всё равно что в Македонии.
Феттал, до того тянувший меня прочь, тут взял за руку. Отказывать ему в проницательности, как некоторые, это большая ошибка.
– Дорогой мой Хэрамон! – сказал я. – Само по себе это меня не удивляет. Но вот что Дион согласие дал, – тут я поверю, только когда увижу, что вода в гору потекла.
– Уверяю тебя! Мне это Дамон рассказал, банкир, бывший там по делу; чрезвычайно трезвый человек. Дион практически признал это в похоронной речи; но сказал, это было необходимо городу.
– Что за похоронная речь? – Я вдруг услышал свой голос, совершено дурацкий. – Кто ее произносил?
– Дион, как я сказал. Он устроил ему государственные похороны, в честь прежних заслуг, и сам произнес речь… Ты перегрелся, Никерат; это же самое свирепое солнце в Греции. Пошли в колоннаду.
– Да нам идти пора, – снова подтолкнул меня Феттал. – Репетиция зовет. – Хэрамон сказал, что проводит нас до театра. На улицах было еще жарче, чем на террасе; Феттал пошел между нами, чтобы дать мне от него отдохнуть; и тут я услышал, как он говорит Фетталу: – Скорее всего, такая самодостаточность у Диона после того появилась, как он сына потерял. Другого-то нету…
– Что значит «потерял»? – изумился я.
– Если точнее, то так и не нашел. Тот приобрел все вкусы и привычки дядюшки своего, а замечаний не выносил. Для Диона это было пыткой; ведь он не только отец, он еще и государственный муж… Говорят, он и суров бывал… Ну, верить можно не всему, что слышишь; но говорят, парень кинулся с отцовской крыши. Вполне вероятно, что попросту был пьян и споткнулся.
После яркого света снаружи, в костюмерной казалось темно. Феттал избавился от Хэрамона возле двери и повернулся ко мне:
– Надо было тебе на Самосе сказать. Но я об этом услышал вечером, накануне спектакля; расстраивать тебя не стоило; а потом я всё надеялся, что какая-нибудь хорошая новость ту пересилит, знаешь?
– Он сделал это для города, – сказал я. – Во всяком случае, так он это видел. Как же он должен был страдать! Но эпитафий, государственные похороны… Кто бы мог себе это представить?
– «Бог за гордыню сразил его карой суровой; После, смягчившись, вознес его к звездам небесным…» – произнес Феттал. – По-моему, вот так он это себе и представлял. Давай, Нико, начинай работать. Иначе ночью спать не будешь, поверь.
Я пробыл в Афинах уже несколько недель, когда Спевсипп попросил придти к нему в Академию.
В последнее время я держался оттуда подальше; главным образом потому, что Аксиотея до сих пор меня стеснялась. Воспоминание о наших Дионисиях ее смущало; и воскрешало в памяти слишком много другого. Ей явно не стоило заглядывать в храм, столько ее душа вынести не могла; и теперь она бросилась в философию, пытаясь понять, как же боги это допустили. Она сказала, это полезнее, чем покой неведения; а уж она-то лучше знала, это точно. Но еще очень не скоро нам вдвоем стало по-прежнему легко. Пока, убедившись, что ребенка я ей не сделал, я старался пореже попадаться на глаза. А кроме того, я наверно просто боялся новостей из Сиракуз. Этот вызов меня встревожил, потому что Спевсипп гостей в Академии не принимал; существовало лишь одно дело, в котором я мог быть им полезен.
– Нико, – сказал он, едва мы остались наедине, – у тебя ангажементов на Сицилии нет?
Было время, когда я сказал бы есть, независимо от того правда ли это. Но теперь я просто покачал головой и стал ждать, что дальше.
– Ну, тогда я могу только просить тебя… Если ты мне друг, если ты любишь Диона, – придумай какой-нибудь предлог и поезжай. Никого из нас там не ждут; внезапный визит будет выглядеть странно; и может ускорить как раз то, чего мы боимся. – Он подобрал письмо со стола. Я всё еще молчал, не говорил, что возьму; и он понял, что придется сказать мне побольше: – Платон просил меня держать всё в секрете, насколько смогу. Этот человек, как ты понимаешь, был в Академии; не наш, нет, но люди таких тонкостей не знают. Дело в том, что мы боимся за Диона, даже за его жизнь. И угроза исходит не от известных врагов, – с ними он бы и сам управился, – а от друга, которому он доверяет.
– Каллипп?
– Так ты знаешь?! – Он чуть из кресла не выпрыгнул.
– Только сейчас сообразил; а по-хорошему мог бы и раньше догадаться. Этот человек без ненависти не может. Дионисия он потерял, так на кого еще ему смотреть?… У него на лице это написано было, только я не понял тогда.
– А мы услышали от друзей из Тарентума. Их предупредил один из тех, кого зондировали. Сказал между прочим, что прежде всего стал говорить с самим Дионом, но тот ему не поверил. Теперь ты понимаешь, чего я прошу и почему?
– Еще бы! Ладно, еду. Уж столько Дион заслужил от своих.
Он посмотрел на меня с печалью; как наверно и я на него.
– Так значит ты тоже слышал, Нико? Постарайся думать о нем как о человеке, попавшем в западню не к низости души своей, а к ее величию.
– А я так и делаю, актеру это не трудно. Вся трагедия на этом стоит.
– Его обвиняют в том, что он продлевает свою власть. Я уверен, что это несправедливо. Мы с Платоном послали набросок конституции; для этого города лучше не придумать; Коринф тоже советников прислал. Но там где существует справедливость, никто не получает всего, что хочет, за счет всех остальных… Такие вещи надо согласовывать, на это уходит много времени… А фракции остались, недоверие осталось; Гераклид свое наследство с собой не унёс.
– Так кем же станет Дион в конце концов?
– Конституционным монархом.
Даже тогда эти слова прозвучали для меня строкой из пьесы.
– Это богами уготовано, наверняка, – сказал я.
– Царь, послушный закону. У него не будет права наказывать; для этого будут судьи. Будет Сенат; и какая-то форма советов с народом, еще не решенная пока.
– Так камень преткновения в этом?
– А как же иначе?… В Сиракузах никому ни слова, что ты приехал от нас; только Диону. И не только ради него, но и ради себя тоже.
– Да уж постараюсь, поберегусь… Каллиппа я давно знаю.
– Там громадный груз общественного блага, Нико; почти уже разгрузили в порту, понимаешь? И ты можешь спасти этот груз. Поезжай, с Богом.
Ветра не было; по штилевому морю корабль трудно шёл на веслах. По вечерам бледно-красное небо ложилось на бледно-голубой горизонт; а рыжие волосы гребцов-фракийцев тлели, словно угли. Их певец тянул бесконечную песню, похожую на прибойную волну: она поднималась почти до воя – и падала вместе с ударом весел… В Сиракузы мы на три дня опоздали; но в этом покое и просторе я просто потерял счёт времени. По ночам смотрел, бывало, как крутятся звезды над самой головой, и понятия не имел, когда засну и засну ли вообще. Впервые с самого детства, мне не хотелось, чтобы путешествие это когда-нибудь кончилось.
Сиракузы оказались очищены от развалин и почти отстроены. Всё выглядело мирно и спокойно. Те же самые тонконогие, пузатые ребятишки рылись в мусоре вместе с бродячими собаками… Однако теперь, если проезжала карета, они иной раз швыряли камень вслед. Раньше не решались.
Я пошел в театральную харчевню и отчитался там о прибытии, выдав заранее подготовленную историю. Мол, мне рассказывали, как тут всё сложилось; театр не получает той поддержки, на какую мог бы рассчитывать; афинские актеры этим озабочены, и я приехал осмотреться, прежде чем хоть кто-нибудь рискнёт тратиться на дорогу сюда. Ну и намекнул смутно, что таланты ищу; а это всегда помогает ответы получать. На самых крупных праздниках пьесы ставят, как и прежде; но поскольку Главнокомандующий никогда на них не появляется, то и все, кто хочет сохранить с ним хорошие отношения, тоже не ходят. В Афинах обязанности хорега входят в налогообложение богатых горожан; в Сиракузах они выполняются только по желанию, славу приобрести или Архонту угодить. Некоторые больше не могли себе этого позволить; а другие просто не хотели, поскольку выгоды в этом не стало. Театр практически вымер; вот только Каллипп недавно спонсировал постановку «Жертвоприносителей». Публике понравилось, а несколько актеров смогли хоть что-то заработать.
Я подумал, что пьеса как раз для него: сплошная ненависть и месть. Подошла компания молодых актеров, мечтавших уехать куда-нибудь, и я с ними пробыл допоздна; пора было искать гостиницу. Прежняя моя никуда не делась; и мне дали комнату, в которой жила Аксиотея.
Все вечерние приглашения я отмел, поскольку собирался встать ранним утром, и уже ложился, когда хозяин пришел сказать, что ко мне гость. Это был Каллипп.
Он теперь стал здесь важной персоной; было бы естественно, если, захотев меня видеть, он пригласил бы меня явиться к нему в дом. О ком другом я мог бы подумать, что это от скромности; про него я сразу подумал, что он был бы поосторожнее, если бы время не поджимало.
Вёл он себя почти точь-в-точь как дома; как я его помнил, когда он вынюхивал за сценой; только вот заносчивость появилась, которую он пытался спрятать. Спросил о работе… Я, как обычно, подумал, что ему хочется услышать какую-нибудь жалобу. Вот со мной вот так вот плохо поступили, он может рассердиться за это; а если со мной ничего плохого не произошло, то и относиться ко мне можно похуже. Однако на этот раз его это не волновало; он явно торопился с учтивой беседой. Чтобы ему помочь, я рассказал, как опечален за артистов в Сиракузах в эти тяжелые времена. Печально, говорю, думать, что при тирании они чувствовали себя лучше, чем при нынешнем просвещенном правлении.








