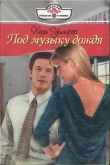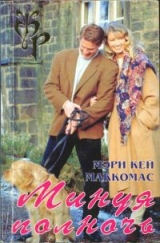
Текст книги "Минуя полночь"
Автор книги: Мэри Кей Маккомас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
ГЛАВА 5
– Так ты все-таки не послала подарок? – Она помнила, что мать задавала ей этот вопрос.
– Мне прислали приглашение. Что я должна была сделать?
– Просто сказать мне, что подарка ты не посылала.
– Ну хорошо, если ты настаиваешь. Но ты ведь знаешь, что врать я не умею. Ложь не стоит тех усилий, которые надо приложить, чтобы соврать. – Она сунула ручку в карман белого халата и отдала медсестре, стоящей сзади, медицинскую карту, которую только что заполнила. – Сейчас я подойду, одну минуту, – сказала она сестре. – Подготовьте рентгенограмму. Если все в порядке, отправим малыша домой, к родителям.
– По-моему, ты просто сошла с ума, – говорила мать на другом конце провода.
– Вполне возможно. – Она снова обратилась к матери, глядя на подъезжающую к воротам санитарную машину «Скорой помощи». – Я продала ту ужасную хрустальную вазу, что подарила его мать на пятилетие нашей свадьбы, и купила подарок. Честно говоря, мое отношение ко всему этому делает его невероятно самовлюбленным и мелким.
– Да ты просто выглядишь дурой. Надо было отсудить у него все до последнего цента.
– Все равно ничего бы не вышло. А потом, не забывай, что я в состоянии обеспечить себя сама.
– Надо было нанять бандита, – ход мыслей матери нравился Дори. Она просто обожала ту ярость, с которой мамуля была готова защищать единственную дочь, – чтобы его отделал как следует.
– Мама, он всего лишь хотел иметь детей. И честно и откровенно об этом говорил. Он даже не обманывал меня. Человека нельзя убить за то, что он хочет детей.
– Можно-можно. Вы вполне могли бы усыновить ребенка.
– Он хотел своего. – Она нахмурилась, заметив оживленное движение за стеклянными дверьми. Двери приемного покоя все еще были закрыты. Машина «Скорой помощи» тоже не двигалась. А вокруг нее толпились люди, сердито указывали на машину, даже, похоже, кричали, хотя она не могла расслышать, что именно.
– Оставить тебя после десяти лет семейной жизни и только потому, что ты не можешь забеременеть от него… это… это…
Дори опустила трубку, пока мать подыскивала нужные слова, чтобы описать его поведение, и стала рассматривать, что происходит за дверью.
Люди толкались и отпихивали друг друга. Подъехала полиция. Попытки разогнать толпу не увенчались успехом.
– Мамочка? Мама? Успокойся. Я тоже постараюсь все забыть, – сказала она, надеясь, что голос прозвучит спокойно и уверенно, несмотря на нотки гнева, обиды и разочарования. Она почти перестала чувствовать себя женщиной. – Жизнь еще не кончилась. Она прекрасна. Я занимаюсь любимым делом. Я переживу все это. А сейчас мне нужно идти. Завтра я тебе перезвоню.
– Ты никогда не звонишь. Я сама позвоню тебе.
– Хорошо. Как хочешь. Мне надо идти. Я тебя люблю.
Глядя на дверь, она отсутствующе положила трубку. В этот момент подъехала вторая машина «Скорой помощи» с включенной сиреной и горящими фарами. Толпа еще больше разволновалась. Двери то открывались, то закрывались. Слышны были рыдания, злые крики, стоны и восклицания.
Она подошла к двери. Этот беспорядок пора заканчивать. Медсестры, дежурный врач и двое практикантов уже вышли на улицу, чтобы помочь принять больного из первой машины. Кто-то направился ко второй. Столько суеты вокруг, а двери обеих машин все не открываются.
– Что здесь, в конце концов, происходит? – спросила она медсестру, вошедшую обратно из этого хаоса.
– Сейчас позвоню в службу безопасности, а потом надо вызвать еще полицейских. Здесь, похоже, будет настоящая свалка.
– Да в чем дело? – воскликнула Дори, чувствуя, как в крови заиграл адреналин. Страх и волнение были частью ее профессии, которую она так любила, что сама стала лишь частью своего дела. Будучи простым врачом, она могла бы выбрать любую специальность и сделать карьеру. Но она, доктор Дороти Деврис, стала специалистом по неотложной помощи и не могла представить себя кем-то другим. Всегда готова ко всему – и обычно получая самое худшее из возможного.
– В первой машине ножевое ранение, а во второй – пулевое, но случай один и тот же, – торопливо объяснила сестра, набирая номер. Она быстро и четко поговорила по телефону, повесила трубку и тут же набрала другой номер: – Опять бандитская разборка. Один прирезал другого, а его дружки подстрелили первого. Теперь здесь обе семьи. Детки забавляются, как вам это? Алло! Нет! Я не могу ждать! Это больница Вест-Сайд. У нас двое пострадавших в бандитской истории…
Дори снова взглянула на дверь. Беззвучная сцена, но совершенно ясно, что страсти и напряжение возрастают, ситуация накаляется.
– Эти детки умрут от потери крови прямо в машинах, если их не вытащить, – размышляла она вслух.
– Попробуйте, скажите им об этом. – Сестра ждала, пока ей ответят, глядя на дверь, и явно побаивалась идти обратно.
– Скажу, – ответила Дори и решительно направилась к дверям.
Повсюду стояли полицейские и персонал больницы. Ей даже не пришло в голову испугаться за себя. В конце концов, она ведь врач. Она никого не прирезала и не пристрелила. Она спасает людям жизнь. Толпа не сделает ей ничего дурного. И она не видела причины, почему не вытащить парней из машин «Скорой помощи», чтобы оказать им всю необходимую помощь в приемном покое. Пусть они дерутся друг с другом на улице. Все ведь так просто.
– Пропустите меня, пожалуйста, – сказала она, пробираясь к первой машине: – А ну-ка, помогите мне. Их надо внести внутрь. Немедленно.
– Оставь его. Он все равно умрет, – сказал очень высокий худой мужчина. У него были длинные темные волосы, а глаза излучали такую ненависть, что Дори пришлось отвести взгляд. Она молча стала проталкиваться дальше.
– Сделайте коридор, сделайте же что-нибудь, – прокричала она, обращаясь к полиции. – А вы выносите второго. Он, наверно, так же плох.
Она наконец добралась до дверцы машины, увидела двоих сестер, прижавшихся к ней, и взялась за ручку.
– Забудь о нем, – услышала она, и чьи-то руки стали оттаскивать ее от машины. Она потеряла равновесие, но сразу же выпрямилась и оказалась лицом к лицу с молодым парнишкой, лицо которого было искажено злобой и ненавистью. В нем было что-то демоническое.
– Он убил моего брата. Он все равно умрет. Прямо здесь. Сегодня.
– Только в том случае, если я не смогу ему ничем помочь. – Больше всего ее разозлило даже не то, что он толкал ее, а то, что осмелился говорить в таком тоне. – Отойдите.
– Ну уж нет, ни за что. – Он толкнул ее в грудь и встал на пути. Она стала отталкивать его. – Его семья убила моего брата. – Он показал на другую машину. – Помоги ему. А этот все равно умрет.
– А ну-ка, прочь с дороги. Мы спасем обоих. Убирайтесь! – Голос ее звенел над всем этим раздраженным роем людских голосов, она пыталась оттолкнуть его от машины.
– Только дотронься до него, сучка, и ты тоже умрешь.
Она вспоминала потом, что это заявление показалось ей настолько абсурдным, что она чуть не рассмеялась ему в лицо. Конечно, она была слишком сердита, чтобы смеяться, но все это было так по-детски – угроза, которую он никак не мог выполнить. Об этом даже думать было смешно. Врачей не убивают. С врачами судятся. Врачи отвечают за неправильное лечение и невнимание к пациентам, но не за спасенные жизни. Как бессмысленно.
Однако толпа произвела на нее впечатление. Она не была ребенком и понимала, что такое кровная месть. Она читала про закон «око за око». Вместе с тем Дори полагала, что невежество и ненависть идут рука об руку со страхом и смертью. Ей было жаль парней из толпы, которые были так безнадежны, потому что знали и верили только в то, чему их научили. Впереди их тоже ждала лишь смерть. Ей было жаль и взрослых людей, живущих по этим волчьим законам, как будто жизнь их идет по замкнутому кругу – кругу страха, ненависти и смерти, и эта безнадежность втягивает их, и их детей, и детей их детей в водоворот несчастий.
Но убивать врача за то, что он выполняет свою работу? Никогда.
– Вытаскивайте этого парня, – прокричала она полицейскому, снова отталкивая своего противника: – Иди поговори в другом месте. А мне надо работать.
– Это не разговоры. Это война, – взвизгнул он, когда полицейские схватили его сзади. – Встанешь не на ту сторону – умрешь!
Взгляд его был страшнее и опаснее, чем у самого безнадежного ракового больного, готового к смерти. Она с сожалением и отвращением покачала головой, и полицейские оттащили парня в сторону. Дори уже наполовину забралась в машину «Скорой помощи», когда он произнес свои последние угрозы:
– Попробуй дотронься до него, и ты умрешь, сука. Зря теряешь время. Он все равно не будет жить на этом свете. И ты тоже, если только поможешь ему. Не лезь, оставь его. Пусть умрет. Но если выживет – умрешь ты.
Легко было не думать об этом яростном выпаде, потому что мозг Дори был уже занят другими, более важными вещами и событиями. Оба парня наконец-то были доставлены в палату реанимации. Напряженнейшая работа – остановить поток крови, сделать все необходимое, чтобы спасти обоим жизнь. Одним глазом Дори продолжала наблюдать за попытками полиции разогнать толпу у дверей больницы. Одновременно она вставляла капельницы, делала переливание крови, отправляла парня с огнестрельным ранением в операционную. Заполняла карты, делала анализы, смотрела на рентгеновские снимки. Искусственное питание, кислородные маски. Слишком много забот, чтобы как следует задуматься над глупыми угрозами.
Уже гораздо позже она много думала о том, насколько бесценна и хрупка человеческая жизнь и как она бывает глупа и ужасна.
Сорокавосьмичасовая смена закончилась в полночь. Следующие два дня были выходными, и у Дори была масса дел, которые она запланировала. Об этом-то она и размышляла, выходя из больницы.
Стояла черная октябрьская ночь, небо было затянуто тяжелыми осенними облаками. Стоянка машин хорошо освещалась. Врачи оставляли машины всего в нескольких шагах от выезда. Дори не думала об опасности, поэтому и не заметила ее.
Она открыла машину и забралась внутрь. Убрала из-под лобового стекла знак «Продается» и в очередной раз подумала, что правильно поступила, не продав эту маленькую «Бронко». «Порше» часто требовал ремонта, поэтому мудро она сделала, что оставила эту малютку на всякий случай. Надо поговорить с Филлипом и выкупить у него вторую машину. Дори автоматически подключила мобильный телефон – сменщики обязательно будут задавать вопросы, да и ей самой надо узнать результаты лабораторных анализов. Она включила задний ход и медленно выехала со стоянки.
Какой-то светлый фургон, довольно потрепанный, выехал вслед за ней, но опять же она не подумала об опасности. Люди приезжают в больницу и уезжают из нее и днем, и ночью. Она даже не насторожилась.
Она проехала несколько кварталов и выехала на шоссе. Фургон шел за ней. Но очень многие едут по шоссе. Все было нормально.
По привычке Дори перестроилась в левый ряд. Она устала и хотела побыстрее добраться до дома. Скорость на спидометре была на восемь километров выше нормы, но Дори знала, что, если она не превысит десяти, ее не остановят, и спокойно подпевала мелодии, звучавшей по радио.
Фургон, похоже, тоже спешит, отметила она про себя, наблюдая, как он перестраивается в средний ряд, мигая фарами. Водитель явно намеревался обойти ее справа. Наверно, он очень торопится, подумала Дори и сняла ногу с газа, чтобы, притормозив, пропустить фургон вперед.
Начиная с этого момента все события слились в неясную картину странных совпадений и непонятных мыслей.
Удар по правому борту машины. Тормоз и попытка удержать машину в своем ряду. Второй удар, опять справа. Яркий свет фар, слепящий глаза. Скрип тормозов. Непонятное мелькание за окном, когда она съехала с дороги, пытаясь свернуть направо. Третий удар, и другая машина врезается в бетонную ограду. Пронзительная боль. Скрежет гнущегося металла. Звон разбитого стекла. Полная тишина, как будто в могиле.
Потом слабый отдаленный шум машины. Гудок. Фары. Какие-то голоса. Ей нужна помощь. Она тянется к телефону. Так темно вокруг. Вдруг яркий свет. Светлый фургон едет прямо на нее. Перекрывает все движение. Помощь, это помощь. Нет номеров – может, они сзади. Светлый фургон. Потрепанный. Не останавливается. Не останавливается! Стой!
– Только потом я узнала, что он еще два раза наезжал на меня, прежде чем уехать, прежде чем оставить меня… умирать. – Она говорила в темноту, как будто была одна. Она просто оценивала факты, пыталась мысленно разобраться в том, что произошло. Гил молчал, внимательно слушая ее рассказ, чувствуя, что большую часть она не говорит. – Он был так зол, что не стал даже дожидаться, пока я останусь одна. На суде было пятьдесят два свидетеля. Полиция держала его в машине, пока не приехала «Скорая помощь» и меня не выскребли из машины.
Это был настоящий шок. Что совершенно незнакомый человек может возненавидеть ее так сильно и так безумно захотеть ее смерти, что ему просто было все равно, кто его увидит, кого еще он заденет и как его возьмут. Столько ненависти.
Она спокойно рассказывала всю эту историю Гилу, потому что была уверена в нем, так же как была уверена, что он обязательно подхватит ее, если она потеряет сознание. Она знала, что он будет внимательно слушать, не делая выводов, не осуждая и не читая глупых нотаций.
Ей было удобно сидеть молча в темноте. Молчание и темнота стали ее вторым домом. Уже многие месяцы она выискивала места, где можно было молча сидеть в темноте, находясь в полном согласии с собственным я. Места, где можно спрятаться, где ее крики о помощи и стоны от боли никто не услышит, где охваченные ужасом или фальшиво соболезнующие лица не смогут ее достать.
Что-то внутри Гила вдруг захотело протянуть руку и прикоснуться к ней. Мягко, нежно, успокаивающе. Он почти что мог слышать дуновение ветра, как будто разделяющего Дори на женщину, сидящую сейчас рядом с ним, и ту, которой она была в ту самую ночь. Сейчас она снова закрылась, замкнулась в себе, не желая больше ни о чем говорить.
– По-моему, я слышал эту историю в новостях, – наконец сказал он, подыскивая слова и боясь дотронуться до нее… Нет, скорее он опасался, что она оттолкнет его. – И даже видел фотографии машины. Помню, что подумал…
– В новостях показывали эти фотографии, в рубрике «Самое бессмысленное насилие Америки». – Она коротко рассмеялась. – Мои пятнадцать минут славы.
– Парня посадили за попытку убийства, верно?
– И за массовое насилие. Тот человек, который врезался в ограду, – он умер тут же, на месте.
Это тоже не имело никакого смысла – почему умер он, а не она, Дори?
Их снова окутывала тишина ночи. Гил пытался представить себе, что она должна чувствовать. А Дори старалась не чувствовать ничего.
– И вот теперь ты – врач, который теряет сознание от вида крови, – сказал он, как бы подводя итог всего случившегося.
Не желая застонать, расплакаться или вцепиться в собственные волосы, она усмехнулась.
– Хуже. Я не могу видеть больных. Ненавижу эти запахи и звуки. – Она помолчала. – Помню, как-то раз, еще в больнице, я задремала и проснулась от стонов больных, и… и сознательно решила не обращать внимания. Я активно боролась со своими импульсами врача, стремящегося облегчить любую боль. Я стала ощущать собственную боль и понимать, что происходит, когда заботишься о боли другого. Вот что бывает, когда с тобой происходит такая штука. К тому времени, когда мне начали делать физиотерапию, я уже почти не реагировала на звуки. Разве что очень быстро уставала, уходила в палату и сразу же засыпала мертвым сном. Отчасти, наверное, потому, что процедуры были не самые легкие, но, в основном, чтобы сознательно отключить мозг, спрятаться ото всех. – Еще одна пауза. – Врач сказал, что это клиническая депрессия, последствия шока. Прописал антидепрессанты и сказал, что это должно пройти. Просто нужно время. Пока, видно, еще не прошло.
– Пройдет.
– А запахи! – Она рассмеялась как-то уж слишком громко и радостно, как будто не расслышав, что он сказал. – По дороге на процедуры была дверь на улицу. И если, когда я шла, кто-нибудь входил или выходил на улицу, я успевала набрать полные легкие этого свежего чистого воздуха. А потом, следующий вдох – снова запах антисептиков, алкоголя, эфира. Это ведь мое, я ведь врач! Но я покрывалась мерзким холодным потом, руки начинали дрожать, а желудок выворачивало наизнанку.
Голос ее растворился в темноте. Гил не знал, что сказать и как помочь. Он не мог представить, что такое испытывать отвращение к тому, что составляет часть тебя самого, все равно что цвет волос или вид собственной кожи. Наверно, для него это было бы равнозначно тому, чтобы возненавидеть запах скотного двора или густой тяжелый аромат свежескошенной пшеницы.
– У меня начались жуткие головные боли, – едва слышно продолжала она. – Врачи думали, что это всего лишь часть депрессии, типа выходного клапана, потому что я не пыталась проанализировать, что со мной произошло. Я просто засыпала каждый раз, когда начинала об этом думать. – Она помолчала. – Но боли становились все сильнее и сильнее, пока не начало пропадать зрение. Тогда меня еще раз обследовали и обнаружили, что неправильно сросся перелом переносицы. Я заставила их снова сломать кость и вправить все заново, потому что уже тогда понимала, что добровольно вернуться в больницу, уже выписавшись, просто не смогу.
– Так вот почему, когда ты приехала, лицо у тебя было еще сине-черное, сказал Гил. Она кивнула, но он этого не увидел. – Сколько же ты пролежала в больнице?
– Почти десять недель, – потом она помолчала и добавила: – Я пробыла там почти три с половиной месяца… первые три недели без сознания.
Он снова подумал, что не может этого даже представить, но почувствовал, что нужно что-то сказать.
– Дори, когда такое происходит, человек не может рассчитывать, что останется так же, как прежде. – Он протянул руку и безошибочно нашел ее ладони. – На все нужно время. Время, чтобы выздоровело тело. Куда большее время, чтобы поправилось и пришло в норму все остальное. Время, чтобы снова научиться управлять собственной жизнью.
– Я знаю, – мягко ответила она. – Я сама говорила такие слова тысячам людей – да и себе самой тоже. Но это ничего не меняет. Мои ощущения остаются прежними.
Он кивнул.
– Правильно. Так и должно быть, – сказал он, вспоминая свои собственные разочарования и опустошенность.
Он с облегчением подумал, что может понять по крайней мере хоть что-то из того, что чувствует Дори. Только Бог или те врачи, которые встают вровень с Богом, могут всерьез давать старый совет – врач, исцели себя. А она – ни то, ни другое. Сколько бы она ни старалась размышлять об этом, как бы убедительно и логично ни рассуждала, все равно окажется, что она лишь простой человек, полный боли и страха. И с этим ничего не поделаешь.
– Кажется, я не смогу заставить себя переживать о чем-нибудь. Чем дольше я не поправляюсь, тем дольше можно прятаться и избегать реальной жизни и тем дольше я не смогу стать снова нормальным человеком. Хотя бывают ли нормальными люди?.. Все они как… как рыбы, плывущие в море.
Ему безумно хотелось поцеловать ее. Не как привлекательную женщину, хотя он и думал об этом весь вечер. А как мать целовала когда-то его болячки и царапины, как он целует Бакстера и Флетчера, чтобы им стало легче. Она упала, ее подтолкнули в спину, и поэтому она стала злой, испуганной и больной. Он-то знал, что такое падение. Он знал, как непросто бывает встать на ноги и вернуться к нормальной жизни. Он знал, как долго заживают царапины и синяки, особенно на душе. Но он знал и то, что она сможет выжить. Может, когда-нибудь она снова упадет. Но сейчас – сейчас он просто хотел поцеловать эти ссадины, чтобы ей стало легче.
– Рыбы, – сказал он задумчиво. – Иногда так оно и есть. – Он вытянул ноги и повернулся лицом вперед, глядя на черную пустоту гаража. – Как будто не существует никакого ритма и причин для этого движения. Как будто все безнадежно. Сколько ни пытайся изменить, ничего не выйдет.
У нее вдруг возникло ощущение, что он очень точно сумел определить, что ее беспокоит. Еще сильнее было впечатление, что он уже когда-то прошел через подобное состояние и был знаком со всеми его взлетами, падениями и тупиками. И знал, как из него выйти. Она задавала себе вопрос – расскажет ли он ей об этом. И надеялась, что он этого не сделает. Она боялась, что дорога, которую прошел когда-то он, не приведет ее к тому же результату, что это тот путь, который человек должен обнаружить и пройти сам. Для каждого это бывает по-разному.
Однако, когда он не стал углубляться в эту беседу и просто замолчал, спокойно глядя в темноту, она почувствовала облегчение и одновременно ужасное раздражение. Она ведь излила ему всю свою душу, совсем как маленький ребенок. Он мог бы отплатить той же монетой. Она впустила его в свою жизнь и хотела теперь войти в его. Ведь желание быть одной и желание чувствовать собственное одиночество – это совершенно разные вещи.
– Зато твоя жизнь не выглядит такой уж безнадежной. – Она не скрывала горечи в своем голосе. – Я даже завидую тебе. У тебя такие чудесные дети. Замечательные ребята.
– Спасибо, – ответил он, снова соглашаясь с ней. – Но по собственному опыту могу сказать, что не всегда детей бывает достаточно, чтобы продолжать жить. Нужно, чтобы тебе хотелось жить ради себя самого.
– По собственному опыту, – сказала она. В голосе ее слышался вопрос. Она как будто постучалась в его закрытую дверь. Попросила доказать, что она не одинока в своем одиночестве.
Дори не увидела этого в темноте, но почувствовала, что он повернулся, чтобы взглянуть на нее, будто взвешивал все за и против и прикидывал, стоит ли впускать ее в свою жизнь, планировал, как будет обороняться еще до того, как открыться, на случай, если она окажется способной навредить ему.
И когда он в конце концов заговорил, это был рассказ о Бет Авербэк Хаулетт.
В свои восемнадцать лет она жила мечтами, наполняющими небо Канзаса солнечным светом. У Гила тоже были свои мечты, широкие, значительные и такие же огромные, как у Бет. Они любили друг друга и часами планировали свою совместную жизнь. Эти мечты включали и учебу в университете штата Канзас после школы. Но никак не вписывалось в них рождение Флетчера на самом первом курсе университета.
Однако оба понимали, что любую мечту можно немного видоизменить, приспособив к самым неожиданным обстоятельствам.
Родители помогали им, как только могли. Гил нашел вторую работу. Бет организовала с друзьями детский садик. В общем, их совместная жизнь шла словно по хорошо отлаженным рельсам.
– Флетчеру было около года, когда она начала замечать слабость в ногах и руках. Сначала мы думали, что она просто переутомляется и нужно отдохнуть. Но становилось все хуже.
– Мышечная дистрофия?
– Нет. Но что-то вроде этого. Миастения гравис – так называли эту болезнь врачи.
Сердце Дори заколотилось. Это хронический прогрессирующий мышечный паралич. На больных даже смотреть бывает больно. А уж перенести это самому…
– Что же случилось? – спросила она.
– Мы вернулись домой. – В его голосе звучало поражение, как будто не было после этого пятнадцати лет жизни. – Я просто тонул в счетах от врачей. Я не мог заботиться о ней и о Флетче, работать и продолжать учиться одновременно. Несколько месяцев я пытался, но… В общем, мы вернулись домой.
– Как она это переносила?
Он вздохнул и не очень уверенно сказал:
– Чтобы понять, надо было знать Бет. Она была совершенна, и все вокруг себя делала совершённым. По крайней мере, я так думал. Она старалась делать все именно так, как надо, – только никогда не было заметно, каких усилий это стоит. Она просто так жила. И это было совсем неплохо. Она не заставляла никого делать что-то по-своему, но у меня всегда было ощущение, что нужно ходить на цыпочках, чтобы не потерять ее.
Она была доброй, готовой к самоотдаче. Если она к чему-то стремилась, то она делала все возможное – и достигала цели. Даже в мелочах. Покрасить машину, стать Королевой Красоты, получить стипендию в университете, петь соло в церковном хоре. Ей все удавалось. Всегда было так. Она сама. Наша маленькая квартира. Вся наша жизнь. Флетчер.
А потом она заболела, и все вдруг пошло наперекосяк. Сначала она думала, что, если постараться, если побольше ходить и таскать на руках Флетчера, сила вернется. Но ее совершенное тело стало подводить ее и давать сбои. Мечты не осуществлялись. Я привез ее домой, и тем самым подвел и предал ее. Она не могла справиться с таким разочарованием.
– Наверно, вы оба ужасно страдали, – сказала Дори, и голос ее в темноте прозвучал слишком громко.
– Больше страдала она, – ответил Гил. – Я-то выжил. Моя жизнь продолжается. А ее закончилась задолго до того, как остановилось сердце.
– Что? Как это?
– Она сдалась. Перестала бороться. – Он помолчал. – Сначала она сделалась злой и агрессивной. Это нормально. Я понимал. Я старался помочь ей. Я и сам, черт возьми, обозлился. А потом она вдруг решила, что в таком состоянии умирать не годится: это будет далеко от совершенства. И она просто вычеркнула меня из жизни. Не разговаривала. Не смотрела. Переселилась сюда, и свою бывшую комнату. Потом точно так же она вычеркнула из жизни своих родителей и Флетчера, а потом и весь мир. Она просто замкнулась и перестала жить.
– Ты еще сердишься на нее?
– Нет, – ответил он, совершенно не удивившись, что она знает о том, что он сердился на Бет очень-очень долго. – Она не виновата. Никто не виноват. Она пыталась бороться всеми известными ей способами… Я тоже пытался. Уверен, что тот мир, который она создала для себя здесь, был совершенен, это было именно то, что она хотела. Мне думается, что здесь она была счастливее, чем если бы переносила свою болезнь вместе с нами.
– А как же Флетчер?
– Он был тогда очень маленьким. Да и потом, вокруг него всегда было много заботливых людей. Вот через несколько лет, когда ему было столько же, сколько сейчас Бакстеру, он… понимаешь, он был очень похож на теперешнего Бакстера. В этом возрасте они начинают замечать, что чего-то в их жизни не хватает. И поэтому каждую проходящую мимо женщину видят как хорошую мать для себя.
– И ты женился во второй раз ради Флетчера?
– Отчасти, – сказал он, спокойно переходя к рассказу о второй жене, гораздо менее эмоционально. – Я уже говорил, человек ведь не может жить только ради детей. Бет обожала Флетчера, но даже он не смог дать ей силы бороться за жизнь, держаться за нее. Конечно, с ребенком надо считаться, но нельзя основывать свои решения на его мнении. Нужно жить своей собственной жизнью, самому стать для себя причиной, почему необходимо вставать каждое утро.
Стать для себя причиной, чтобы вставать каждое утро? Подумав об этом, Дори вдруг поняла, что уже несколько лет она не жила для себя, с самого университета. Она никогда не хотела быть никем другим, только врачом. Даже материнство отступало на второй план. И, если уж быть до конца честной, замужество стояло даже на третьем месте все эти долгие годы учебы и карьеры.
Что-то изменилось в Ней, когда она забеременела. Это длилось недолго. Медицина отошла в сторону. Она понимала, что рождение ребенка – это тоже ее дело. Она хотела ребенка, хотела почувствовать, как он будет расти внутри нее, хотела подарить ему жизнь, хотела заботиться и оберегать его, смотреть, как он будет взрослеть. А потом вдруг все это разбилось вдребезги. Родить она не могла. Филлип ушел. Все, что у нее осталось, чтобы вставать каждое утро, – это ее профессия.
Слишком долго она не чувствовала себя женщиной – врачом, подумалось ей, только просто врачом, помогающим больным и слабым. Они стали для нее причиной, чтобы вставать каждое утро. Они стали для нее причиной, чтобы продолжать жить.
Ощущение предательства и гнева вдруг переполнило ее, сжимая сердце и выталкивая воздух из легких. Они сделали ей больно, они пытались убить ее, оставили умирать на дороге. Да, Гил совершенно прав, она обманывала себя, веря в самопожертвование на благо всего человечества. Она старалась не думать о том, как будет жить дальше, выйдя из больницы. Но ведь она действительно отдавала им всю себя, всю свою жизнь. А они ее предали.
И вот что есть в ее жизни теперь – ни мужа, ни детей, только работа, которую она готова бросить хоть сейчас. Что же удивляться депрессии! Но это ведь не вся ее жизнь. Это не та жизнь, которая ей нужна, не та жизнь, которую она хочет продолжать. Когда было в последний раз, чтобы она проснулась утром с ощущением счастья и удовлетворенности самой собой? Когда она делала для себя что-то приятное? Уделяла время собственной персоне?
Ей вдруг захотелось сделать что-нибудь совершенно безумное.
«Резкая смена настроения и импульсивное поведение являются клиническими проявлениями глубокой психологической…» – прозвучало в мозгу. Да кому до этого дело? Какая разница!
Дори повернулась к Гилу и поцеловала его в щеку. Ей не нужно было видеть его лицо, она и так знала, что он страшно удивлен.
– Спасибо тебе, – сказала она, все еще совсем близко к нему. – За ужин. За то, что выслушал меня. Что постарался понять. Ты хороший человек, Гил Хаулетт.
Сказав все это, она быстро, выскользнула из машины. И сразу же услышала, как закрылась дверца со стороны водителя. Он был где-то совсем рядом с ней в этом темном гараже. Она чувствовала его присутствие, но не видела его. А он стоял позади нее.
– Осторожно, не споткнись. Тут столько всякого хлама. Как это ты еще смогла машину сюда поставить, – сказал он, направляя ее и придерживая за плечи. Мелкая дрожь пробежала по ее рукам до самых кончиков пальцев.
– Ну, машина ведь совсем маленькая, – глупо проговорила она, следуя его движениям и стараясь не дрожать от возбуждения.
Уже очень давно ни один мужчина не обращал на нее внимания как на женщину, да и она сама давно уже не ощущала себя женщиной. Она не могла даже вспомнить, когда в последний раз ей нравился мужчина. А этот мужчина ей нравился. Нравились его огромные заботливые руки. Интересно, а на ощупь волосы у него такие же мягкие, как кажутся?
Он мог бы отпустить ее, когда они вышли из гаража, но ему не хотелось этого делать. Он повернул ее к себе лицом и обнял… она не оттолкнула его. Ей было очень хорошо и спокойно в его руках. И ему тоже было приятно держать ее в объятиях. Она не была слишком высокой или маленькой, слишком худенькой или полной. Она была то, что надо, подумал он, разглядывая ее профиль в лунном свете.
Он хотел ее. И если бы он попробовал уговорить ее лечь с ним в постель, для себя самого он сумел бы найти десяток объяснений. Чтобы успокоить ее. Доставить удовольствие. Вытащить из самой себя. По крайней мере, три достойных объяснения он уже нашел. Но правда заключалась в том, что она ему нравилась и он просто хотел ее.