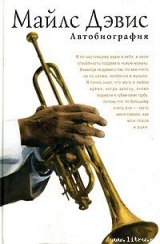
Текст книги "Автобиография"
Автор книги: Майлс Дэвис
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
После ухода от Бенни у меня в карманах не осталось ни цента. Поэтому я на некоторое время переехал к Лаки, а потом стал жить у Ховарда Макги. Мы с ним подружились, ему было интересно получиться у меня всему, что я знал о трубе и о музыкальной теории. Ховард жил с белой девушкой Дороти. Она была очень красивая – настоящая кинозвезда. Кажется, они были женаты, я точно не знаю. Во всяком случае, содержала она его в полном порядке: у него была машина, куча денег и новых шмоток. Ховард был невероятно крут.
А у Дороти была подружка, красивая блондинка, похожая на Ким Новак, только лучше. Звали ее Кэрол. Она была одной из женщин Джорджа Рафта и часто заходила к Ховарду, а тот хотел нас свести. К тому времени у меня в жизни всего-то было две или три женщины. Я уже покуривал, но совсем еще не умел ругаться. Ну, короче, заходит к нам Кэрол, а я на нее ноль внимания. Она сидит и смотрит, как я репетирую на трубе – вот и все, чем я при ней занимался. Когда Ховард пришел домой, я ему говорю: «Знаешь, Ховард, приходила Кэрол».
– И что? – спрашивает он.
– Что «что»? – говорю я. – Что ты имеешь в виду?
– И что же ты предпринял, Майлс?
– Ничего, – говорю я. – Ничего я не предпринял.
– Слушай, Майлс, эта девушка – богачка. Если она сюда приходит, значит, ты ей нравишься – так сделай же что-нибудь. Ты думаешь, она приезжает сюда и к Лаки, чтобы потрубить на клаксоне своего «кадиллака»? Когда она приедет в следующий раз, сделай что-нибудь. Слышишь, что я тебе говорю, Майлс?
Она снова приехала через некоторое время и опять протрубила на клаксоне. Я впустил ее, и она спросила меня, не нужно ли мне чего. А на улице стоял «кадиллак» с опущенным верхом, и сама она была такая красивая стерва. Я в то время с белыми девушками не общался, так что, наверное, я немного побаивался ее. Может, я поцеловался с одной белой в Нью-Йорке, но ни с одной из них еще не спал. Так что я сказал ей, что мне ничего не нужно. Ну, она и уехала. Когда Ховард вернулся, я сказал ему, что приезжала Кэрол и спросила, не нужно ли мне чего.
– И что? – спросил Ховард.
– Я сказал ей, что мне ничего не нужно. Не нужно мне ни денег, ни вообще ничего.
– Урод ненормальный. – Ховард был зол как черт. – Если она еще раз приедет, а ты будешь нести такую же пургу—и это при том, что у тебя в карманах ветер свищет, – я тебе твою чертову носопырку оторву. Здесь нам негде играть. Черный профсоюз нас не хочет, мы, видите ли, слишком современные. Белый профсоюз нас не любит, потому что мы черные. И вот белая шлюха предлагает тебе деньги – а у тебя их нет, заметь, – и ты отказываешь ей? Если ты еще раз сделаешь эту глупость, я тебя зарежу, проклятый идиот, слышишь, что я тебе говорю, ты понимаешь? И лучше тебе меня послушаться, я не шучу.
Я знал, что Ховард никакой не злодей и все такое, но он не любил, когда люди делают глупости. Когда Кэрол пришла в следующий раз и спросила, не нужны ли мне деньги, я сказал: «Йе-а, нужны». Когда она мне их предложила, я взял. Когда я доложил об этом Ховарду, он остался доволен. Потом я думал над словами Ховарда, эта ситуация казалась мне неловкой – то, что эта баба давала мне деньги. Со мной никогда еще такого не было. Но с другой стороны, я никогда еще не сидел на такой жуткой мели. Кэрол давала мне и свитера и еще кое-что из одежды – в Лос– Анджелесе по ночам холодно. Но я так и не забыл того разговора с Ховардом. Помню его слово в слово. А это не в моем характере.
После ухода от Бенни Картера я окончательно прибился к Птице и играл с ним. Ховард Макги помогал и Птице, когда тот был в Лос-Анджелесе. Птица жил у него некоторое время, когда у них с Диззи закончился ангажемент в клубе Билли Берга. Их совместная игра с Диззи в этом клубе Лос-Анджелеса произвела фурор, но Диззи захотел вернуться в Нью-Йорк. И купил билеты для всего оркестра – включая Птицу – на самолет. Все рады были вернуться назад. Но в последний момент Птица загнал свой билет и купил героин.
Ранней весной 1946 года, по-моему, это было в марте, Росс Рассел организовал для Птицы серию записей с «Дайэл Рекордз». Росс проследил за тем, чтобы Птица был трезвым, и нанял для этой записи меня и Лаки Томпсона на тенор-саксофоне, парня по имени Арв Гаррисон на гитаре, Вика Макмиллана на басу, Роя Портера на барабанах и Додо Мармарозу на фортепиано.
В то время Птица лакал дешевое вино и сидел на игле. На Западном побережье публика не сходила с ума по бибопу, как в Нью-Йорке, – некоторые наши пьесы казались ей какими-то левыми. Особенно это касалось Птицы. У него совсем не было денег, и выглядел он как больной оборванец. Все, кто знал ему цену, понимали, что он классный музыкант, просто ему наплевать на внешний вид. Но остальной народ, которому говорили, что Птица – звезда, смотрел на него как на неудачника и пьяницу, который устраивал какие-то дикие выходки на сцене. Многие не верили, что Птица настоящий гений, и просто его игнорировали, и, мне кажется, это поколебало в нем уверенность в себе и в своей работе. Из Нью-Йорка Птица прилетел королем, а в Лос-Анджелесе превратился в обычного опустившегося, вечно пьяного нигера, который выдувал какую-то какофонию. Лос-Анджелес – город, который печет звезд как пирожки, но Птица совсем не тянул на звезду в его глазах.
Но для той записи, которую Росс организовал с «Дайэл», Птица взял себя в руки и сыграл на отрыв. Помню, вечером перед сессией мы репетировали в клубе «Финал». Полночи проспорили о том, что вообще будем играть и что каждый из нас будет играть по отдельности. У нас перед записью не было репетиции, и все музыканты дрейфили, потому что предстояло играть незнакомые темы. Птица никогда не умел настраивать людей, никогда не говорил им, что они должны делать. Он просто приглашал тех, кто, по его мнению, сможет сыграть так, как ему хотелось, а больше ничего и знать не желал. Ничего не фиксировалось нотами, может, только самый общий набросок мелодии. Он хотел только одного: сыграть, захапать деньги и купить себе героин.
Птица играл ту тему, которую хотел. Остальные музыканты должны были запоминать, что он играл. Он делал это совершенно спонтанно, следуя своему музыкальному инстинкту. Он не подлаживался под общепринятый способ на Западном побережье, когда музыканты дополняли друг друга, предварительно обо всем договорившись. Птица был величайшим импровизатором и считал, что только так и рождается настоящая музыка, и только так и должны играть настоящие музыканты. В его понимании все, что было записано нотами, можно было тут же отправлять в мусорное ведро. Играй как знаешь, и играй хорошо, тогда все и сложится – этот принцип шел вразрез с практикой Западного побережья, где музыка всегда сначала фиксировалась.
Лично мне подход Птицы нравился. Я многому у него таким путем научился. Позже это помогло мне выработать свою концепцию музыки. Когда этот способ работает, ничто не может с ним сравниться. Но если твой коллектив не понимает, что происходит, или не способен воспользоваться свободой, которую ты ему предоставляешь, и парни начинают играть наобум, ничего из этого не получится. А Птица набирал музыкантов, которые не справлялись с такой задачей. Так было и в студии грамзаписи, и позже в живом концерте. Вот все это мы с жаром и обсуждали в «Финале» в ночь перед записью.
Сессия проходила в Голливуде в студии «Рэдио Рикордерз». Птица был в тот день в ударе. Мы записали «Night in Tunisia», «Yardbird Suite» и «Ornithology». «Дайэл» выпустила «Ornithology» и «Night in Tunisia» на пластинке в 78 оборотов в апреле того же года. Помню, в тот день Птица записал тему, которая называлась «Moose the Mooch» в честь того ханыги, что доставал ему героин. Думаю, тот тип поживился доброй половиной гонорара Птицы за ту запись. Может, даже это название было условием их героиновой сделки.
Мне кажется, на той пластинке все сыграли хорошо, кроме меня. Это была моя вторая запись с Птицей, и не знаю почему, но я был не на уровне. Может, из-за нервов. Не то чтобы совсем уж плохо играл. Просто мог бы и получше. Росс Рассел – урод поганый, я с ним никогда не ладил, с этой мерзкой пиявкой, он только и занимался тем, что пил соки из Птицы – прошелся по моему поводу, в том смысле, что я неважно играл. Пришлось хорошенько послать тупого бледнозадого. Он же не музыкант, как он может знать, что нравится Птице! Я предложил Россу Расселу поцеловать дырку в моей заднице.
Помню, играл я в тот день с сурдиной, чтобы не походить на Диззи. Но даже с ней я звучал, как он. Я был страшно зол сам на себя, мне ведь хотелось быть самим собой. Я чувствовал, что уже близок к тому, чтобы обрести свой голос на трубе. Уже в то время мне страшно хотелось быть самим собой, а ведь мне было всего девятнадцать. Я был в нетерпении – все вокруг казалось мне каким-то замедленным. Но своими мыслями я ни с кем не делился, а вот глаза и уши держал широко открытыми и продолжал учиться.
После окончания записи той пластинки, по-моему в начале апреля, полиция закрыла клуб «Финал» Ховарда и Дороти Макги. Белые полицейские к Ховарду постоянно придирались – ведь он был женат на белой.
Когда Птица поселился у него в гараже – а он постоянно напивался до чертиков, да еще приводил к себе разных харь – наркоторговцев и воров, – полиция не могла этого не заметить и начала раздувать из мухи слона. Они еще больше стали приставать к Ховарду и Дороти. Но те были парочкой не из робкого десятка и продолжали заниматься своим делом. Полиция закрыла «Финал» из-за продажи там наркотиков – и это было правдой. Но с поличным они так никого и не поймали. Просто закрыли клуб по подозрению.
Вообще-то, в Лос-Анджелесе было мало заведений для джазовых музыкантов, особенно негритянских. Поэтому зарабатывать было негде. Через некоторое время мне стал посылать деньги отец, так что я еще не совсем сел на мель. Но и процветанием такую жизнь нельзя было назвать. В то время в Лос-Анджелесе героин было достать нелегко. Меня-то это не волновало, я его еще не употреблял, но Птица был в марафоне. Он к тому времени превратился в конченого наркомана, а тут ему вдруг поневоле пришлось спрыгнуть с иглы. И он куда-то пропал. Никто не знал, что он живет у Ховарда: тот никому не говорил, что Птица у него и резко завязал – методом «холодной индейки» [7]7
Сразу и без помощи лекарств отказаться от приема наркотиков.
[Закрыть]. Но когда Птице пришлось отказаться от героина, он заменил его алкоголем. Помню, он мне однажды рассказал, что пытается слезть с иглы и вот уже целую неделю не кололся. Зато на столе у него было два галлона вина и переполненная окурками пепельница, мусорное ведро забито пустыми четвертными бутылками из-под виски, и повсюду валялись «колеса» – таблетки бензедрина.
Птица и раньше пил неслабо, но все же не с таким остервенением, как после того, как у него не стало героина. Он начал выжирать по литру зараз любой дряни, что попадалась под руку. Он любил виски, так что если у него вдруг оказывалось несколько бутылок, они исчезали в ноль секунд. Вино он пил ведрами. Потом Ховард говорил мне, что, когда у Птицы не стало героина, он выжил только благодаря портвейну. А потом принялся за таблетки – бензедрин – и какой только гадости в себя не впихивал!
«Финал» снова открылся в мае 1946 года. Птица пригласил Ховарда трубачом вместо меня, и почему-то я хорошо запомнил этот месяц. Кажется, в той группе с Птицей играли Ховард, Ред Каллендер, Додо Мармароза и Рой Портер. Физически Птица буквально на куски разваливался при всем честном народе, но играл при этом очень хорошо.
Я начал тогда проводить больше времени с молодыми музыкантами Лос-Анджелеса – Мингусом, Артом Фармером и, разумеется, Лаки Томпсоном – моим самым близким другом на Западном побережье. Кажется, я еще раз выступил в концерте с Птицей в апреле, точно не помню. По– моему, мы играли в клубе «Карвер» в кампусе Калифорнийского университета. Вроде бы с нами играли Мингус, Лаки Томпсон, Бритт Вудман и, может, Арв Гаррисон. Но найти работу в Лос– Анджелесе становилось все труднее, и примерно к маю-июню мне там совсем обрыдло. Ничего вообще не происходило. И я ничему не учился.
В первый раз я увидел Арта Фармера в конторе черных тред-юнионов в центре Лос-Анджелеса, в негритянском квартале. По-моему, это был местный профсоюз. Я разговаривал с трубачом Сэмми Йейтсом, который играл в оркестре Тайни Брэдшоу. Вокруг столпились другие ребята и стали расспрашивать меня, что происходит в новой музыке, в бибопе и как там в Нью-Йорке. Ну, в общем, обычные вопросы. Я, как умел, рассказывал. И помню, в сторонке молча стоял парень, не более семнадцати-восемнадцати лет, и с жадностью ловил мои слова. Я вспомнил, что видел его на джем-сешн. Это был Арт Фармер. Потом я играл с его братом-близнецом и узнал, что он и на трубе, и на флюгельгорне играет. Мы с ним иногда болтали о музыке. Мне он нравился – очень приятный парень и для своего возраста играл очень хорошо. По-моему, в основном мы с ним встречались в «Финале». Потом, когда он переехал в Нью-Йорк, я узнал его лучше. Но познакомились мы, когда я был в тот первый раз в Лос-Анджелесе. Многие молодые музыканты Лос-Анджелеса, которые серьезно относились к музыке, приходили ко мне и расспрашивали о Нью-Йорке. Они знали, что мне приходилось играть с лучшими из лучших, и им хотелось узнать о них побольше.
Летом 1946 года я работал в оркестре Лаки Томпсона в клубе «Элкс Болрум», южнее Центральной авеню, у нас там была черная публика из района Уотс. Они были деревенские, но им нравилось танцевать под нашу музыку. Мингус играл в этом оркестре на контрабасе. Лаки снимал этот зал на три дня в неделю и вывешивал рекламы вроде: «Все звезды Лаки Томпсона, включая блестящего молодого трубача Майлса Дэвиса, который в последний раз играл здесь с Бенни Картером». Представляешь, вот смех-то. Да, с Лаки Томпсоном не соскучишься. Тот ангажемент продолжался три или четыре недели, а потом Лаки Томпсон уехал с оркестром Бойда Рейберна.
Тогда же я записался в альбоме Мингуса, который назывался «Барон Мингус и его симфонические струи». Мингус был гениальным, но сумасшедшим, и я совершенно не понимал, что он имеет в виду под таким названием. Один раз он пустился в объяснения, но, мне показалось, он и сам не понимал, что к чему. Но Мингус никогда ничего не делал наполовину. И если уж он решал выставить себя идиотом, ему это удавалось лучше, чем кому-либо другому. Многим претило то, что Мингус называет себя Бароном, но меня это не волновало. Мингус хоть и был сумасшедшим, но он опережал свое время. Он был одним из величайших в мире контрабасистов.
Чарли Мингус был ярким малым и никого не боялся. Я им за это восхищался. Многие его терпеть не могли, но боялись показать ему это. А я ему все прямо выкладывал. И меня не пугало, что он такой огромный. Он был мягким, деликатным парнем, который никого не обижал, пока ему на вымя не наступали. Но уж тогда берегись! Мы с ним спорили и орали друг на друга все время. Но он ни разу не замахнулся, чтобы ударить меня. В 1946 году, когда Лаки Томпсон уехал из Лос– Анджелеса, Мингус стал моим лучшим другом. Мы с ним все время вместе репетировали и много разговаривали о музыке.
Я беспокоился о Птице: он пил как лошадь и начал жиреть. За все время нашего с ним знакомства я ни разу не видел его в такой ужасной физической форме, и играть он стал совсем плохо. Теперь он выпивал по литру виски в день. Понимаешь, вообще-то у наркошей есть свой жизненный распорядок. Прежде всего, они удовлетворяют свою порочную страсть. Потом работают, играют, поют, в общем, худо-бедно функционируют. Но в Калифорнии Птица выбился из режима. Когда оказываешься на новом месте и не можешь постоянно иметь то, что тебе необходимо, находишь что-то другое – вот Птица и ушел в запой. Птица был конченым наркоманом. Его организм привык к героину. Но совершенно не привык к тому количеству алкоголя, которое в него вбухивалось. Вот у Птицы крыша и поехала. Это случилось в Лос-Анджелесе, а позже в Чикаго и Детройте.
Особенно это стало заметно, когда в июле 1946 года Росс Рассел организовал еще одну запись, а Птица не смог играть. Ховард Макги, который в тот день играл на трубе, собрал оркестр. Птица представлял собой жалкое зрелище – еле на ногах держался. Да и что за жизнь у него была в Лос– Анджелесе – без поклонников, без наркотиков, ему оставалось лишь виски ведрами лакать и глотать колеса – вот его и подкосило. Он совсем опустился, я даже тогда подумал – все, ему кранты. Мне казалось, что он скоро помрет. Вечером после той записи он вернулся в гостиничный номер и так напился, что заснул с сигаретой во рту – в результате загорелась постель. Он погасил огонь и выпер голым на улицу – тут его и арестовали. В полиции решили, что он спятил, и забрали его в государственную больницу Камарильо. И заперли там на семь месяцев. По– видимому, тогда это спасло ему жизнь, хотя лечение в этой больнице само по себе было убойным. Когда Птицу запихнули в психбольницу, это потрясло всех, особенно народ в Нью-Йорке. Ужаснее всего было то, что его лечили электрошоком. Однажды они ему так впарили, что он чуть язык себе не откусил. Я не понимаю, зачем нужно было лечить его шоковой терапией. Объясняли, что это ему помогло. Но такому артисту, как Птица, шоковая терапия могла помочь вообще сойти с рельсов. То же самое проделали с Бадом Пауэллом, когда тот заболел, и ему это совершенно не помогло. Птица был в таком состоянии, говорили доктора, что если бы он серьезно простудился или снова подхватил воспаление легких, он бы не выжил.
Когда Птица сошел со сцены, я много репетировал с Чарли Мингусом. Он писал темы, которые потом мы с ним и с Лаки разучивали. Мингусу было абсолютно наплевать, какого рода музыкальный ансамбль у нас получался, он просто хотел постоянно слышать свои сочинения. Я часто спорил с ним о том, что он злоупотребляет резкой сменой аккордов в своих фразах:
– Мингус, ну что ты за ленивый сукин сын, почему не модулируешь. Ты просто – бам! – ударяешь аккорд, иногда это звучит хорошо, я согласен, но не все же время, дурья твоя башка.
А он улыбался и отвечал мне:
– Майлс, играй мое дерьмо, как я его написал.
Я и играл. В то время это достаточно странно звучало. Но Мингус был вроде Дюка Эллингтона —в авангарде.
Мингус действительно играл ни на что не похожие вещи. Вдруг, ни с того ни с сего, он начал писать свою странную музыку, перемена произошла буквально за ночь. Что я хочу сказать – вообще-то в музыке и в звуках не существует вещей «неправильных». Ты можешь взять любой звук, любой аккорд. Как, например, Джон Кейдж играет же то, что играет, – со странными звуками и шумами. Музыка открыта для любых экспериментов. Я поддразнивал его: «Мингус, ты почему так играешь?» Например, у него «My Funny Valentine» в мажоре, а нужно в ре миноре. Но он только улыбался своей кроткой улыбкой и продолжал свое. Мингус был не просто так, он был настоящим гением. Я любил его.
А летом 1946 года, по-моему в конце августа, в Лос-Анджелес приехал оркестр Билли Экстайна. Штатным трубачом у него был Фэтс Наварро, но он уволился, чтобы не уезжать из Нью-Йорка. Тогда Би связался со мной, потому что Диззи сказал ему, что я в Лос-Анджелесе, и спросил меня, не хочу ли я играть у него.
– Эй, Дик, – Би называл меня Диком, – ну что, стервец, готов ты теперь?
– Йе-е, – сказал я.
– Дик, я предлагаю тебе 200 долларов в неделю, независимо от того, играем мы или нет. Но никому об этом не говори. Если скажешь, я тебя вышвырну.
– О'кей, – сказал я, очень довольный.
Понимаешь, Би предлагал мне перейти в его оркестр еще в Нью-Йорке. Я ему тогда позарез был нужен. Поэтому он так много и предложил мне сейчас. Но в то время мне нравилось играть в маленьких группах, и Фредди Уэбстер сказал мне: «Знаешь, Майлс, тебе играть у Би – подобно смерти. Если к нему перейдешь, то как творческая личность погибнешь. Ты не сможешь делать у него то, что тебе захочется. Не сможешь ты играть, что сам хочешь. Они едут в Южную Каролину, но ты ведь не такой. Ты не умеешь сладко улыбаться на сцене. Ты ведь не „дядя Том“ и способен что-то сделать сам, и белые тебя там просто-напросто пристрелят. Не делай этого. Скажи, что не пойдешь идти к нему».
Я так и поступил, потому что Фредди Уэбстер был моим близким и очень мудрым другом. Когда я спросил, почему Би не пристреливают в Южной Каролине, ведь он тоже никому не потакает, Фредди ответил: «Майлс, Би звезда и огребает кучу денег. А ты нет. Так что не ставь себя рядом с ним… пока». Вот почему Би спросил меня: «Ну что, Дик? Готов, стервец?» – когда он в Лос– Анджелесе предложил мне прийти к нему. Он просто напомнил мне, что я отказал ему в Нью– Йорке. Но он уважал меня за тот отказ.
У Би играли Сонни Ститт, Джин Аммонс и Сесил Пейн в саксофонной секции, Линтон Гарнер – брат Эррола Гарнера – на фортепиано, Томми Поттер на басу и Арт Блейки на ударных. Хобарт Дотсон, Леонард Хокинс, Кинг Колакс и я были в секции трубачей.
К тому времени Би был одним из самых знаменитых певцов в Соединенных Штатах, на уровне Фрэнка Синатры, Ната «Кинга» Коула и Бинга Кросби. Он был секс-кумиром черных женщин, звездой. Для белых баб он тоже был привлекательным, но все-таки они его любили не так, как черные, и не так раскупали его пластинки. Он был жестким малым, семь шкур спускал как с мужчин, так и с женщин. Он просто мозги вышибал из каждого, кто осмеливался ему перечить.
Но Би больше видел себя артистом, а не звездой. Он мог бы страшно обогатиться, если бы оставил оркестр и занялся карьерой певца. Его теперешний оркестр, как и все до него, был очень сплоченным, очень дисциплинированным. Музыканты могли сыграть все, что было угодно Би. Особенно хорошо они играли после номера самого Би. Он тогда просто стоял и улыбался, наслаждаясь их игрой. К сожалению, нет ни одной правильной записи его оркестра. Фирмы грамзаписи прежде всего интересовались им самим как певцом, поэтому главное для них был он и поп-музыка. А он вынужден был заниматься попсой для поддержания оркестра.
В оркестре Би было девятнадцать инструментов, а в то время все большие оркестры из-за нехватки средств распадались. Однажды, когда целую неделю оркестр не играл, Би принес мне мои деньги. Я сказал: «Би, я не могу взять этих денег, остальным ребятам ведь не платят». Би улыбнулся, положил деньги себе в карман и больше никогда ко мне с этим не подходил. И дело не в том, что мне не нужны были деньги. Я мог потратить их на свою семью. Айрин была в Ист– Сент-Луисе с двумя детьми, Черил и Грегори. Но я никак не мог взять этих денег, зная, что остальным ребятам не платят.
Когда мы не играли в танцзалах Лос-Анджелеса, мы разбивались на мелкие ансамбли и играли в маленьких клубах, таких как «Финал». Так мы пробыли в Лос-Анджелесе еще два или три месяца, а потом в конце осени 1946 года вернулись в Нью-Йорк, сделав остановку в Чикаго.
Я объездил с оркестром Би всю Калифорнию, и моя репутация выросла. Когда мы уезжали из Лос– Анджелеса, Мингус на меня страшно разозлился. Он считал, что я оставляю на произвол судьбы Птицу, который все еще был в больнице Камарильо. Мингус спросил меня, как это мне совесть позволяет возвращаться в Нью-Йорк без Птицы. Он впал в настоящее бешенство. Что я ему мог на это ответить – я молчал. Тогда он сказал, что Птица был для меня вроде отца. Ну, я ему ответил, что ничего я для Птицы сделать не могу. Помню, я сказал: «Слушай, Мингус, Птица в психушке, и никто не знает, когда его выпустят. Ты, например, знаешь? Птица в полном дерьме, разве ты этого не видишь?»
Мингус продолжал свое: «Я тебе уже сказал, Майлс, Птица – твой музыкальный отец. А ты настоящий говнюк, Майлс Дэвис. Этот человек тебя создал».
Тогда я сказал ему: «Да пошел ты, Мингус! Запомни, нигер, никакой мудак меня не создавал, кроме моего собственного отца. Птица мог помочь мне, и он это сделал. Но он никогда не создавал меня. Брось пороть чепуху. Я устал от этого гребаного Лос-Анджелеса и хочу обратно в Нью-Йорк, где действительно делаются дела. И не беспокойся ты о Птице, Мингус. Птица-то ведь все это хорошо понимает, в отличие от тебя».
Мне неприятно было говорить так с Мингусом, потому что я любил его и видел, что он сильно переживает из-за моего отъезда. В конце концов он прекратил свои попытки уговорить меня остаться. Но мне кажется, тот разговор охладил нашу дружбу. Мы потом еще вместе играли, но уже не были так близки с ним, как раньше. Тем не менее мы все-таки оставались друзьями, и неважно, что об этом написано в книжках о нас. Ни один из этих писак ни разу не поговорил со мной. Откуда им знать, что я чувствовал по отношению к Чарли Мингусу? Позже наши с Мингусом дороги разошлись, как и со множеством других людей. Но он был моим другом, и знал об этом. У нас бывали разногласия, но они бывали всегда, и до того разговора о Птице.
В оркестре Би я начал нюхать кокаин, а приобщил меня к этому трубач Хобарт Дотсон, который сидел рядом со мной. Как-то раз он дал мне дозу этого чистого кристаллического порошка. Мы были в Детройте, проездом в Нью-Йорк. А к героину меня приучил Джин Аммонс из секции язычковых инструментов – тоже когда я был в оркестре Би. Помню, как я вдохнул кокаина в первый раз – даже понять не мог, что со мной произошло. Помню только, что все вокруг стало намного ярче и я внезапно почувствовал огромный прилив энергии. А когда я в первый раз попробовал героин, то просто впал в эйфорию и не понимал, что происходит. Очень странное состояние. Зато я почувствовал неимоверное расслабление. А потом подумал, что с героином буду так же хорошо играть, как Птица. Многие музыканты только для этого и кололись.
Я, наверное, ждал, когда и во мне проснется гений. Но вляпываться в это дерьмо было ужасной ошибкой. Сара Воэн к тому времени оставила оркестр, и ее заменила певица Энн Бейкер. Пела она хорошо. И первой из женщин сказала мне, что «у твердого х… совести нет». А потом она просто-напросто ногой открывала дверь моего гостиничного номера и трахала меня. Это было нечто.
Мы ездили в турне на автобусе, и если Би заставал кого-нибудь спящим с открытым ртом, он будил его, насыпав ему в рот соли. Господи, все со смеху умирали над бедолагой, который кашлял и корчился с выпученными глазами. Да, Би был страшным весельчаком.
Он в то время был таким чистеньким и щеголеватым, что женщины табуном за ним ходили. Он был очень красивым, мне даже иногда казалось, что он похож на девушку. Многие думали, что раз Би такой красавчик, то у него и характер спокойный. Но он был одним из самых жестких мужиков, которые встречались на моем пути. Однажды в Кливленде или в Питтсбурге все ждали Би в автобусе, готовые отправиться в путь. А мы запаздывали примерно на час. И вот из отеля выходит Би с какой-то красоткой. И говорит мне: «Эй, Дик, это моя женщина».
Она сказала что-то вроде: «У меня есть имя, Билли, называй меня по имени».
А он повернулся к ней и заорал: «Заткнись, сука». И влепил ей по первое число.
Тогда она ему говорит: «Ты, подонок, если бы ты не был таким красивым, я бы тебе шею сломала».
А Би стал смеяться и ерничать: «Заткнись, сука. Погоди, дай мне отдохнуть. Я тебе тогда задницу надеру! » Та баба была в бешенстве.
Позже в Нью-Йорке, уже после роспуска оркестра, мы с Би иногда встречались и слонялись по Улице. К этому времени я уже вовсю пристрастился к кокаину, и Би покупал мне его вдоволь. Кокаин продавался в таких маленьких пакетиках. Би пересчитывал их и спрашивал: «Сколько у тебя пакетиков, Дик?»
Когда я был моложе, у меня была та же проблема, что и у Би, – я был смазливый, как девчонка. В 1946 году я очень молодо выглядел, и говорили, что у меня девичьи глаза. Когда я приходил в винный магазин купить себе или кому-нибудь виски, меня всегда спрашивали, сколько мне лет. А когда я им говорил, что у меня двое детей, они все равно спрашивали мою идентификационную карточку. Я был хрупкий и с девчачьим лицом. А Би был бонвиван и дамский угодник. И еще я научился у него, как вести себя с людьми, с которыми не хочешь общаться. Ты им просто говоришь, чтобы шли на х… Вот и все. Все остальное – пустая трата времени.
Возвращаясь в Нью-Йорк, мы делали остановки в Чикаго, Кливленде, Питтсбурге и других местах, уже не помню где. Когда мы приехали в Чикаго, я заехал домой повидать семью и в первый раз взглянул на своего сына. Это было на Рождество, и я провел дома все праздники. После этого оркестр играл еще два месяца, а потом распался. Я в то время получил хорошее известие: журнал








