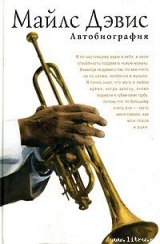
Текст книги "Автобиография"
Автор книги: Майлс Дэвис
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Это значило, что нам нужен ансамбль театральных барабанщиков, которые создавали бы фон для ударника Джимми Кобба и перкуссиониста Элвина Джонса. В общем, мы получили такое звучание от театральных барабанщиков, а Джимми и Элвин играли как обычно – соло и все такое. Театральные барабанщики не могут исполнять соло – у них вообще нет никакого музыкального воображения для импровизации. Как большинство классических исполнителей, они играют только по поставленным перед их носами нотами. В этом вся суть классической музыки – музыканты играют по написанному и ничего больше. Они хорошо запоминают, но это способность роботов. В классической музыке если один музыкант не похож на другого, если он не робот, как остальные, то все другие роботы насмехаются над ним или над ней, особенно если они черные. К этому все и сводится: классическая музыка для классических музыкантов – это дерьмо для роботов. А публика превозносит их, будто они великие исполнители. Ну, конечно, есть великая классическая музыка, написанная великими классическими композиторами – есть среди них и великие музыканты, правда только солисты, – и все равно это исполнение для роботов, и многие из них в глубине души хорошо это знают, хотя никогда в этом не признаются.
Поэтому в таких вещах, как «Sketches of Spain», нужно было соблюдать баланс между музыкантами, которые могут читать ноты и играть по ним без всякого чувства или с подобием чувства, и другими музыкантами, которые играют с настоящим чувством. Мне кажется, самое лучшее – это когда музыкант может читать партитуру и чувствовать музыку. Для меня, например, игра по нотам не дает шанса проявиться большому чувству. Но если я просто слушаю музыку и играю ее, у меня появляются такие чувства. Работая над «Sketches of Spain», я понял, что нужно пару раз просмотреть ноты, пару раз послушать музыку, а потом играть ее. Сначала мне нужно ознакомиться с тем, что музыка из себя представляет, а потом уж я могу играть. Такой метод хорошо оправдал себя, все были в восторге от этой записи.
Когда мы закончили «Sketches of Spain», я был весь выпотрошен. Как выжатый лимон – никаких вообще эмоций, и совсем не хотелось слушать эту музыку – слишком тяжело она досталась. Гил сказал: «Давай послушаем пленки». Я ему ответил: «Ты слушай, а я не хочу». Так и не прослушал их – пока через год не вышла грампластинка. Мне хотелось идти дальше. Когда я наконец услышал эту пластинку, мои мысли были уже в другом месте, я даже ничего не мог сказать о той работе. Я потом только раз внимательно ее прослушал. Наверное, эта пластинка лежала на проигрывателе у нас дома – она очень нравилась Франсис, – но я лишь один раз уселся ее по-настоящему слушать и прочесал для себя каждый звук тонким гребнем. Мне эта запись понравилась – показалось, что все играли очень хорошо и что Гил поработал на отрыв, но большого впечатления она на меня не произвела.
Хоакин Родриго, автор «Concierto de Aranjuez», сказал, что ему пластинка не понравилась, а ведь только из-за него и его произведения я взялся за «Sketches of Spain». Ему полагался гонорар за использование его мелодии, и я сказал его агенту: «Посмотрим, как он запоет, когда начнет получать неслабые гонорары». И больше я ничего ни от него, ни о нем не слышал.
Одна женщина рассказала мне, как она поехала навестить знакомого – бывшего тореадора, который выращивал быков для корриды. Она сказала ему об этой пластинке – записанной черным американским музыкантом, – и он не мог поверить, что иностранец, американец, в особенности черный американец, мог ее сделать, ведь для этого нужно знать испанскую культуру, включая музыку фламенко. Она спросила, хочет ли он послушать эту пластинку, он ответил, что да. Сел и стал слушать. Когда пластинка закончилась, он поднялся со стула, надел свой костюм тореадора, вышел и начал поединок с одним из своих быков – в первый раз после отставки – и убил быка. Когда она спросила его, зачем, он сказал, что его настолько взволновала моя музыка, что ему это просто было необходимо. Мне трудно поверить в эту историю, но та женщина поклялась, что это истинная правда.
Глава 12
После «Sketches of Spain» нас с Гилом какое-то время от одной только мысли о работе в студии тошнило. Начинался 1960 год, Норман Гранц пригласил меня с оркестром на гастроли в Европу. Турне нам предстояло долгое – с начала марта и весь апрель.
Трейн не хотел с нами ехать и готовился уйти до нашего отъезда. Как-то вечером мне позвонил тенор-саксофонист Уэйн Шортер – тогда еще новичок на музыкальной сцене – и сказал, что узнал от Трейна, что мне нужен тенор и что Трейн его рекомендует. Я был в шоке. Сначала чуть было не бросил трубку, но потом пробурчал что-то вроде: «Если мне понадобится саксофонист, я его сам найду!» И только потом бросил трубку. БЛАМ!
А Трейну я сказал: «Не надо мне никого подсылать, хочешь уходить – уходи, но лучше бы после гастролей в Европе».
Если бы он в тот момент ушел, то сильно подвел бы меня – никто ведь не знал наших тем, а это турне было для нас важным. Он решил-таки поехать с нами, но все время ворчал, ныл и ходил сам по себе. И официально объявил, что, как приедем домой, сразу уйдет. Но до его ухода я подарил ему тот сопрано-саксофон, о котором я говорил раньше, и он начал на нем играть. Я заранее предвкушал, как это повлияет на его исполнение на тенор-саксофоне, я знал, что это будет настоящая революция. Потом я часто подшучивал над ним, говоря, что, если бы он остался тогда дома и не поехал с нами в это турне, он никогда не получил бы этого сопрано-саксофона, так что, он мой должник по гроб жизни. Господи, он смеялся так, что у него слезы на глазах выступали, а я ему говорил: «Да ты чего, Трейн, я ведь серьезно». И тогда он обнимал меня – крепко-крепко – и повторял: «Да, Майлс, ты прав». Но это уже было позднее, когда он руководил своей группой и они своей игрой убивали публику наповал.
Сразу после нашего возвращения в Штаты в мае Трейн ушел из оркестра и выступил с премьерой в «Галерее джаза». А я летом 1960-го заменил его своим старым другом Джимми Хитом, который только что вышел из тюрьмы, где отбывал срок за наркотики.
В 1948 году Трейн с Джимми вместе играли в биг-бэнде в Филадельфии, а потом в тот же год перешли в оркестр Диззи. Так что они были давно знакомы. С 1955 по 1959 год Джимми сидел в тюрьме и на время совершенно выпал со сцены. Окончательно объявив о своем уходе, Трейн напомнил мне, что Джимми недавно вышел из тюряги и наверняка нуждается в ангажементе, к тому же он знаком с нашим репертуаром.
Но с 1953 года, когда Джимми играл в моем альбоме «Miles Davis All Stars», я шагнул в музыке далеко вперед и подумал, что ему будет сложно отказаться от любимого им бибопа. Но, с другой стороны, подумал я, время у нас пока есть и можно было бы дать Джимми шанс. Трейн всегда высоко ценил Джимми, да и я тоже. К тому же Джимми – клевый парень: весельчак и с хорошими мозгами.
Когда мы были в Калифорнии, я позвонил ему и пригласил в оркестр. Он сказал, что с удовольствием присоединится к нам, и я выслал ему билет на самолет.
Наш первый концерт был в джаз-клубе «Сервиль» в Голливуде. Когда Джимми приехал, я стал объяснять ему, что мы в то время делали, но сразу увидел, что он ни черта не понял. Он, видно, слышал что-то о модальной музыке, но было ясно, что он никогда ее раньше не играл и она была для него в новинку. Обычно он играл пьесы, где аккорды много раз менялись, потом разрешались и все предсказуемо заканчивалось. А мы играли гаммы в модальной манере. Почему-то запомнилось, что с нами в тот раз выступал Кэннонбол и Джимми приходилось буквально бороться с темами, чтобы приспособиться к модальной игре и к остальным музыкантам. Но через некоторое время я по его звучанию понял, что он освоился и въехал в нашу музыку. Потом мы вернулись на Восточное побережье и играли во Френч-Лике, в штате Индиана (провинциальном городишке, откуда родом баскетболист Ларри Берд), в театре «Регал» в Чикаго и в некоторых других местах.
Когда мы вернулись на Восток, Кэннонбол тоже ушел, а Джимми уехал в Филадельфию повидаться с семьей до поездки на фестиваль «Плейбоя» в Чикаго. И вот тогда ему в полиции сказали, что он должен оставаться в радиусе 60 миль от Филадельфии – это было условием его досрочного освобождения. Испортили ему копы музыкальную карьеру на целые годы. Он даже в Нью-Йорке не мог играть, а ведь на гастролях он всегда был абсолютно трезвый, дисциплинированно приходил на концерт, играл и опять возвращался в гостиничный номер. Он зарабатывал как никогда в жизни, и вот этот полицейский, спец по досрочникам, итальянский гад, все ему зарубил. Господи, какой же сукой оборачивается иногда жизнь, особенно если ты чернокожий.
Когда Джимми рассказал мне об этой дерьмовой ситуации, я позвонил своим друзьям в Филадельфии в надежде как-нибудь помочь ему, но они ничего не смогли сделать. Мне было ужасно жаль, что Джимми вот так бездарно уйдет из оркестра, когда он только начал въезжать в наш модальный стиль. Мне кажется, у него все бы отлично получилось. Я знаю, как ему было тяжело, да и мне тоже было не легче.
И тут я вспомнил о парне, которого рекомендовал Трейн, – об Уэйне Шортере. Я позвонил ему и спросил, не хочет ли он прийти к нам. Но он играл с Артом Блейки в «Посланниках джаза» и не смог. Тогда я пригласил Сонни Ститта, который играл и на теноре, и на альте. Сонни присоединился к нам прямо перед нашими следующими гастролями в Европе с первым концертом в Лондоне.
Примерно в это же время меня настиг еще один удар – я узнал, что у моей матери рак. В 1959 году она со своим мужем Джеймсом Робинсоном вернулась в Ист-Сент-Луис. В том же году ей сделали операцию, врачи нашли рак, и все мы сильно волновались. Но когда я навестил ее, она разговаривала бодро и выглядела хорошо.
По-моему, во время этого турне в 1960 году я в первый раз оказался в Лондоне, и концерты там шли при полных залах. Причем это были очень большие залы – от трех до восьми тысяч слушателей. Франсис поехала со мной и произвела там на всех сногсшибательное впечатление. Господи, британские газеты каждый день восхищенно писали о ней. Это было нечто. О ней говорили почти столько же, сколько и обо мне. Но если о ней говорили только хорошее, то на меня нападали. Я сначала не мог этого понять. Писали, что я высокомерный, что не терплю британского акцента, что у меня телохранители, хотя на самом деле кроме членов оркестра со мной приехали только Франсис и Хэролд Ловетт. Говорили, что я ненавижу белых, в общем, всякое дерьмо. Но потом кто-то сказал мне, что английская пресса со всеми знаменитостями так обращается.
И тогда я успокоился. После Англии мы поехали в Швецию и в Париж, а потом закончили турне в Соединенных Штатах. Особенно запомнился мне один случай в Филадельфии – стычка с полицией. Понимаешь, Джимми Хит, как и я, обожает машины, по-моему, у него был спортивный «триумф». В общем, я ехал в Филадельфию на своем «феррари» – я на нем ездил в то время на все выступления, кроме Западного побережья (правда, потом уже я на одном из своих «Феррари» даже на Запад добирался). Прихватил с собой Джимми, и мы спокойно себе едем, беседуем о музыке и все такое. Кажется, я жаловался ему на Сонни Ститта, на то, что он неправильно играл в «So What», все время перевирал мелодию. И каждый раз, встречаясь с Джимми, я говорил ему об этом. Ну, в общем, едем мы в моем «феррари», и я решил показать Джимми, как быстро эта машина может проехать по Брод-стрит, где скорость ограничена до двадцати пяти миль в час или около того. Я сказал Джимми, что моя машина может пройти все эти светофоры до того, как они станут желтыми или красными. В общем, даю газ и мчусь со скоростью 55 миль в час – Джимми и опомниться не успел, представляешь? У него глаза на лоб вылезли: нас не останавливает ни один долбаный светофор. Автомобиль двигался так быстро и низко, что даже свист пошел. Мы мчались на огромной скорости и вдруг нарываемся на светофор, который изменил цвет, а значит, мне надо жать на тормоз, правильно? Но я-то знаю, какая у меня машина, какого качества у нее тормоза, так что мы остановились перед светофором буквально за гребаный сантиметр. У Джимми глаза вывалились из орбит, потому что он решил, что мы вихрем проедем на красный свет. Ну, я нажимаю на тормоз на скорости 60 миль в час и останавливаюсь за миллиметр, я-то знал, что мне это удастся, а Джимми вообще не мог в это поверить. Когда мы остановились, там оказались двое белых полицейских из отдела по борьбе с наркотиками – не в форме и в обычной машине. А мы остановились прямо рядом с ними. Они посмотрели на нас и говорят: «Да ведь это чертов Майлс Дэвис и Джимми Хит!» В общем, приказывают нам отъехать в сторону, предъявляют свои значки и приказывают садиться в их машину. Мы подчиняемся, потому что я вовсе не хочу, чтобы у Джимми снова начались неприятности, он ведь освобожден досрочно, и все такое. Мы идем к ним, они нас проверяют, обыскивают, ничего не находят и отпускают. Господи, как же мы тогда струхнули!
В 1960-м произошло много чего нового, включая появление в Нью-Йорке чернокожего альт– саксофониста Орнетта Коулмена, который взбудоражил весь джазовый мир. Просто вот пришел и всех сделал. Билетов в «Файв Спот» было не достать – он там каждый вечер выступал с Доном Черри, который играл на пластмассовой карманной трубе (у Орнетта тоже, по-моему, был пластиковый саксофон), с басистом Чарли Хейденом и ударником Билли Хиггинсом. Они играли так называемый «свободный джаз», или «авангард», или «новую волну», как хочешь. Многие знаменитости, обычно ходившие на меня, – например, Дороти Килгаллен и Леонард Бернстайн (который, мне рассказывали, вскочил как-то на одном моем концерте и сказал: «Да это же величайший переворот в джазе!») – заинтересовались Орнеттом. Его группа играла в «Файв Спот» пять или шесть месяцев, я обычно ходил на них, когда был в Нью-Йорке, даже сыграл с ними пару раз.
Я мог играть с кем угодно и в любой манере – мне ничего не стоило подладиться к исполнению любого музыканта, я к тому времени освоил все стили игры на трубе. То, что делал Дон Черри, было просто еще одним стилем. И Орнетт играл тогда только в одной манере. Я понял это, прослушав их несколько раз, и потом присоединился к ним и сыграл, как они. Просто нужно было ухватить определенный темп той конкретной пьесы, которую мы тогда играли. Я уже не помню названия этой темы. Дон попросил меня сыграть с ними, ну я и согласился. Дон ко мне очень хорошо относился, он и сам был приятным парнем.
Но Орнетт был завистливый черт, господи. Завидовал успеху других музыкантов. Не знаю, что с ним такое было. Он, саксофонист, вот так запросто брался за трубу и скрипку, считая, что на них любой может сыграть без обучения и практики, – да он этим оскорблял всех тех музыкантов, которые играют на этих инструментах профессионально. А потом сидел и осуждал их, хотя сам не понимал, что несет, – и это уж было ни в какие ворота. Понимаешь, музыка, как ни смотри, это просто звуки. Скрипка – это одно дело, я думаю, если изредка использовать ее как бы штрихами, то может тебе сойти с рук, даже если ты и не владеешь ею по-настоящему. Я не имею в виду исполнение соло, нет, просто если брать отдельные ноты то тут, то там. Но если ты не умеешь играть на трубе, то звуки выдашь просто ужасные. Зато те, кто владеют трубой, могут играть при любых обстоятельствах. Даже если трубачи плохо играют, если они соблюдают ритм и в такт попадают – сойдет. Просто нужно играть в определенном стиле. Если играешь балладу, играй балладу. Но у Орнетта ничего не получалось с трубой – он вообще ничего не смыслил в этом инструменте. Но вообще-то Орнетт был крутым, если бы еще не был таким завистливым.
По-человечески мне Орнетт с Доном нравились, причем Орнетт, я думаю, играл лучше Дона. Но ничего такого революционного я в их игре не видел и не слышал и так всем и говорил. Трейн ходил на них гораздо чаще меня, внимательно следил за ними, слушал, но не говорил того, что я. Многие музыканты и критики помоложе готовы были мне горло перерезать за то, что я принизил Орнетта, обзывали меня старомодным. Но мне не нравилось то, что они играли, особенно Дон Черри на этой своей малюсенькой трубе. Мне казалось, что он дует ноты с серьезным видом, а народ попадается на эту удочку: люди же на все клюют, особенно если не совсем понимают, о чем речь, да и на рекламу они сильно падки. Все хотят быть крутыми, вот и гоняются за новинками, чтобы не подумали, что они отсталые. Белые этим отличаются, особенно когда чернокожий делает что-то такое, что им непонятно. Ни за что не признают своего невежества перед черными. Или что черные немного – или намного – умнее их. Они терпеть не могут признаваться в этом дерьме самим себе, поэтому и носятся с разными «великими событиями», пока на горизонте не появится «новая вещь», а потом следующая, и еще одна, и еще, и еще, и еще. Вот что, по-моему, произошло, когда Орнетт произвел весь этот фурор.
Да нет, позже Орнетт работал как надо, и я ему об этом сказал. Но поначалу они играли как придется, в «свободной форме», гнали отсебятину. Это, конечно, круто, но это делалось и раньше, просто они вообще отказались от какой-либо формы или структуры, и это было для них самым важным, а не качество игры.
Кажется, Сесил Тейлор появился вместе с Орнеттом, может, чуть позже. Он на фортепиано звучал так же, как Орнетт и Дон на своих трубах. Я о нем такого же мнения, что и о них. У него классическая выучка, он очень техничный пианист, но мне совершенно не нравился его подход к музыке. Он барабанил огромное количество нот только ради самих этих нот. Просто выпендривался, хвастал техникой. Помню, как-то вечером нас с Диззи и Сарой Воэн затащили в «Бердленд» послушать Сесила Тейлора. Я совсем недолго его послушал и ушел. Я его не ненавидел, ничего подобного, я его и сейчас не ненавижу. Мне просто не нравилось, как он играл. (Мне рассказали, что когда Сесила спросили, нравится ли ему моя игра, он сказал: «Для миллионера сойдет». Очень остроумно, я и не знал, что у него есть чувство юмора.)
Сонни Ститт ушел из моего оркестра в начале 1961 года. Я заменил его Хэнком Мобли, в марте 1961 года мы записывали «Someday My Prince Will Come». Колтрейн по моему приглашению сыграл три или четыре темы, одну сыграл Филли Джо. Но в остальном состав оркестра был тот же: Уинтон Келли, Пол Чамберс, Джимми Кобб и Хэнк Мобли в двух или трех темах. Мой продюсер Тео Масеро применил способ склеивания пленок еще в «Порги и Бесс» и в «Sketches of Spain», а потом и в этом альбоме. Мы с Трейном вдогонку записали несколько соло. Это был интересный процесс, мы потом часто так делали.
Начиная с пластинки «Someday My Prince Will Come», я стал требовать, чтобы «Коламбия» помещала на обложках моих альбомов фото чернокожих женщин. Так что на альбоме «Someday My Prince Will Come» красовалась Франсис. (Потом она была еще на двух обложках, Бетти Мейбри на обложке «Filles de Kilimandjaro», Сисели Тайсон на «Sorcerer» и Маргерит Эскридж на «Miles Davis at Fillmore».) А что: мой альбом, и это я был принцем для Франсис, и тема «Pfrancing» из этого альбома была написана специально для нее. Следующим моим шагом было избавиться от идиотских рекламных надписей на пластинках, я за это уже давно боролся. Понимаешь, я никогда не верил, что таким способом можно сказать что-то дельное о моем альбоме. Мне было нужно, чтобы люди слушали музыку и составляли о ней свое собственное мнение. Мне ни одна из таких надписей не нравилась – зачем пытаться объяснять, что я хотел сделать. Музыка сама за себя скажет.
Той весной 1961 года – по-моему, в апреле – я решил поехать на машине в Калифорнию на ангажемент в Сан-Франциско в «Блэкхоке». До этого я играл в Нью-Йорке в «Виллидж Вэнгарде», но мне было скучно, я был недоволен игрой Хэнка Мобли. Еще мы с Гилом понемногу работали над альбомом для «Коламбии». Но, кроме этого, ничего интересного не происходило.
Игра с Хэнком не особенно радовала меня: он не подстегивал мое воображение. Я стал играть очень короткие соло и уходить со сцены. Публика жаловалась: приходили ведь послушать меня и посмотреть, как я буду себя вести. Когда из меня сделали звезду, народ шел просто поглазеть на меня – во что я одет, что скажу, может, наору на кого-нибудь – вроде экспоната в стеклянной клетке в каком-нибудь долбаном зоопарке. Господи, у меня от этого дерьма настоящий депрессняк начался. И еще у меня все время болели суставы (как обнаружилось, у меня была серповидноклеточная анемия), особенно левый тазобедренный. Меня это ужасно беспокоило, а занятия в спортивном зале не помогали. Поэтому я и решил, что поеду в Калифорнию, просто освежиться; сделаю остановку в Чикаго и Сент-Луисе, а потом прямиком в Калифорнию – до того, как туда доберется оркестр. Надеялся, что это отвлечет меня. Мне была необходима какая-то перемена.
«Коламбия» записала наше выступление в «Блэкхоке», но все мы – и ребята, и я – переволновались из-за музыкального оборудования. Все время проверяли уровень звука и прочее дерьмо, а это нарушает ритм работы. Но там был один парень по имени Ральф Дж. Глисон, критик, который мне очень нравился. С ним всегда было приятно увидеться и поговорить. Он, Леонард Фезер и Нэт Хентоф – единственные не-идиоты из критиков. На остальных пробы ставить негде. Отыграв в «Блэкхоке», мы вернулись в Нью-Йорк в апреле 1961-го и выступили в «Карнеги– холле» – это было событие, которого я ждал с большим волнением. Там не только мы с нашим маленьким ансамблем выступили, – Гил Эванс дирижировал большим оркестром, который исполнил много музыки из «Sketches from Spain».
Концерт получился потрясающий. Только Макс Роуч подпортил мне настроение – устроил сидячий пикет сцене. Господи, меня это так достало, что я даже не смог играть. Концерт был в честь Фонда помощи Африке, а Макс и его друзья считали, что это благотворительное общество прикрывает ЦРУ или еще что-то такое, способствующее сохранению империализма в Африке. Знаешь, я не возражал против того, что Макс считал этот фонд орудием Соединенных Штатов, там действительно в основном заправляли белые. Я был против его неуважения ко мне как к музыканту: приперся и уселся на сцене со своими чертовыми плакатами как раз в тот момент, когда мы начали играть. Только я взял трубу, а тут он – меня это страшно сбило. Не знаю, зачем Максу все это понадобилось. Но он был мне как брат и потом объяснял, что просто хотел предупредить меня, во что тут можно вляпаться. Ну я ему сказал, что он мог бы это сделать как-то иначе, и он согласился со мной. После того как его прогнали со сцены, я собрался и исполнил свою партию.
У нас с Максом и вскоре после этого была стычка. Я уже говорил, что он был совершенно убит известием о смерти Клиффорда Брауна в 1956 году и даже начал пить и все такое. Я с ним тогда почти не виделся. Он женился на певице Эбби Линкольн. И вдруг вообразил, что у меня с ней шуры-муры, и дошел до того, что попытался трахнуть Франсис. Все время, когда меня не было дома, таскался к нам, стучал в дверь и требовал, чтобы его впустили. Один раз пришел ночью и хотел взломать дверь, тогда Франсис по-настоящему испугалась и рассказала мне обо всем. Сначала я ушам своим не мог поверить, но потом до меня наконец дошло, что она говорит правду.
Я сел в машину и поехал искать Макса. Нашел его в клубе Шугара Рея в Гарлеме. Я попытался объяснить Максу, что все мои отношения с Эбби Линкольн сводились только к тому, что я один раз ее постриг. Кто-то сказал Максу, что я «позанимался» с Эбби, и он решил, что это значит, что я ее трахнул. Он заорал на меня и вцепился мне в горло, а я вдарил ему апперкотом и нокаутировал. Просто свалил его с ног прямо на месте. Он страшно вопил, я раз-другой попытался уйти, но он все не давал мне. Ну ты же понимаешь, барабанщики ведь как быки сильные, господи, и Макс никому обид не спускал. Я это хорошо знал. Франсис была там, и народ смотрел на нас как на умалишенных.
Господи, невеселая это была история. На меня орал тогда в клубе не настоящий Макс Роуч, да и я, Майлс Дэвис, бывший наркоман, был в тот момент ненастоящим. За Макса говорили наркотики, и поэтому, ударив его, я даже не ощутил, что бью настоящего Макса, своего друга. Но мне было тогда очень больно и плохо, и по дороге домой я как ребенок ревел в руках Франсис и потом всю ночь проревел. Это был один из самых тяжелых и эмоционально разрушительных моментов в моей жизни. Но через некоторое время все встало на свои места. Мы с Максом никогда не упоминали о том случае.
В 1961 году мы с Франсис жили душа в душу. В «Берд-ленде» я как-то сделал ей сюрприз: подарил сапфировое кольцо в форме звезды, но завернул его в туалетную бумагу. Она была в шоке – это получилось совершенно неожиданно. Мне кажется, в тот вечер в «Бердленде» пела Дайана Вашингтон. И вообще я много времени проводил дома – обучал Франсис готовить. Я страшно увлекся кулинарией. Обожал вкусно поесть, но мне надоело каждый вечер есть в ресторанах, и я сам научился готовить по кулинарным книгам – просто практиковался, почти как на музыкальном инструменте. Я мог приготовить большинство знаменитых французских блюд – мне ужасно нравилась французская кухня – и все афро-американские блюда. Но моим любимым кушаньем было чили, которое я назвал «южночикагский чили мак Майлса Дэвиса». Я подавал его со спагетти, тертым сыром и устричными крекерами. И Франсис научил его готовить, через некоторое время у нее стало получаться лучше, чем у меня.
Тогда же мы переехали в дом 312 на Западной 77-й улице, перестроенное здание русской православной церкви. Я купил этот пятиэтажный дом еще в 1960 году, но там долго шел ремонт.
Этот дом был за рекой Гудзон, между Риверсайд-драйв и Вест-Энд-авеню. В подземном этаже я устроил спортивный зал и оборудовал музыкальную комнату, чтобы репетировать, никому не мешая. На первом этаже – большая гостиная и большая кухня. И еще лестница, которая вела в спальни. А квартиры в двух верхних этажах мы сдавали. И еще у нас был садик позади дома. Денежный вопрос меня в то время не беспокоил. Я зарабатывал 200 тысяч долларов в год. На часть денег покупал акции и все время проверял в газетах, что с ними происходит.
Этот дом был нам необходим, потому что к тому времени у нас с Франсис жили все наши дети:
моя дочь Черил, мои сыновья Майлс IV и Грегори и сын Франсис Жан-Пьер. Мой брат Вернон иногда приезжал и останавливался у нас, а также моя сестра и мать. И отец приезжал один или два раза.
Я нечасто виделся с матерью, но когда мы все же встречались, это было нечто. Она во все свой нос совала. Помню, однажды парень по имени Марк Кроуфорд написал обо мне большую статью в журнале «Эбони», а я в то время был в Чикаго, играл в «Сазерленде». Марк сидел со всеми нами за столом – со мной, матерью, Дороти и ее мужем Винсентом. Мать говорит мне: «Майлс, ты хоть иногда улыбался бы, когда тебе громко аплодируют. Люди хлопают, потому что любят тебя, им нравится твоя прекрасная музыка».
Я возразил: «Что я тебе, дядя Том из хижины?»
Она посмотрела на меня строго, а потом сказала: «Если я услышу, что ты дядятомничаешь, я придушу тебя собственными руками». Ну, мы-то все спокойно к ее словам отнеслись: хорошо ее знали. Но у Марка Кроуфорда глаза из орбит вылезли. Он не знал, писать ему об этом или нет. Но такова уж была моя мать, всегда правду-матку резала.
В 1961 году я стал победителем опроса читателей «Даун Бита» как лучший трубач и руководитель лучшего комбо. Новая группа Трейна с Элвином Джонсом, Маккоем Тайнером и Джимми Гаррисоном выиграла звание «Лучший новый комбо», а Трейн был назван лучшим тенор– саксофонистом и новой звездой на сопрано-саксофоне. Так что все обстояло как нельзя лучше, только моя серповидноклеточная анемия отравляла мне жизнь. Но все остальное шло очень хорошо.
На моих концертах собирались знаменитые актеры. Марлон Брандо каждый вечер заходил в «Бердленд» послушать музыку и поглазеть на Франсис. Помню, он просидел за ее столиком всю ночь, разговаривал с ней и смеялся, как школьник, пока я играл. Ава Гарднер регулярно приходила в «Бердленд», бывали и Ричард Бертон с Элизабет Тейлор. Пол Ньюмен тоже часто заходил – он не только музыку слушал, но и изучал мои движения и повадки для фильма о музыкантах «Paris Blues». В Лос-Анджелесе на мои концерты всегда приходил Лоренс Харвей и припарковывал свой «роллс-ройс» (с пурпурной обивкой) прямо перед клубом, который, по-моему, назывался «It Club». Этим клубом владел черный парень Джон Макклейн, мы его звали Джон Те (его сын, тоже Джон Т. Макклейн, сейчас крупнейший продюсер грамзаписи, продвигает таких людей, как Джанет Джексон, для «А&М Рекордз»). И еще я наслаждался своим новым домом в Нью-Йорке. Колтрейн ко мне иногда заходил, и мы с ним играли в подвале. Кэннонболл тоже приходил. Я узнал, что Билл Эванс сел на иглу, и это меня ужасно огорчило. Господи, я ведь провел профилактическую беседу с Биллом, еще когда он только начал свои эксперименты с наркотиками, но, как видно, он меня не послушался. Но я был огорчен – такой превосходный музыкант, как Билл, и туда же, хотя все, даже Сонни Роллинз с Джеки Маклином, уже завязали.
Мне кажется, именно благодаря Биллу Эвансу у меня в доме всегда была классическая музыка. Под нее так приятно думалось и работалось. Народ, приходивший ко мне, ждал джаза на проигрывателе, но я в то время почти не слушал его, и многие сильно удивлялись, узнав, что я в основном слушаю классику, ну, знаешь, Стравинского, Артуро Микеланджели, Рахманинова, Исаака Штерна. Франсис тоже любила классическую музыку, и, мне кажется, для нее было приятным сюрпризом узнать, что и я ее очень люблю.
Двадцать первого декабря 1960 года мы с Франсис наконец поженились. Она пошла и купила себе пятислойное обручальное кольцо. Я во все это не верю и не стал покупать себе кольца. Это был мой первый официальный брак. Родители Франсис были страшно счастливы, я за них тоже был рад. Мои отец и мать тоже одобрили наше решение, им обоим нравилась Франсис, впрочем, как и всем.
Но как ни хороша была в то время моя семейная жизнь, с музыкой у меня были проблемы. Хэнк Мобли ушел из оркестра в 1961 году, и я наспех заменил его парнем по имени Роки Бойд, но он мне совершенно не подошел. Я уже говорил, что к этому времени стал для многих звездой. В январе 1961 года «Эбони» поместил обо мне статью на семи страницах с множеством фотографий:








