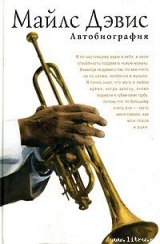
Текст книги "Автобиография"
Автор книги: Майлс Дэвис
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
В 1988 году кроме больницы, где я оказался из-за пневмонии, у меня была еще одна неприятность, я о ней уже рассказывал, – развод с Сисели. Расписываясь, мы договорились, что если расстанемся, не будем друг другу портить жизнь – у каждого из нас были свои деньги и каждый из нас мог продолжать делать свою карьеру. Но она не сдержала слова. Натравила на меня уйму юристов – всюду, где бы я ни появлялся, они подсовывали мне все эти бракоразводные бумаги. Такая тоска была от них увертываться, пока я не совладал с собой. Все это могло бы пройти и более дружески. Сейчас уже все позади, потому что договор о разделе имущества подписан в 1988 году, а развод состоялся в 1989-м, и я счастлив. Теперь я могу продолжать встречаться с другими женщинами.
Я встретил еще одну женщину, с которой мне очень хорошо. Она намного моложе меня – на двадцать лет. Мы не очень часто бываем с ней на людях, мне не хочется подвергать ее всем этим сплетням, которые преследуют всех моих женщин. И не буду называть ее имя, не хочу, чтобы наши отношения получили публичную огласку. Это очень милая, нежная женщина, которая любит меня таким, каков я есть. Мы с ней прекрасно проводим время, хотя она знает, что я ей не принадлежу и что, если захочу, буду видеться с другими. И еще, пару лет назад я встретил на гастролях в Израиле одну очаровательную женщину-скульптора, очень талантливую. Мы с ней иногда видимся в Соединенных Штатах. Она очень приятный человек, хотя я и не знаю ее так хорошо, как мою нью-йоркскую знакомую, которая мне ближе всех.
Когда я сейчас слышу, как музыканты исполняют все те же джазовые прибамбасы, которые мы изобрели давным-давно, мне становится грустно. Я хочу сказать, что это все равно что идти в постель с очень-очень старым человеком, от которого пахнет старостью. Я вовсе не унижаю стариков, потому что сам старею. Но нужно быть честным перед самим собой, и я именно так все это и вижу. Многие люди моего возраста любят старую, консервативную мебель. А мне нравится новый мемфисский стиль – легкий хайтек, он в основном идет к нам из Италии. Смелые цвета и длинные, мягкие, свободные линии. Мне не нравится, когда дом забит вещами и мебелью. Мне нравятся современные вещи. Я всегда должен быть на передовой линии всего, такой уж я есть и всегда таким был.
Я люблю трудности, риск, люблю все новое – так я подзаряжаюсь. Но музыка всегда залечивала мои раны и была моим духовным пастырем. Когда я хорошо играю и когда хорошо играет мой оркестр, то у меня почти всегда хорошее настроение, если только здоровье не подводит. И я все еще каждый день учусь. Например, у Принца и у Камео. Мне нравятся живые шоу Камео. Музыканты не сразу раскрываются, их нужно слушать с середины концерта, когда они набирают такую скорость и силу, что начинают летать. Я уже в пятнадцать лет понял, что в шоу, в живом шоу, есть вступление, средняя часть и конец. У того, кто это понимает, будет блестящее, по сравнению с другими шоу. Десятка в начале, десятка в середине и десятка в конце, с изменениями настроения, конечно, разными настроениями, конечно, но это не так просто.
Увидев, как Камео в своих шоу подавал своих музыкантов, я стал то же самое делать у себя. Вот мы на сцене, я начинаю играть, потом играет оркестр, потом снова я. Потом Бенни играет на басу, за ним – Фоли на гитаре, и оба уводят публику за собой благодаря своему фанко-блюзороковому звучанию. Потом, после первой пары мелодий, мы играем «Human Nature», увеличивая темп. И на этом как бы заканчиваем первый сет. Но затем резко меняем тему. С этого момента она расширяется, но с грувом. И все это происходит, когда Бенни и остальные музыканты – особенно Фоли – начинают играть, а я вступаю после них. Когда с нами играл Дэррил Джонс (а он знал самые новомодные штуки), мы с ним играли как бы по контрасту, иногда так же мы играли и с Бенни. Но в основном Бенни был нашим якорем, он на этом собаку съел. (Бенни будет великим бас-гитаристом. Он и так уже почти им стал.) А потом все по очереди играют соло.
Давным-давно Билли Экстайн сказал мне и еще одному певцу, что нужно выходить на сцену под аплодисменты. Он говорил тому певцу: «Не жди, пока они закончатся». Я сейчас так и делаю: когда публика аплодирует, выхожу к ней. И начинаю новый номер под аплодисменты. Даже если не очень удачное начало, слушатели не заметят, они ведь аплодируют. Так что прямо окунаемся в аплодисменты. Так и играем живые концерты, и все по нашему плану неплохо получается. Людям во всем мире это нравится, они и есть наш барометр, а не критики. Люди – самое важное. У них нет скрытых обязательств и тайных мотивов. Они заплатили за то, чтобы увидеть тебя, и уж если ты им не нравишься, найдут способ дать тебе об этом знать, и очень скоро.
Глава 20
Многие спрашивают меня, в каком направлении движется современная музыка. Я думаю, ее фразы становятся короче. Прислушавшись, любой человек со слухом поймет это. Музыка все время меняется. Ее меняют время и господствующая на данный момент технология и материалы, из которых изготовляются вещи, например, машины сейчас делают из пластика, а не из металла. Так что теперь дорожная авария сопровождается не такими звуками, как раньше, – это уже не скрежет металла, как в сороковые или пятидесятые. Музыканты выбирают новые звуки для своей игры, и музыка, которую они создают, звучит сейчас иначе. Новые инструменты, такие как синтезаторы и много чего еще, совершенно все меняют. Раньше музыкальные инструменты делали из дерева, потом из металла, сейчас это твердый пластик. Я не знаю, из чего они будут состоять в будущем, знаю только, что это будет какой-то новый материал. Плохие музыканты не улавливают музыку нашего времени, поэтому они и не могут ее играть. Я смог играть в верхнем регистре, только когда я стал его слышать. До этого мне были доступны лишь средний и нижний регистры, это было все, что я слышал. То же самое происходит со старыми музыкантами, пытающимися исполнять современную музыку. Я был похож на них – до прихода в мой оркестр Тони, Херби, Рона и Уэйна. Они заставили меня слышать музыку по-иному, и я им за это очень благодарен.
Мне кажется, музыка Принца устремлена в будущее, и еще многое из того, что делается в Африке и на Карибах. Такие парни, как Фела из Нигерии или группа Kassav из Вест-Индии. У них многое перенимают белые музыканты и оркестры – Talking Heads, Стинг, Мадонна и Пол Саймон. Много хорошей музыки дает Бразилия. Но в основном вся эта музыка исполняется в Париже, там играют многие музыканты из Африки и Вест-Индии, особенно те, кто говорит по-французски. Англоязычные музыканты оседают в Лондоне. Кто-то мне недавно сказал, что Принц задумал организовать студию под Парижем, чтобы быть в курсе всего, что там делается. Поэтому я и считаю его одним из самых ярких музыкантов, которые смотрят в будущее. Он понимает, что звучание должно стать интернациональным, это уже витает в воздухе.
Я люблю играть с молодыми, мне кажется, старые джазовые музыканты – ленивые стервецы, они сопротивляются переменам, цепляются за старые трюки, они слишком инертны для нового. Они слушают критиков, которые советуют им сидеть на месте, но ведь им, критикам, выгодно такое положение вещей. Они ведь тоже ленивые. Зачем им тратить силы, чтобы пытаться понять новую, другую музыку? Старые музыканты топчутся на одном месте, превращаются в музейные экспонаты, их впору под стекло помещать – предсказуемые, доступные, они снова и снова долдонят давно заезженное дерьмо. А потом носятся и с пеной у рта доказывают, что электронные инструменты и электронное звучание уничтожают музыку и традиции. Я так не считаю и думаю, что ни Птица, ни Трейн, ни Сонни Рол-линз или Дюк, да и никакой другой уважающий себя художник так не считает. Бибоп в свое время принес перемены, эволюцию. Разве тогда кто-то топтался на месте и думал только о своем благополучии? Если хочешь оставаться творцом, будь готов к переменам. И вообще, жизнь – это рискованное приключение. Иногда ко мне подходит какой-нибудь парень и просит сыграть «My Funny Valentine», мою старую вещь, наверняка он под нее в первый раз трахал свою любимую девушку – и я могу это понять. Но я ему советую пойти и купить пластинку. Меня уже нет в том отрезке времени, я строю свою жизнь так, как надо мне, а не так, как это надо другим.
Мои ровесники, которые слушали меня «в старое доброе время», больше не покупают пластинок. Если бы я зависел от них – даже если бы я играл то, что им хотелось, – я бы умер с голоду и потерял бы контакт с людьми, которые покупают пластинки, – с молодежью. И если бы я хотел сыграть все эти старые темы, я не нашел бы музыкантов, которые могли бы играть, как раньше играли. Те, кто еще жив, руководят сейчас своими собственными оркестрами и играют то, что им хочется. И ни за что не променяли бы свою работу на оркестр, которым руковожу я.
Джордж Уэйн однажды уговаривал меня пригласить Херби, Рона и Уэйна снова съездить со мной в турне. Но я ему сказал, что ничего из этого не выйдет, ребята не захотят играть у меня как сайдмены. Турне могло бы принести много денег? Ну и что с того? Музыка – это не совсем про деньги. Она в основном про чувства, особенно та, которую мы исполняем.
Возьми, например, Макса Роуча, он мне как брат. Если бы он сейчас написал что-нибудь и попросил меня это сыграть, положим, с Сонни Роллинзом, я не уверен, что согласился бы: я уже не играю в таком стиле. И не потому, что я не люблю Макса – я его очень люблю. Но чтобы я согласился, ему нужно было бы написать что-то такое, что понравилось бы и ему, и мне. А вот другой пример. Еще давно у меня была возможность выступать с Фрэнком Синатрой. Он прислал ко мне кого-то в «Бердленд», где я тогда работал. Но ничего из этого не вышло, потому что меня не увлекало то, что увлекало его. И опять же – это вовсе не потому, что мне не нравится Фрэнк Синатра. Но лучше уж я послушаю его, чем буду мешать, играя то, что мне хочется. Слушая Фрэнка, я научился делать фразировки, понял его концепцию фразировок, и еще мне много дал в этом смысле Орсон Уэллес.
Ну а, например, Палле Миккельборг, мы с ним сделали альбом «Aura». Когда я с ним там в Дании тусовался, я слышал любую музыку. То же самое с Гилом Эвансом. То, что Гил сделал для нового альбома Стинга, – полный улет, огромный успех для Стинга. Помнишь результаты джазового опроса в «Плейбое» после выхода этой пластинки Стинга и Гила? Читатели – в основном белые – проголосовали за Стинга как за лучшую джазовую группу года. Разве это не достижение?
Черная группа никогда не получила бы такого признания, если бы она, скажем, перешла от фыожнджаза к року. Никогда бы белые не проголосовали за них как за лучших ловцов мышей года. Но за Стинга-то тем не менее они проголосовали. Последний альбом Стинга прекрасный, но, кроме него, там никого не слышно, а он – совершенно не джазовый музыкант. Стинг пишет песни, со словами, диктует тебе, о чем думать. А во время исполнения инструментального сочинения ты можешь думать, о чем хочешь. Ведь совсем не обязательно читать «Плейбой», чтобы знать позицию, в которую ты поставишь девушку, занимаясь с ней любовью. Знаешь, это все делается для ленивых. Самая популярная музыка – «Бэби, я тебя люблю. Приди ко мне и дай». Да на свете миллионы таких пластинок с такой «лирикой». Все это уже давно превратилось в клише, а множество артистов все это копируют, только и занимаются тем, что перенимают клише друг у друга. Поэтому и трудно сохранить оригинальность в студии звукозаписи – из-за всех этих пластинок для массового слушателя.
Мне не нравится музыка Трейна, которую он играл под конец жизни. После его ухода от меня я перестал слушать его записи. Он все время играл одно и то же – то, что играл со мной. Поначалу его группа с Элвином Джонсом, Маккоем Тайнером и Джимми Гаррисоном была ничего. А потом они превратились в пародию на самих себя, и все, кроме Элвина и Трейна, играли паршиво. Мне не нравился Маккой, он только и делал, что колотил по несчастному роялю, ничего крутого я в этом не видел. Я знаю музыкантов, которые могут играть на этом инструменте: Билл Эванс, Херби Хэнкок и Джордж Дюк. А Трейн с компанией делал модальный джаз, а я это уже все прошел. У Маккоя через некоторое время вообще пропала способность правильно касаться клавиш, правильно извлекать звук. Он стал монотонным, а потом и Трейн стал играть монотонно, да-да, ты посиди и послушай его подольше. А через некоторое время я вообще перестал хоть что-нибудь в них видеть, и Джимми Гаррисон мне не нравился. Но многим они нравились, и это хорошо. Когда раньше Элвин с Трейном играли дуэтом, мне это казалось круто. Но это мое личное мнение, я могу ошибаться.
Сейчас музыкальное звучание сильно отличается от того, которое было, когда я начинал. Сейчас используются все эти эхокамеры и всякое такое. Например, в фильме «Смертельное оружие» с Дэнни Кловером и Мелом Гибсоном есть сцены в помещении из металла. Публика постепенно привыкает к лязганью металла, и ребята из Вест-Индии, например из Тринидада, пишут такую музыку – со стальными барабанами и подобными штуками. А синтезатор вообще все изменил, нравится это музыкантам-пуристам или нет. Он внедрился прочно и надолго, и им либо пользуются, либо нет. Я выбрал первое, потому что все в мире меняется. Те, кто не хочет меняться, окажется в положении фольклорных исполнителей, которые играют в музеях – этакие, тьфу, краеведы. Потому что музыка и звучание сейчас – интернациональны, и нет никакого смысла пытаться вернуться в чрево матери, откуда ты когда-то вылез. Человеку нет обратной дороги в материнский живот.
Музыка – это темп и ритмическая организация. И китайская музыка прекрасно звучит, если все в ней построено по законам. Но хотя многие считают мою музыку очень сложной, сам я считаю ее простой. Так она мне слышится, несмотря на то что она кажется сложной другим.
Я люблю ударников. Про барабаны я все узнал от Макса Роуча, когда мы с ним вместе играли с Птицей и подолгу жили в одном номере во время гастролей. Он всегда показывал мне всякие штуки. Рассказывал, что ударник должен неуклонно сохранять ритм, у него должно быть внутреннее чувство бита, он должен создавать грув. Как делается грув: вставляется бит между битами. Например, «бэнг, бэнг, ша-бэнг, ша-бэнг». Вот это «ша» между «бэнгами» и есть бит между битами, эта маленькая деталь и есть экстрагрув. Если ударник не может этого воспроизвести, то грув исчезает, и это самое плохое на свете – когда ударник не способен создать грув. Господи, это словно в дерьме тонуть.
А вот музыкант и артист вроде Маркуса Миллера типичен для сегодняшнего времени. Он может играть все, открыт всем музыкальным течениям. Он понимает, например, такие вещи, как отсутствие живого ударника в студии. Можно ведь запрограммировать ритм-компьютер, а потом, если это тебе нужно, заставить ударника играть вместе с ним. Ритм-компыотер – вещь хорошая, его можно использовать то в одном месте записи, то в другом, он всегда сохраняет один и тот же темп. Многие ударники имеют привычку замедлять темп или ускорять его, а это может испоганить то, что ты делаешь. Ритм-компьютеры себе этого не позволяют, так что для записи они хороши.
Но иногда бывает необходим живой, великий барабанщик вроде Рики Уэлмана, чтобы подхлестнуть игру. В живой музыке все постоянно меняется, и тут важен активный ударник, который тоже меняет игру с общим потоком. Когда исполнение идет вживую, необходимо сохранять интригу, интерес к музыке, и в такой ситуации отличный барабанщик лучше, чем ритм-компыотер.
Я уже говорил раньше, что многие джазмены – ленивые ребята. А белые им в этом потакают, говоря: «Тебе не надо учиться, ты самородок. Просто бери трубу и дуй». Но это неправда. Не у всех черных есть чувство ритма. Зато много белых парней, которые играют на отрыв, особенно в рок-группах. И ударники там никогда не сбавляют темп и могут играть наравне с ритм– компьютерами. Но многие черные джазмены не хотят и не могут так работать. Предпочитают, по наущению белых критиков, оставаться «натуралами».
У меня всегда был особый дар – слышать музыку так, как только я ее слышу. Не знаю, откуда это во мне, просто это есть, я не задаю себе лишних вопросов. Например, я слышу, что пропущен бит, или чувствую, что это Принц играет на ударных, а не звуковая дорожка. У меня это всегда было. Например, я могу начать игру в заданном темпе, потом заснуть, проснуться и продолжать в том же темпе. Когда дело касалось подобных вещей, я никогда не ошибался. Когда нарушается ритм, если он неправильный, я просто останавливаюсь. То есть меня что-то останавливает, я просто не могу тогда ничего делать. И если инженер неудачно склеил пленку, меня всего передергивает, я сразу это чувствую.
Для меня жизнь и музыка связаны со стилем. Например, если хочешь выглядеть и чувствовать себя богатым, надеваешь определенную вещь, определенную обувь, или рубашку, или пальто. Стили в музыке вызывают в людях разные чувства. Если хочешь внушить кому-то определенные чувства, то играешь в определенном стиле. Вот и все. Поэтому я считаю полезным для себя играть для разной публики: я тоже беру от них разные вещи, которые потом использую. Есть места, где я еще не играл и куда мне хотелось бы попасть, например Африка или Мексика. Мне бы очень хотелось выступить в этих странах, и я обязательно это сделаю.
Выезжая из Соединенных Штатов, я играю по-другому, и меня принимают по-другому, с огромным уважением. Я это очень ценю и стараюсь отблагодарить своей игрой. Мне хочется, чтобы людям было хорошо, ведь и они сделали так, чтобы мне было хорошо. Больше всего я люблю выступать в Париже, Рио, Осло, в Японии, Италии и Польше. В Соединенных Штатах мне нравится играть в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско и еще в Лос-Анджелесе. Народ в этих местах неплохой, но все равно они меня иногда бесят, будто гладят против шерсти.
Когда у меня был перерыв в игре, я слышал, что многие говорили: «Майлс ушел из музыки, что мы теперь будем делать?» Мне кажется, этому можно найти объяснение в том, что однажды сказал Диззи: «Глядя на Майлса, нельзя забывать о музыкантах, с которыми он работает. Многих из них Майлс сделал лидерами». Мне кажется, это правда. Многие музыканты смотрели на меня как на наставника. И мне это никогда не было в тягость – то, что я был как бы флагманом, головным дозорным в музыке. Но я никогда не считал, что один несу этот груз. Были и другие – Трейн и Орнетт. Даже в моих оркестрах руководил не только я, такого никогда не было. Возьми, например, Филли Джо и Трейна. Филли Джо задавал темп и под него играл Пол Чамберс, а Ред Гарленд указывал мне, не я ему, какие он хотел бы играть баллады. А Трейн сидел и помалкивал, зато играл на отрыв. Трейн всегда был неразговорчивым. Когда дело касалось рассуждений о музыке, он был как Птица. Они оба выражали свои мысли с помощью саксофонов. Когда в моем оркестре были Херби, Тони, Рон и Уэйн, тон задавал Тони, а мы следовали за ним. И все они сочиняли для оркестра, некоторые вещи мы писали вместе. Тони никогда не замедлял темпа; если он и менял его, то в сторону убыстрения, а ритм всегда соблюдался неукоснительно. Когда со мной играли Кит Джаррет и Джек Де Джонетт, именно они диктовали, что и как играть, они задавали темп. Они меняли музыку, а потом она сама принимала новые формы. И ни один оркестр не мог с нами сравниться, потому что у них не было Кита и Джека. И так с каждым из моих оркестров.
Знаешь, моя заслуга в том, что я умел подбирать талантливых ребят, тут какая-то «химия» срабатывала, а потом я давал им волю: сначала они играли то, что знали, но вскоре начинали превосходить самих себя. Когда я приглашал этих парней, я не знал точно, как они будут вместе звучать. Мне кажется, самое важное – найти музыкантов, потому что если это люди умные и творческие, их музыка будет парить на недосягаемой высоте.
У Трейна был собственный стиль, и у Птицы, и у Диза, я тоже хочу звучать только как я сам. Хочу всегда оставаться самим собой, что бы это ни значило. Но в музыке мне бывают близки разные фразы, и если мне что-то по-настоящему нравится, это как будто тоже становится моим. И тогда эта фраза и есть я. Я играю по-своему, а потом пытаюсь превзойти себя. Самая трудная тема, которую я когда-либо играл в жизни, – это «I Loves You, Porgy», потому что там нужно было заставить трубу звучать, строить фразы, как человеческий голос. Когда я играю, я вижу цвета и предметы. Когда я слушаю чью-то песню, я всегда думаю, почему здесь использована именно эта нота, почему это так сделано. Мое звучание было поставлено Элвудом Быокененом, моим учителем в средней школе. Я любил даже то, как он держал трубу. Мне говорят, что моя труба имитирует человеческий голос, а это и есть то, чего я добиваюсь.
Самые лучшие музыкальные идеи приходили ко мне по ночам. У Дюка Эллингтона было то же самое. Он ночами писал, а потом целыми днями спал. Мне кажется, это оттого, что ночью тихо, шорохи легко блокируются и проще сконцентрироваться. И еще мне кажется, что в Калифорнии гораздо легче писать, там очень тихо, я живу на берегу океана. Во всяком случае, сейчас это так. Когда я пишу музыку, я предпочитаю находиться в Малибу, а не в Нью-Йорке.
Я играю некоторые аккорды, которые ребята из моего оркестра называют «Майлзовы аккорды». Так можно играть любые аккорды, брать любой звук, и они не будут звучать неправильно, если только кто-то не начнет неправильно играть на их фоне. Понимаешь, то, что играют на фоне аккорда, определяет, подходит он или нет. Нельзя создавать скопление не соотнесенных друг с другом аккордов и потом оставлять их висеть в воздухе. Их нужно привести к логическому заключению, разрешить. Например, когда мы играем в миноре, я обычно показываю ребятам много вариантов – от фламенко до пассакалий, так, кажется, это называется. Пассакалья – это когда при одной и той же басовой линии я играю трезвучия, и получается, что солист играет на фоне минорного аккорда. Тут нужно уметь чувствовать. То же самое мы делали с Трейном. Русский композитор Хачатурян и блестящий английский композитор Хернспак играли и сочиняли в миноре. Сыграть можно многое, если начать изучать все это.
По-моему, великие музыканты похожи на великих боксеров, они хорошо защищены. У них в головах есть высшее знание, они владеют высшей теорией, как африканские музыканты. Но мы не в Африке и не ограничиваемся религиозными песнопениями. У всего, что мы делаем, есть научная подоплека. Если опираться на уменьшенные аккорды, то получишь эффект песнопения, причем очень сильный, и это понятно, ведь опора – все эти разнородные звуки. А сейчас это делать даже проще, потому что последние двадцать лет публика слушает великую музыку: Колтрейна, меня, Херби Хэнкока, Джеймса Брауна, Слая, Джими Хендрикса, Принца, Стравинского, Бернстайна. К тому же есть такие музыканты, как Хэрри Парч и Джон Кейдж. У Кейджа музыка звучит так, будто стекло падает. И многие на это западают. Так что сейчас люди готовы воспринимать любой вид музыки. И если уж они способны переварить Марту Грэм и то, что они с Кейджем сделали еще в 1948 году в Джульярде, где я их обоих видел, то им самое разное дерьмо по вкусу придется.
Но в авангарде все же остается именно черная музыка – брейк-данс, хип-хоп и рэп. Господи, сейчас даже в рекламах самая новая музыка. Даже баптистские госпелы идут в ход. Интересно, что именно белые распевают это дерьмо и заезживают эти мелодии до дыр. Без устали стараются выглядеть, как мы: и поют, как мы, и играют, как мы. Так что теперь черным артистам нужно придумать для себя что-то другое. Правда, народ в Европе, Японии и Бразилии не обманешь. Это только здесь, в Америке, пипл все хавает.
Я люблю путешествовать, правда, уже не так, как раньше, – уж слишком много разъезжаю по свету. Но я все еще при этом оттягиваюсь – знаешь, встречаешься с массой разных людей, знакомишься с другими культурами. Одно я понял: черные во многом схожи с японцами. Эти любят посмеяться. И не такие натянутые, как белые. Когда чернокожий улыбается белым, его считают дядей Томом, но к японцам никто так не относится, потому что у них есть деньги и власть. У азиатов неподвижные глаза, особенно у китайцев. Они как-то странно на тебя смотрят.
Но я уловил, как японские женщины искоса, тайком бросают взгляд на мужчин, теперь я их хорошо понимаю. По-моему, самые красивые женщины в мире – бразильянки, эфиопки и японки. Я хочу сказать, что в них сочетаются красота, женственность и ум, походка, умение подать себя и уважение к мужчинам. Японки, эфиопки и бразильянки уважают мужчин и никогда не пытаются подражать им – во всяком случае, те, кого я знал. Большинство американских женщин не знают, как вести себя с мужчинами, особенно чернокожие пожилые бабы этим отличаются. Они постоянно соревнуются с мужчинами, несмотря на все, что те для них делают. Мне кажется, это из-за их курчавых волос. Просто им в этой стране промывают мозги из-за того, что у них нет длинных, светлых, прямых волос. Вот они и считают себя некрасивыми – а ведь на самом деле они очень красивые. Но, мне кажется, это больше относится к старшему поколению, у которых на ушах висит лапша про красоту белых женщин. Большинство моих знакомых молодых черных женщин – настоящие красотки и не озабочены проблемами старух. И все равно они комплексуют из-за своей внешности. Многие из них думают, что все черные мужчины хотят и желают белых женщин, даже если относятся к своим черным подругам как к королевам. И это отравляет им жизнь. Большинство белых женщин относятся к мужчинам лучше, чем черные женщины, у них нет этих комплексов. Я понимаю, что эти мои слова взбесят многих черных женщин, но мне все это так видится.
Понимаешь, многие черные женщины ведут себя с мужчинами как учительницы или матери. Все время их контролируют. Только Франсис этим не занималась. За все семь лет нашей совместной жизни ни разу ничего такого не устроила. Она была выше всего этого, ей не нужно было со мной соперничать, она и так была уверена в себе. А когда женщина уверена в себе – знает, что она красивая и женственная и что мужики тают при ее появлении, она и так может справиться с ними. Франсис в совершенстве владела своим телом, она была танцовщицей и знала, что на улице из-за нее движение останавливается. Она была артисткой, а у артистичных женщин более широкий и глубокий взгляд на жизнь.
А вот многие черные бабы, у которых работа нетворческая, – всякие там исполнительницы в офисах – совсем не верят в себя и превращаются в жутких зануд. Они постоянно с тобой спорят, у них всегда с языка готова сорваться гадость. Если мужчина достанет тебя так, что ты полезешь на стенку, ему, по крайней мере, можно влепить физически. Но с женщиной такой номер не проходит. Она тебя бесит, а ты ее не тронь. И приходится делать вид, что не обращаешь внимания. Но если несколько раз спустить с рук этой всезнающей сучке, которая находится с тобой в постоянной конкуренции, то она буквально полезет на тебя со своими выпяченными губами, со своими гадостями и колкостями. Тогда можно выйти из себя и вдарить ей. Я часто по падал в такие ситуации с очень уж напористыми женщинами и многим из них влеплял. Но мне это вовсе не нравится, я не хочу так поступать с женщинами. Когда дело катится к этому, я до последнего момента пытаюсь сдержаться.
Многие черные женщины не понимают, как себя вести с артистом, – особенно старорежимные тетки и те, что увлечены карьерой. Артисту ведь в любое время может что угодно взбрести в голову. Поэтому нечего все время быть с ним в контрах, нечего мешать ему, отвлекать от того, что
он думает или делает. Совершенно ужасно, когда женщина не дает творческому человеку заниматься творчеством. До многих женщин старшего поколения это вообще не доходит, потому что во времена моей юности артистов и художников вообще не уважали. Но белые женщины уже давно живут бок о бок с творческими личностями и понимают значение искусства для общества. Так что в этом смысле черным женщинам приходится догонять своих белых товарок. В итоге у них все получится. А пока такие люди, как я, вынуждены сами бороться за свое счастье. Я стараюсь иметь дело с женщинами, которые понимают и уважают меня.
Многие африканки, которых я встречал, не похожи на афро-американок. Они совершенно другие и лучше обращаются со своими мужчинами. Я просто восхищаюсь настоящими негритянками из Эфиопии и еще, пожалуй, из Судана. У них великолепные высокие скулы и прямые носы, это их лица я в основном изображаю в своих рисунках и картинах. Моя африканская модель Иман именно такая – красивая, элегантная, грациозная. У африканок есть еще один тип красоты – полные губы, огромные глаза и чуть скошенная линия черепа, как у Сисели. В повседневной жизни Сисели была совсем не похожа на самое себя на экране, особенно когда она была взбешена или когда бесила меня. В ней появлялась какая-то чувственность. Я иногда прикидывался, будто страшно зол, – а на самом деле хотел увидеть на ее лице это выражение. Я его очень любил.
Я люблю флиртовать с женщинами. Стоит им подмигнуть, и они выложат перед тобой все. Это очень приятно – флиртовать, не раскрыв рта и не произнеся ни слова. Я всегда могу по глазам женщины сказать, интересен я ей или нет, особенно если вижу или чувствую в ее взгляде нечто большее, чем просто любопытство. Западные женщины говорят глазами, а японки – телом. Если заметишь это почти неуловимое «что-то» в глазах западной женщины и это тебе приятно, то начинаешь действовать. Если нет, то просто отворачиваешься. Но если вдруг почувствуешь в ее взгляде что-то духовное, что-то близкое тебе, то обязательно идешь навстречу.
Мне нравятся женщины с красивой осанкой, худенькие, с уверенными движениями, как у танцовщиц. Это должно быть видно в ее походке, в том, как она одевается, в любом ее движении.
Я это сразу же замечаю. На свете есть много прекрасных женщин, но не у всех есть это, такое важное для меня, качество. В женщинах должна быть сексуальность, какое-то электричество, которое говорило бы, что в них кроется что-то особенное. У некоторых это проявляется в губах, как, например, у Жаклин Биссет. У нее сексуальность разлита по всему лицу, в Сисели я тоже это видел какое-то время. У меня от этого аж кишки сводит. Это как кайф, как затяжка кокаином —причем большая затяжка. Предвкушение быть вместе с такой женщиной дает мне чувство счастья.
Это мощное чувство, сильнее оргазма. Ничто с ним не может сравниться.








