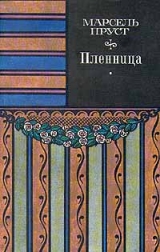
Текст книги "Пленница"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
Ко всем этим красивым вещам Альбертина относилась с гораздо более живым интересом, чем герцогиня, потому что, как всякое препятствие к обладанию (для меня это была болезнь, из-за которой прогулки были мне так трудны и так желанны), бедность, более великодушная, чем богатство, обогащает женщин в гораздо большей мере, чем туалет, недоступный им по цене: желанием приобрести этот туалет и тем, что благодаря этому желанию они по-настоящему изучили его и знают подробно и глубоко. Альбертина – потому что не имела возможности приобрести эти вещи, я – потому что, уговаривая ее приобрести их, старался доставить ей удовольствие, – мы напоминали студентов,85 заранее изучивших картины, которые они жаждали увидеть в Дрездене или в Вене. Напротив: богатые женщины в толчее своих шляп и платьев напоминают посетителей, которые, перед приходом в музей не доставив себе никакого удовольствия, испытывают лишь головокружение, усталость и скуку. Шляпка, пальто на соболевом меху, пеньюар от Дусе, с рукавами на розовой подкладке, приобретали для Альбертины, которая их высмотрела, облюбовала, с помощью характерной для желания сосредоточенности и цепкости взгляда отделила от всего остального, поместила в замкнутом пространстве, где с предельной отчетливостью были видны и подкладка, и шарф, изучила до малейшей подробности, – и для меня, ходившего к герцогине Германтской, чтобы она попыталась мне объяснить, в чем заключается необычайность, совершенство, шик той или иной вещи, а также неподражаемость приемов большого мастера, – приобретали значение и прелесть, каких они, конечно, не имели в глазах герцогини, насытившейся, еще не успев войти в аппетит, и даже для меня, если я их видел несколько лет назад, сопровождая элегантную даму во время ее скучнейшего похода к портнихам.
Конечно, Альбертина была прирожденная элегантная дама, таковою она в конце концов и стала. Я заказывал для нее только вещи в своем роде наилучшие, со всеми тонкостями, которые привносили в них герцогиня Германтская или г-жа Сван, а таких вещей у нее постепенно накопилось много. Но это ее ничуть не заботило – ведь она полюбила их с первого взгляда и по отдельности. Если человек увлекается сначала одним художником, потом другим, то в конце концов он станет восхищаться целым музеем, и это будет восхищение не холодное, поскольку оно состоит из вереницы пристрастий, в каждый период времени не имеющих себе равных, но в конце концов совмещающихся.86
Альбертина не была, кстати сказать, пустой девчонкой; она много читала, когда бывала одна, и читала мне, когда мы бывали вдвоем. Она поражала своим умственным развитием.87 Она говорила (и тут она заблуждалась): «Я прихожу в ужас, когда думаю, что без вас я так бы и осталась глупенькой.88 Не спорьте, вы открыли мне целый мир идей, о которых я понятия не имела; тем немногим, что из меня вышло, я обязана вам».
То же говорила она и о моем влиянии на Андре. Кто же из них любил меня? И что собой действительно представляли Альбертина и Андре? Чтобы это узнать, вам надо быть неподвижными, перестать жить в непрерывном ожидании, когда вы будете другими, чтобы закрепить ваш образ, надо разлюбить вас, не ждать нескончаемо долго вашего всегда озадачивающего появления, о девушки, о, идущий на смену один другому луч в вихре, в котором мы трепещем, ожидая, что вы вот-вот покажетесь вновь, и с трудом узнавая вас в головокружительной стремительности света! Быть может, мы бы ничего не знали об этой стремительности и все представлялось бы нам неподвижным, если бы половое влечение не заставляло нас бежать к вам – к вам, золотые блестки, всегда не похожие одна на другую и всегда превосходящие наши ожидания. Любая девушка так разнится от той, какою она была прошлый раз (стоит нам заметить ее – и воспоминание, которое мы о ней сохраняли, разбивается вдребезги, а вместе с ним и желание, которое они вызвали в нас), что наше постоянство, о котором мы ей толкуем, превращается в фикцию, употребляющуюся для красоты слога. Нам говорят, что вот эта красивая девушка нежна, любвеобильна, полна самых тонких чувств. Наше воображение верит рекомендующим ее на слово, и, когда впервые появляется перед нами, под кудрявой лентой белокурых волос, диск ее розового лица, мы уже начинаем бояться, что это ее чересчур добродетельная сестра и что, действуя на нас охлаждающе самой своей добродетелью, она никогда не сможет стать нашей возлюбленной, о которой мы мечтали. Во всяком случае, сколько признаний выслушивает она в первый же час нашей встречи, ибо мы уверовали в ее душевное благородство, сколько планов составили вместе! Но уже несколько дней спустя мы жалеем, что были так доверчивы, ибо во второй раз розовая девушка обращается с нами, как похотливая фурия. Не поручусь, что по истечении нескольких дней, когда розовый свет показывал уловленные нами свои чередующиеся облики, у девушек не меняется внешний movimientum89, и вот это-то как раз и могло случиться с моими бальбекскими девушками. Вам хвалят кротость, душевную чистоту девицы. Но немного погодя вы чувствуете, что вам хочется чего-то более острого, а ей советуют держаться смелей. В глубине души она больше первая или вторая? Быть может, в меньшей степени вторая, но способная – в бурном потоке жизни – развернуть самые разнообразные возможности. Или еще какая-нибудь девушка, для которой вся радость жизни заключается в беспощадности (которую мы надеялись смягчить), вроде, например, ужасной бальбекской прыгуньи, хлопавшей во время своих скачков по затылкам испуганных стариков, – какое разочарование постигло нас, когда она показала нам свой новый облик в тот момент, когда мы говорили ей нежные слова, вылившиеся наружу при воспоминании об ее жестокости по отношению к другим: мы услышали от нее, в виде музыкального вступления, что она застенчива, что при первом знакомстве она теряется – до такой степени она боязлива – и что только через две недели она могла бы спокойно поговорить с нами! Сталь превратилась в хлопок, нам уже незачем было пробовать что-то разбивать в этой девушке, поскольку она утратила устойчивость. Это случилось само собой, но, пожалуй, и по нашей вине, ибо нежные слова, которые мы обращали к твердости, внушили ей, быть может, – причем никаких корыстных целей в данном случае она не преследовала, – что нужно быть мягче. (Это нас огорчило, но наше поведение было не столь уж бестактно, ибо кротость ее была такова, что, быть может, требовала от нас чего-то большего, чем просто восхищения упрощенной жестокостью.)
Я не поручусь, что в один прекрасный день мы найдем, что даже у наших лучезарных девушек чересчур суровый нрав, но это будет тогда, когда они перестанут интересовать нас, когда их приход уже не будет для нас появлением чего-то нежданного и при виде новых воплощений сердце у нас не перевернется в груди. Их неизменность явится следствием нашего равнодушия, и оно передаст их на суд разума. Суд в своем решении не выкажет особой категоричности: установив, что такой-то недостаток, преобладающий в характере одной, по счастью, отсутствует у другой, он обнаружит, что полная противоположность этого недостатка – драгоценное качество. Так, из вынесенного рассудком неверного суждения, вступающего в силу, когда мы перестаем проявлять к девушкам интерес, определятся постоянные характеры девушек, о которых мы узнаем не больше, чем о тех, поражавших нас, что представали перед нами в головокружительной быстроте нашего ожидания, представали в течение нескольких недель ежедневно, слишком разные, чтобы мы могли решиться – а ведь бег все не прекращался – распределить их по разрядам, поставить их в определенный ряд. О наших чувствах мы уже говорили немало, повторяться не хочется. Часто любовь есть лишь связь девушки (иначе она скоро опротивела бы нам) с биением нашего сердца, неотделимого от нескончаемого, напрасного ожидания и от того, как девица однажды надула нас, не пришла на свидание. Все это верно по отношению к наделенным богатым воображением молодым людям, встретившимся с вечно меняющимися девушками. Впоследствии я узнал, что к тому времени, к которому подходит наш рассказ, племянница Жюпьена, должно быть, изменила мнение о Мореле и о де Шарлю. Мой шофер, дабы укрепить в ней чувство к Морелю, восхищался его бесконечной нежностью к ней, но ей что-то не верилось. А Морель все твердил ей, что де Шарлю играет по отношению к нему роль палача и что она видит в нем только злобу, а любви не чувствует. Она вынуждена была выразить свое неудовольствие по поводу того, что де Шарлю, сущий тиран, присутствует при всех их свиданиях. Она наслушалась подтверждавших ее мнение разговоров между светскими дамами о чудовищной злобе барона. Но немного погодя ее мнение было целиком опровергнуто. Она обнаружила в Мореле (хотя все-таки не переставала любить его) бездну злобы и лукавства, хотя, правда, эти чувства он вознаграждал частыми проявлениями душевной мягкости и неподдельной чувствительности, а у де Шарлю – неожиданную, беспредельную, смешанную с жестокостью доброту, о которой она раньше не подозревала. Таким образом, у нее было столь же неопределенное мнение о том, что на самом деле собой представляют скрипач и его покровитель, как у меня – об Андре, с которой я, однако, встречался ежедневно, и об Альбертине, которая жила в одной квартире со мной.
В те вечера, когда Альбертина не читала мне вслух, она играла, затевала партию в шашки, занимала меня разговором, а я игру в шашки и разговоры прерывал поцелуями. Простота наших отношений действовала успокаивающе.90 Пустота жизни выработала в Альбертине предупредительность, готовность сделать для меня все, что бы я ни попросил.91 За этой девушкой, как за пурпурным светом, падавшим к подножию моих занавесей в Бальбеке в тот час, когда гремела музыка, перламутились голубоватые волны моря. Да полно, та ли это девушка (сблизившаяся со мной до того, что, если не считать ее тетки, пожалуй, я был тем, кого она в наименьшей степени отделяла от самой себя), девушка, которую я увидел впервые в Бальбеке, в плоской панамке, с упорным взглядом смеющихся глаз, еще незнакомую со мной, тонкую, как силуэт, вычерчивавшийся на волне? Когда находишь сохранившиеся нетронутыми в памяти образы, то поражаешься их непохожести на нынешние, уже знакомые, и начинаешь понимать, какую искусную работу ваятеля проделывает ежедневно привычка. В той прелести, какую имела для меня Альбертина в Париже, подле камина, еще было живо желание, которое возбуждало во мне вызывающее, цветущее шествие по пляжу, – так Рахиль92, когда Сен-Лу уже оставил ее, сохраняла для него обаяние театра, – в Альбертине, заточенной у меня в доме, далеко от Бальбека, откуда я ее так быстро увез, жили волнение, социальная неразборчивость, чередующиеся увлечения – все как на морском курорте. Она так привыкла к своей клетке, что в иные вечера мне даже не приходилось звать ее в свою комнату, – это ее, за которой когда-то все шли толпой, ее, которую мне стоило таких трудов снова поймать, которая мчалась на велосипеде, которую даже лифтер не мог ко мне привезти и при этом не давал мне никакой надежды, что она придет, и которую я все-таки ждал до утра!93 Альбертина уже не была той, какой она была вблизи отеля, – большой актрисой с пылающего пляжа, возбуждавшей ревность, когда она шла по этой естественной сцене, ни с кем не говорившей, расталкивавшей знакомых, подавлявшей своих подруг, и вот эта актриса, страстно куда-то стремившаяся, – разве это не она же, взятая мной из театра, запертая у меня, живущая под защитой от желаний всех ее поклонников, всех, кто с тех пор мог тщетно ее искать: то в моей комнате, то в ее, где она немного рисовала или гравировала?94
В первые дни моей жизни в Бальбеке Альбертина как будто находилась в плане параллельном тому, где жил я, затем мы стали сближаться (когда я был у Эльстира), потом опять – во время наших встреч в Бальбеке, в Париже, потом опять в Бальбеке. Кстати, какая разница между двумя картинами – Бальбека времен первого моего и второго приезда, картинами, изображающими все те же виллы, откуда выходят все те же девушки и направляются все к тому же морю! Среди подруг Альбертины, появившихся во время моего второго приезда, с отчетливо проступающими на их лицах достоинствами и недостатками, мог ли я отыскать свежих и таинственных незнакомок, которые когда-то, выкрикивая номера своих дач и задевая на ходу трепещущий тамариск, вызывали у меня сердцебиение? С тех пор их глаза стали не такими большими, – вероятно, потому, что они вышли из детского возраста, но еще и потому, что очаровательные незнакомки, актрисы романтичного первого года, о которых я постоянно наводил справки, утратили для меня свою таинственность. Послушно исполнявшие мои капризы, они стали для меня просто девушками в цвету, и теперь я нимало не гордился бы, если б мне удалось сорвать и укрыть от всех самую красивую розу.
Между двумя декорациями, столь непохожими одна на другую, был парижский интервал в несколько лет, и на этом длинном перегоне от Бальбека до Бальбека сколько было приходов Альбертины! Я видел ее в разные годы моей жизни, видел занимавшей по отношению ко мне различные позиции, которые давали мне почувствовать красоту интерферирующих пространств; я представлял себе то долгое время, когда я не видел ее, а между тем в полупрозрачной дали этого времени передо мной вместе со всеми своими таинственными тенями и мощным рельефом вырисовывалась розовая девушка. Перемена в Альбертине объяснялась не только напластованием одного на другой ее образов, но и ее неожиданными для меня большими умственными способностями, незаурядными душевными качествами, недостатками характера, прораставшими, множившимися в пей, ее пышными формами, как бы написанными в темных тонах, – все это наслаивалось на ее натуру, в былое время почти бесцветную, а теперь с трудом поддающуюся изучению. Дело в том, что люди, о которых мы столько мечтали, что они представлялись нам единым образом, фигурой Беноццо Гоццоли95 на зеленоватом фоне, о которых мы склонны были думать, что происходящие в них малейшие изменения зависят от того, откуда мы на них смотрим, от расстояния, разделяющего нас, от освещения, – эти люди, меняющиеся для нас, меняются и внутри себя, и та фигура, что некогда едва-едва означалась на фоне моря, с течением времени накопляла душевные богатства, отвердевала и увеличивалась в объеме.
Конечно, не только море в конце дня жило для меня в Альбертине, но порой и тихое шуршание волн на берегу лунными ночами. Иной раз, когда я вставал, чтобы поискать книгу в кабинете отца, моя подружка просила позволения полежать пока у меня на кровати: ее так утомляли долгие утренняя и дневная прогулки на свежем воздухе, что даже если я выходил из комнаты на минутку, то, когда я возвращался, Альбертина уже спала, и я ее не будил. Вытянувшись на моей кровати, приняв такую естественную позу, какой нарочно не выдумаешь, она казалась длинным цветущим стеблем; и точно: обыкновенно я мог спать, только когда ее не было в комнате, но в эти мгновения я обретал способность спать возле нее, как будто, заснув, она из человека превратилась в растение. Ее сон осуществлял для меня в известной мере способность любить; когда я оставался один, я мог думать о ней, но мне ее недоставало, я ею не обладал; когда она была тут, со мной, я говорил с ней, но я был слишком далек от самого себя, чтобы мыслить. Когда она спала, я уже не мог говорить, я знал, что она уже на меня не смотрит, я уже не ощущал потребности во внешней жизни.
Закрыв глаза, погрузившись в небытие, Альбертина отбрасывала одно за другим свойства человеческого существа, которые вводили меня в заблуждение с первого же дня нашего знакомства. Теперь она жила бессознательной жизнью растений, деревьев, жизнью более разнообразной, чем моя, более необычной и, однако, в еще большей степени принадлежала мне. Ее «я» не ускользало поминутно, как во время нашей беседы, через все отверстия невысказанной мысли и взгляда. Она притягивала к себе все, что еще оставалось от нее во внешнем мире; она укрывалась, замыкалась, сосредоточивалась в своем теле. Она была под моим взглядом, в моих руках, и у меня создавалось впечатление, что я владею ею всей, – впечатление, исчезавшее, как только она просыпалась. Ее жизнь была подчинена мне, я ощущал на себе ее легкое дыхание.
Я вслушивался в это таинственное, шелестящее излучение, ласковое, как морской ветерок, волшебное, как лунный свет, – в то, что было ее сном. Пока он длился, я мог думать о ней, смотреть на нее, а когда он становился глубже, то – дотрагиваться до нее, обнимать ее. В эти мгновенья я любил ее такой же чистой, такой же идеальной, такой же таинственной любовью, какою я любил неодушевленные создания, составляющие красоту природы. Когда она спала чуть крепче, она была уже не только растением; ее сон, на берегу которого я мечтал, охваченный освежающим наслаждением, которое никогда не утомляло меня и которое я мог бы впивать в себя до бесконечности, – это был для меня целый пейзаж. Ее сон распространял вокруг меня нечто столь же успокоительное, столь же изумительно сладострастное, как бальбекская бухта в полнолунье, затихавшая, точно озеро, на берегу которого чуть колышутся ветви деревьев, на берег которого набегают волны, чей шум ты без конца мог бы слушать, разлегшись на песке.
Войдя к себе в комнату, я останавливался на пороге, боясь чем-нибудь стукнуть и не слыша иного звука, кроме дыхания Альбертины, излетавшего из ее губ через один и тот же промежуток времени, точно прилив, но только более успокаивающий и более мягкий. И в тот миг, когда я улавливал этот божественный звук, мне казалось, будто вся она, вся жизнь прелестной пленницы, лежавшей у меня перед глазами, поместилась во мне. По улице с грохотом проезжали экипажи – ее лоб оставался по-прежнему неподвижным, по-прежнему гладким, ее дыхание – по-прежнему легким, – это было просто-напросто необходимое выдыхание воздуха, не более. Затем, видя, что ее сон все так же глубок, я делал несколько шагов по комнате, садился на стул у кровати, потом на кровать.
Я провел ряд чудесных вечеров, беседуя, играя с Альбертиной, но особенно сладостны были те вечера, когда я видел ее спящей. Болтая, играя в карты, она была так естественна, что никакая актриса не взялась бы ей подражать; ее сон – это была более глубокая, высшая естественность. Ее волосы лежали на подушке, около ее розового лица, и порой выбившаяся прямая прядь производила тот же эффект перспективы, что и озаренные луной, тонкоствольные, белые деревья, стоящие совершенно прямо в глубине рафаэлевских картин Эльстира. Если губы Альбертины были плотно сжаты, – не так, как до моего ухода, – то ее веки были только чуть-чуть сомкнуты, так что можно было усомниться: правда ли она спит. И все же, благодаря опущенным векам, ее лицо являло собой нечто безукоризненно единое – такое единство не нарушили бы глаза. Есть люди, чьи лица вдруг становятся такими необыкновенно прекрасными и величественными, что отсутствие взгляда не имеет для них значения.
Я смотрел сверху вниз на Альбертину. Временами по ней пробегала легкая, необъяснимая дрожь – так листья на деревьях некоторое время трепещут под неожиданно налетевшим ветром. Она дотрагивалась до волос, затем, не сумев сделать того, что ей хотелось, протягивала к ним руку такими настойчивыми, такими сознательными движениями, что казалось, она вот-вот проснется. Ничуть не бывало; она опять спала спокойным сном. После этого она уже была неподвижна. Она бессильно опускала руку на грудь, и в этом было столько наивно-ребяческого, что, наблюдая за ней, я едва удерживался от улыбки, которую своей серьезностью, невинностью и прелестью вызывают на наши лица маленькие дети.
Я знал нескольких Альбертин в ней одной; мне казалось, что много других Альбертин лежат подле меня. Я словно впервые видел дуги ее бровей: они окружали шары ее век, образуя мягкие гнезда зимородка. На ее лице оставили свой след расы, атавизмы, пороки. Всякий раз, как ее голова меняла положение, рождалась новая женщина, часто мне незнакомая. Казалось, будто я обладаю не одной, а неисчислимым множеством девушек. Ее дыхание, все более и более глубокое, равномерно поднимало ее грудь и, на груди, скрещенные руки, бисеринки, перемещенные одним движением, – так волна колышет лодки или якорные цепи. Чувствуя, что она спит непробудным сном, что я не натолкнусь на подводные камни сознания, накрытые сейчас морем глубокого сна, я смело и бесшумно прыгал в постель, ложился рядом с Альбертиной, одной рукой брал ее за талию, целовал в щеку и в сердце; куда бы я ни положил вторую руку, она пользовалась полной свободой, и ее тоже колыхало, как и бисеринки, дыхание спящей; ее легко перемещало равномерное движение; я причаливал к сну Альбертины.
Иногда я испытывал менее чистое наслаждение; для этого мне не надо было делать никаких движений, я только опускал ногу на ее ногу – так отпускают весло, и его время от времени покачивает легкая зыбь, которая напоминает перемежающееся биение крыльев у птиц, спящих в воздухе. Я смотрел на ту сторону ее лица, которой никогда раньше не видел, а между тем она была так прекрасна! Буквы в письме, которое вам пишет кто-либо, хотя и похожи приблизительно одна на другую, все-таки рисуют облик более или менее отличный от облика известного вам человека, так что двух одинаковых обликов не получается. Но как странно, что одна женщина, точно Розита к Доодике,96 прилепилась к другой женщине, совершенно иная красота которой притягивает к себе другой характер, и, чтобы разглядеть одну, надо смотреть на нее в профиль, а на другую – анфас! Когда дыхание Альбертины становилось более шумным, то создавалось впечатление, что она задыхается от счастья, и, когда мое счастье достигало предела, я мог обнимать Альбертину, не нарушая ее сна. В эти мгновения мне казалось, что я овладел ею всецело, словно неодушевленным предметом, не встречая сопротивления, как не встретил бы его в мертвой природе. Меня не волновали слова, порой излетавшие из ее спящих уст: их смысл был для меня неясен, а кроме того, незнакомка, чье имя она называла, была у меня на руке, на щеке, которую ее рука, порой охваченная легкой дрожью, сжимала на миг. Я наслаждался ее сном с бескорыстной и умиротворяющей любовью, как будто бы я часами слушал прибой.
Быть может, мы должны много страдать из-за человека, чтобы в часы передышки он вознаграждал нас тем умиротворяющим покоем, каким дышит природа. Мне нечего было ей ответить, как во время наших бесед, я имел полную возможность молчать – совершенно так же, как я молчал, когда она говорила: слушая ее, я все же не проникал в ее сущность. Я продолжал прислушиваться к ней, вслушиваться поминутно, о чем шепчет успокаивающее, как невидимый бриз, ее чистое дыхание; передо мной была принадлежавшая мне целая жизнь – та самая жизнь, в которую я когда-то так же долго всматривался, вслушивался, лежа под луной на пляже. Иной раз я слышал разговоры о том, что море неспокойно, что даже в бухте чувствуется приближение грозы, и я шел навстречу буре, чтобы послушать гул ее уже хриплого дыхания.
Иногда, в жаркий день, она, полусонная, снимала кимоно и бросала на кресло. Пока она спала, я говорил себе, что все ее письма – во внутреннем кармане кимоно; она всегда клала туда письма. Почерка, назначавшегося свидания было бы для меня достаточно, чтобы доказать, что она лжет, или чтобы рассеять мое сомнение. Когда я чувствовал, что Альбертина спит крепким сном, я спускал ногу с кровати, где я уже давно смотрел на нее, не двигаясь, и, подстрекаемый жгучим любопытством, уверенный, что тайна ее жизни разоблачена, лишена основы, что тайне нечем прикрыться, я отваживался сделать шаг по направлению к креслу. Быть может, я делал этот шаг еще и потому, что неподвижно смотреть на спящего человека утомительно. Итак, тихохонько, все время оборачиваясь, чтобы убедиться, спит ли по-прежнему Альбертина, я доходил до кресла. Тут я останавливался и долго осматривал кимоно, так же, как я долго рассматривал Альбертину, но (и, быть может, в этом была моя ошибка) я ни разу не дотронулся до кимоно, не сунул руку в карман, не посмотрел на письма. В конце концов, уверившись, что не решусь, я на цыпочках крался обратно к кровати и опять смотрел на спавшую и ни слова мне не говорившую Альбертину, меж тем как на спинке кресла висело кимоно, которое, быть может, о многом бы мне рассказало.
И в то время как другие платили сто франков в день за комнату в бальбекском отеле, чтобы дышать морским воздухом, я находил вполне естественным расходовать на Альбертину больше, потому что ощущал ее дыхание на моей щеке, во рту, который я открывал навстречу ее рту, где, напротив моего языка, шла ее жизнь.
Но счастье видеть ее спящей, такое же сладостное, как счастье чувствовать, что она живет, сменялось другим – счастьем видеть, что она пробуждается. Оно было еще более глубоким и таинственным, чем даже счастье, что она живет у меня. Разумеется, я был счастлив тем, что она во второй половине дня, выйдя из экипажа, входила не куда-нибудь еще, а именно в мою квартиру. Я был еще более счастлив тем, что когда из глубины сна она поднималась по самым высоким его ступеням к возврату сознания и к жизни, то это происходило у меня в комнате, тем, что, спросив себя: «Где я?» – и увидев вещи, которыми она была окружена, лампу, от света которой она слегка жмурилась, увидев, что она проснулась у меня в комнате, она могла с уверенностью ответить: «У себя». В эту первую чудную нерешительную минуту у меня было такое чувство, что я заново и более полно обладаю ею, потому что, уйдя, она опять пришла ко мне в комнату, что эта комната стала опять моей, как только ее узнала Альбертина, что сейчас моя подружка заключит ее в себе, вберет ее в себя, и при этом ее глаза не выразят ни малейшего смущения, будут так же спокойны, как будто она и не засыпала. Растерянность при пробуждении сказывалась в ее молчании, но не во взгляде.
К ней возвращался дар речи; она говорила: «Мой» – или: «Мой милый», затем произносила одно или другое имя, данное мне при крещении, а так как у повествователя то же имя, что и у автора этой книги, то получалось: «Мой Марсель», «Мой милый Марсель!». С тех пор я не позволял никому из моих родственниц называть меня «милый»: дивные слова, которые мне говорила Альбертина, утрачивали от этого свою неповторимость. Говоря мне их, она строила гримаску, которую она же сама сменяла поцелуем. Пробуждалась она так же быстро, как засыпала.
Не столько мое перемещение во времени, не столько возможность смотреть на девушку, сидящую под лампой, освещающей иначе, чем солнце, когда оно, стоя, движется по морю, не столько непридуманное обогащение моей жизни, не столько прогресс в Альбертине, которым она была обязана себе самой, послужили важной причиной различия между тем, как я смотрел на нее теперь, и тем, как я смотрел на все вначале в Бальбеке. Два образа может разделять большее число лет и все-таки не произвести такой полной перемены; перемена произошла, существенная и внезапная, когда я узнал, что мою подружку почти воспитала приятельница мадмуазель Вентейль. Если прежде я загорался, когда мне казалось, что в глазах Альбертины я вижу тайну, то теперь я был счастлив только в те минуты, когда с ее глаз, с ее щек, столь же прозрачных, как и ее глаза, порою нежных, порою – мгновенно – нахмуривавшихся, мне удавалось согнать какую бы то ни было тайну. Образ, который я искал, который веял на меня покоем, за который я готов был умереть, это был не образ Альбертины, ведущей неведомую мне жизнь, – это была Альбертина, ясная для меня, насколько это возможно (потому-то моя любовь не могла быть продолжительной, а если бы она продолжалась, то это была бы несчастная любовь, так как, по существу своему, она не испытывала бы потребности в тайне); это была Альбертина, не являвшаяся отражением дальнего мира и желавшая одного – минутами мне казалось, что это именно так, – быть со мной, быть во всем похожей на меня, быть Альбертиной, образ которой только мой, а не чей-либо еще.
Если вот так, из тоски по ком-либо, из неуверенности, сможешь ли ты его удержать или он ускользнет, возникает любовь, то на любви этой лежит печать породившей ее революции, и она лишь очень смутно напоминает то, что представлялось нам до сих пор, когда мы думали о любимом существе. И лишь малая часть моих первых впечатлений от Альбертины, сложившихся на берегу моря, продолжала жить в моем чувстве к ней; на самом деле давние впечатления занимают небольшое место в такого рода любви с ее силой, с ее страданиями, с ее потребностью в ласке и с ее тягой к воспоминанию спокойному, успокаивающему, с желанием укрыться в нем и больше ничего не знать о любимой, хотя бы о ней ходили темные слухи; даже если вы сохранили давние воспоминания, такая любовь создана из совсем другого материала!
Иной раз я тушил свет до ее прихода. Она ложилась рядом со мной в темноте, при слабом свете головешки, указывавшем ей дорогу. Мои глаза, часто боявшиеся найти в ней перемену, не видели ее – ее узнавали только мои руки, мои щеки. Благодаря такой слепой любви, она, быть может, чувствовала, что я проникнут к ней нежным чувством, более глубоким, чем обыкновенно.
Я раздевался, ложился, Альбертина садилась в уголочек кровати, и мы продолжали отложенную партию в карты или разговор, прерванный поцелуем; и, охваченные желанием, – а ведь только желание пробуждает в нас интерес к жизни и к характеру женщины, – мы остаемся такими верными нашей натуре, мы так скоро забываем одну за другой тех, кого мы любили прежде, что как-то раз, увидев себя в зеркале в тот момент, как я обнимал Альбертину и называл ее «моя девочка», увидев скорбное и страстное выражение моего лица, похожее на то, какое у меня бывало, когда я смотрел на Жильберту, о которой я теперь и не вспоминал, – быть может, на другой день после того, как я давал себе клятву навсегда забыть Альбертину, – я невольно подумал, что, несмотря на все сложившиеся у нас мнения о человеке (инстинкт требует, чтобы мы считали последнее наше мнение самым верным), я не мог не исполнить долг пламенного и мучительного обожания, не принести как бы жертвы женской молодости и красоте. И все-таки к желанию, приносившему в честь молодости некий обет, а также к бальбекским воспоминаниям у меня примешивалось выражавшееся в потребности все вечера не отпускать от себя Альбертину нечто до сих пор чуждое мне, во всяком случае – чуждое моим сердечным делам, а может быть, даже и совсем для меня новое. То было успокоение, какого я не испытывал со времен далеких вечеров в Комбре, когда мать, склонившись над моей кроватью, успокаивала меня поцелуем. Конечно, я был бы тогда очень удивлен, если б мне сказали, что во мне есть дурные черты, главное – что я все время стараюсь кого-нибудь лишить удовольствия. Без сомнения, я потом поступал дурно; вместо удовольствия, заключавшегося в том, что Альбертина живет в моей квартире, я должен был бы доставить себе менее эгоистичное удовольствие – уйти из того мира, где каждого могла бы увлечь девушка в цвету; если уж она не внесла в мою жизнь большой радости, то пусть бы она не лишала ее других. Честолюбие, слава меня не волновали. Еще менее я был способен кого-нибудь возненавидеть. А вот плотская любовь, радость победы над множеством соперников – это было во мне сильно. Об этом я никогда не устану говорить, это было самым большим моим успокоением.








