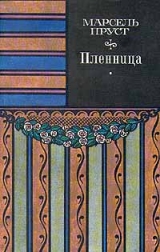
Текст книги "Пленница"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Пока Альбертина мне это говорила, во мне продолжались в очень оживленном, творческом сне подсознательного (во сне, где окончательно запечатлеваются вещи, которые наяву только едва-едва прикоснулись к нам, где спящие руки берутся за ключ, который мы до сих пор тщетно искали, и ключ отмыкает замок) поиски того, что содержала в себе прерванная фраза, конец которой я пытался узнать. И вдруг я наткнулся на противное слово, о котором до этого я и не думал: «ж…». Я нашел его не сразу, как это бывает после долгой прикованности к незавершенному воспоминанию, когда, стараясь потихоньку, полегоньку продлить его, приноравливаешься, приклеиваешься к нему. Нет, в противоположность моему обычному способу вспоминать, у меня, как я себе представляю, тут было два параллельных пути поисков: один исходил не только от фразы Альбертины, но и от ее ненавидящего взгляда, когда я предложил дать ей денег на устройство роскошного обеда, – взгляда, и котором читалось: «Благодарю вас! Тратить деньги на развлечения, от которых меня тошнит, в то время как я бесплатно могу доставить себе такие, которые меня повеселят!» Быть может, именно воспоминание о взгляде вынудило меня изменить способ нахождения конца фразы. До сих пор меня гипнотизировало последнее слово «через». Что через? Через палача? Нет. Через повешение? Нет. Через, через, через… И вдруг возвращение к ее взгляду и вздернутым плечам в тот момент, когда я предлагал устроить обед, заставило меня отступить и к ее словам. И тут я вспомнил, что она сказала не просто «через», а «меня через». Какой ужас! Она это предпочитала. Двойной позор! Последняя из потаскушек, согласная на это или этого желающая, не употребляет при мужчине такое отвратительное выражение. Она почувствовала бы, что это ее унижает. Только в разговоре с женщиной, если она ее любит, она произносит это слово, чтобы извиниться за то, что она только что отдалась мужчине. Альбертина не лгала, уверяя меня, что ее клонило ко сну. По рассеянности уйдя в себя, забыв о моем присутствии, вскинув плечами, она начала говорить так, как говорила с женщинами, быть может, с одной из девушек в цвету. Внезапно опомнившись, багровая от стыда, силясь удержать слова, срывавшиеся у нее с языка, в полном отчаянии, она наконец умолкла. Раз я не хотел, чтобы она заметила мое отчаяние, то мне нельзя было терять ни секунды. Но вслед за порывом ярости к глазам моим прихлынули слезы. Как в Бальбеке, ночью, после того как я узнал о ее дружбе с Вентейль, мне сейчас надо было немедленно придумать правдоподобную причину моего горя, способную вместе с тем произвести сильное впечатление на Альбертину, и тогда я смог бы воспользоваться передышкой на несколько дней для принятия решения. Когда Альбертина мне говорила, что никогда не чувствовала себя такой оскорбленной, чем в тот момент, когда ей сообщили о моем отъезде, что ей лучше было бы умереть, чем услышать это известие от Франсуазы, и когда я, подавленный ее смехотворной подозрительностью, собирался успокоить ее, что все это пустяки, что для нее нет ничего обидного в том, что я уехал, в то же самое время, параллельно, мои подсознательные поиски того, что она хотела сказать после слова «через», закончились, и отчаяние, в которое меня повергло мое открытие, все-таки вырывалось наружу, но вместо того, чтобы защищаться, я взял вину на себя. «Милая Альбертина! – заговорил я с ней ласково, сквозь слезы. – Я мог бы сказать вам, что вы не правы, что мой поступок никакого значения не имеет, но я бы солгал; правда на вашей стороне, вы проникли в истинное положение вещей, мой милый птенчик: полгода назад, три месяца назад, когда я был так к вам привязан, я ни за что бы так не поступил. Это пустяк, и вместе с тем это очень много значит, если поставить это в связь с полным переворотом в моей душе, а это – показатель такого переворота. И раз вы догадались о происшедшем перевороте, который я надеялся от вас скрыть, то я могу вам сказать следующее: „Милая Альбертина! – произнес я с глубокой нежностью и грустью. – Образ жизни, который вы ведете здесь, вам скучен, нам лучше расстаться, а так как лучшая разлука – самая скорая, то я вас прошу – чтобы прервать мою острую боль – попрощаться со мной нынче же вечером и уехать завтра утром, когда я буду еще спать, так, чтобы больше мы с вами никогда не увиделись“. Казалось, сначала она была ошеломлена, потом отнеслась к моим словам с недоверием и, наконец, пришла в отчаяние: „То есть как завтра? Это ваше окончательное решение?“ И тут – хотя мне было мучительно тяжело говорить о нашей разлуке как о чем-то уже совершившемся, быть может, отчасти именно из-за того, что я так страдал, – я принялся давать Альбертине, в самых точных выражениях, советы насчет дел, которыми ей надлежало заняться после отъезда из моего дома. Идя от наставления к наставлению, я в конце концов скоро дошел до мельчайших подробностей. „Будьте добры, – говорил я с невыразимой скорбью в голосе, – пришлите мне книгу Бергота – она у вашей тетушки. Это не срочно: дня через три, через неделю, когда угодно, только не забудьте, – напоминать мне было бы слишком тяжело. Мы с вами были счастливы, теперь мы чувствуем, что в дальнейшем были бы несчастливы…“ – „Не говорите: „Мы чувствуем, что в дальнейшем были бы несчастливы“, – перебила меня Альбертина, – не говорите: „мы“, это только вы так считаете!“ – „Вы ли, я ли, как хотите, – не все ли равно?.. Но сейчас безумно поздно, идите ложитесь… мы же решили расстаться нынче вечером“. – „Простите, это вы так решили, а я вам подчиняюсь, чтобы не делать вам больно“. – „Да, так решил я, но от этого мне не становится легче. Я не говорю, что буду долго страдать; вы знаете, что я не способен долго вспоминать, но первые дни я буду так тосковать без вас! Вот почему я считаю, что не нужно бередить рану перепиской, надо все покончить разом“. – „Да, вы правы, – сказала она с сокрушенным видом, который усиливали морщинки, проведенные по ее лицу усталостью и поздним часом, – я предпочитаю, чтобы мне не отрубали по одному пальцу, а сразу отрубили голову“. – „Ах, боже мой, я в ужасе оттого, что из-за меня вам так поздно приходится ложиться спать! А ну, ради последнего вечера! Можете потом проспать весь остаток жизни“. Сказав, что пора нам прощаться, я старался отдалить момент, когда она со мной согласится. „Хотите – чтобы вам было с кем первое время развлечься – я скажу Блоку: пусть он пришлет свою родственницу Эстер туда, где вы будете жить? Для меня он это сделает“. – „Не понимаю, для чего вы это говорите (я об этом заговорил, чтобы попытаться вырвать у Альбертины признание), мне нужен только один человек: вы“, – сказала Альбертина, вызвав во мне прилив нежности. Но вслед за тем она сделала мне так больно! „Я прекрасно помню, что дала этой самой Эстер свою карточку, – она очень просила, и потом, я видела, что это действительно доставит ей удовольствие, но чтобы я с ней дружила или хотела с ней повидаться – да ни за что на свете!“ Но Альбертина была до того легкомысленна, что не могла не добавить: „Если она захочет со мной повидаться, то я ничего не имею против, она очень мила, но она не интересует меня ни с какой стороны“. Когда я сказал Альбертине, что Блок прислал мне карточку Альбертины (а тогда я еще не успел ее получить), моя подружка решила, что Блок показал мне ее карточку, которую она подарила Эстер. Даже строя самые худшие предположения, я не мог себе представить, чтобы между Альбертиной и Эстер существовали интимные отношения. Когда я заговорил о фотографии, Альбертина не нашлась, что ответить. А сейчас, ошибочно решив, что мне известно все, она пришла к выводу, что самое благоразумное – сознаться. Я был удручен. „И еще, Альбертина, я прошу вас как о великой милости: никогда больше не ищите со мной встреч. Если через год – через два мы с вами случайно окажемся в одном городе – избегайте меня“. Она не ответила утвердительно на мою просьбу. „Альбертина, милая, не предпринимайте никаких шагов, не пытайтесь увидеться со мной в этой жизни. Это было бы мне слишком тяжело. Ведь для вас же не тайна, как вы мне дороги. Я знаю: когда я вам на днях говорил о своем желании увидеться с подружкой, о которой мы с вами толковали в Бальбеке, вы подумали, что свидание состоялось. Да нет же! Уверяю вас: она мне глубоко безразлична. Вы убеждены, что я давно задумал с вами расстаться, что моя любовь была комедией“. – „Да вы с ума сошли! Ничего я не подумала“, – сказала она с грустью. „Вы правы: и не надо было ничего думать; я действительно любил вас – может быть, не как мужчина, но я к вам был до того привязан, что вы даже не в силах поверить в такую привязанность“. – „Да нет же, верю! А вы вообразили, что я вас не люблю!“ – „Мне очень тяжело с вами расставаться“. – „А мне в тысячу раз тяжелей“, – подхватила Альбертина. Я чувствовал, что больше не могу сдерживать слезы. Но то были слезы, вызванные не такими страданиями, какие я испытывал, когда внушал Жильберте: „Нам лучше не видеться – сама жизнь против нас“.405 Когда я писал об этом Жильберте, я говорил себе, что если я полюблю другую, то сила моего чувства, быть может, уже не вызовет столь же сильного ответного чувства, как будто у двух человек непременно должен быть запас чувства, и если один перетратил его с одной, то другой он не достанется, и я, как с Жильбертой, буду обречен с ней на разлуку. Но положение резко изменилось по многим причинам, из которых первая, в свою очередь породившая другие, состояла в том, что моя бесхарактерность, которая внушала опасения в Комбре бабушке и маме и с которой ни та, ни другая не могли справиться, – столько энергии появляется у больного, чтобы заставить бережно относиться к его слабости, – эта моя бесхарактерность развивалась во мне все быстрей и быстрей. Почувствовав, что становлюсь в тягость Жильберте, я еще нашел в себе достаточно сил, чтобы отказаться от нее, а когда я стал замечать, что то же самое происходит с Альбертиной, то у меня на уме было одно: как бы удержать ее силой. Когда я писал Жильберте, что мы больше не увидимся, я в самом деле намеревался порвать с ней, с Альбертиной же я искал примирения, и все, что я ей говорил, была сплошная ложь. Словом, мы оба старались казаться совсем не такими, какими были в действительности. Так всегда бывает с людьми, стоящими лицом к лицу, ибо каждый из них не знает всего, что творится в другом, а если и знает, то не может всего осмыслить, и оба выявляют самое для них не характерное – то ли из-за того, что не умеют в себе разобраться и считают это неважным, то ли из-за того, что незначительные преимущества, которые от них не зависят, представляются им существенными, рисующими их в наиболее выгодном свете, а с другой стороны, они делают вид, что не дорожат тем, что им дорого – дорого потому, что они боятся, как бы их не стали презирать за отсутствие у них этих качеств, а это такие качества, к которым они якобы относятся с особым пренебрежением, более того: с отвращением. В любви это противоречие возведено на высшую ступень – быть может, исключая детский возраст, – ибо тут человек заботится больше о личине, которую он надевает, чем об уяснении намерений другого лица, может быть потому, что считает эти намерения прямо ведущими к исполнению наших желаний, мои же намерения, с тех пор как я вернулся домой, заключались в том, чтобы добиться от Альбертины прежнего послушания, чтобы она в пылу раздражения не требовала от меня большей свободы, чтобы отпускать ее из дому на один день, но только не теперь, когда она обнаруживала поползновения к независимости, а это вызывало у меня бешеную ревность. В известном возрасте люди, побуждаемые самолюбием и дальновидностью, желают именно того, к чему как будто бы их не тянет. А в любви обыкновенная проницательность, которая, по всей вероятности, не имеет ничего общего с истинной мудростью, особенно упорно толкает нас во власть духа двойственности. Самым сладостным, что было для меня, мальчика, в любви и что мне представлялось ее сущностью, – это выразить, не стесняясь, любимой девушке свои чувства, мою благодарность за ее доброту, мое желание всегда жить с ней вместе. Но я отдавал себе ясный отчет – благодаря моему собственному опыту и опыту моих друзей, – что изъявление подобных чувств отнюдь не заразительно. Старая жеманница барон де Шарлю, рисовавшая в своем воображении красивого молодого человека, верила в то, что она сама стала красивым молодым человеком, и все чаще и чаще обнаруживала свою женонодобность в смешных проявлениях мужественности, но этот случай подходит под закон, применяющийся далеко не только к баронам де Шарлю, под такой широкий закон, который даже любовь не исчерпывает целиком; мы не видим нашего тела, а другие его видят, мы «следуем» за предметом наших мыслей, за предметом, находящимся перед нами, незримым для других (иной раз становящимся видимым благодаря художнику, поклонники которого нередко бывают, однако, разочарованы, когда у них появляется возможность ознакомиться с творчествсм в целом этого художника, в лице которого внутренняя красота выражена столь несовершенно). Как только мы что-то замечаем – «стоп, машина». Днем я воздержался от изъявления Альбертине моей глубокой благодарности за то, что она не осталась в Трокадеро. А вечером, боясь, что она от меня уйдет, я притворился, что настаиваю на ее уходе, причем это притворство было подсказано не только – мы сейчас это увидим – уроками, которые, как мне казалось, я извлек из моих прежних увлечений и которыми я попытался воспользоваться и в данном случае.
Мысль, что Альбертина может мне заявить: «Я хочу несколько часов быть одной, я хочу быть в отсутствии двадцать четыре часа», наконец, может обратиться ко мне еще с какой-нибудь просьбой о свободе, которую мне трудно было бы предугадать, но которая меня пугала, – эта мысль промелькнула у меня в голове на вечере у Вердюренов. Но она тут же исчезла: ей противоречило все, что Альбертина постоянно твердила мне о том, как хорошо живется ей у меня. Если у Альбертины и было намерение меня покинуть, то проявлялось оно не прямо: оно угадывалось в печальных взглядах, в признаках нетерпения, в словах, которые его никак не выражали, но, если вдуматься (да и думать-то было нечего – язык страсти понимаешь мгновенно, даже простонародье понимает слова, порожденные тщеславием, злопамятностью, ревностью, туманные, однако пробуждающие у собеседника некую интуитивную способность, которая подобна «здравому смыслу», «самому распространенному, – по словам Декарта406, – свойству на свете»), объяснялись только жившим в ней чувством, которое она скрывала и которое могло довести ее до составления планов жизни без меня. В выражении этого намерения не было никакой логики; равным образом, предчувствие этого намерения, появившееся у меня в тот вечер, оставалось столь же неясным. Я продолжал жить, строя гипотезу, согласно которой я должен был все, что мне говорила Альбертина, принимать на веру. Но возможно, что все это время меня не оставляла другая гипотеза, на которой мне не хотелось задерживаться; это тем более вероятно, что, если бы не вторая гипотеза, я бы не постеснялся объявить Альбертине о моем отъезде к Вердюренам, а некоторое удивление, которое вызвал во мне ее гнев, было бы непонятно. По всей вероятности, во мне жило представление совсем о другой Альбертине – не о той, которую я создал в своем воображении, не о той, чей образ искажали ее слова, но и не абсолютно выдуманной, потому что она представляла собой зеркало некоторых прежних ее душевных движений, как, например, ее неудовольствие из-за того, что я поехал к Вердюренам. Частые тревоги, охватывавшие меня уже давно, боязнь сказать Альбертине, что я ее люблю, – все это соответствовало моей второй гипотезе, объяснявшей также многое другое и отличавшейся еще тем свойством, что если я принимал первую, то вторая становилась от этого еще правдоподобнее, так как, объясняясь Альбертине в любви, я этим только ее раздражал (впрочем, она приводила другую причину своего раздражения).
Должен сознаться, что мне показались особенно важными и поразили меня, как симптом обвинения, которое будет ей мною предъявлено, ее слова: «Наверно, у них на вечере будет мадмуазель Вентейль», на что я ответил с наивозможной жестокостью: «Вы мне не говорили, что встретили госпожу Вердюрен». Если Альбертина была со мной суха, то, вместо того чтобы признаться, что мне грустно, я становился злым.
Проанализировав все это, приняв во внимание неизменную систему возражений, в корне противоречивших тому, что я навоображал, я мог быть уверен, что если вечером я ей скажу, что расстаюсь с ней, то это будет означать – еще не успев дойти до моего сознания – вот что: я боюсь, что она захочет свободы (правда, я не сумел бы точно определить, что это за свобода, от которой меня бросало в дрожь; во всяком случае, это была такая свобода, которая предоставляла ей возможность обманывать меня, или, по крайней мере, такая, при которой я не мог быть спокоен, что Альбертина меня не обманет), а мне захочется из самолюбия, из хитрости показать ей, что я этого нисколько не боюсь, как уже случилось в Бальбеке, когда я загорелся желанием, чтобы она была более высокого мнения обо мне, и впоследствии, когда я стремился к тому, чтобы у нее не оставалось времени скучать наедине со мной.
На возражениях против второй гипотезы, несформулированной, заключавшейся в том, что Альбертина всегда говорит не то, что думает, – якобы нигде ей не было бы так хорошо, как у меня: отдых, чтение, уединение, ненависть к сафической любви, на этих возражениях останавливаться не стоит. Альбертина, принимавшая мои слова за чистую монету, получала ложное представление о моих переживаниях: ведь я же никогда не выражал желания расстатъся с ней, я не мог без нее жить, а вместе с тем в Бальбеке дважды признавался ей в любви к другой девушке: первый раз – к Андре, второй – к некоей таинственной особе, оба раза – из ревности к Альбертине. Мои слова никак не отражали моих чувств. Если у читателя не остается сильного впечатления, это значит, что я, повествователь, рассказываю о моих чувствах моими словами. Если же я скрываю чувства и если читателю хорошо известны только мои поступки, как бы они ни расходились со словами, у него часто создается впечатление от этой фантастической крутоверти, что у меня голова не в порядке. А между тем другой способ был бы ненамного правильнее того, которого я решил придерживаться, так как наглядные представления, заставлявшие меня так или иначе действовать, совершенно не похожие на те, что сталкивались в моих словах, были еще очень неясны; я плохо знал свой душевный склад, определявший мои поступки. Сегодня я хорошо знал субъективную истину. Что же касается истины объективной, то точнее ли, чем разум, интуиция, которой обладает душевный склад, улавливает истинные намерения Альбертины, есть ли у меня основания доверяться душевному складу или же, наоборот, он запутывает намерения Альбертины вместо того, чтобы расцепить их, то об этом мне судить трудно.
Безотчетный страх, что Альбертина от меня уйдет, охвативший меня у Вердюренов, сначала рассеялся. Домой я вернулся с таким чувством, что я сам пленник, а вовсе не с таким, что сейчас я свижусь с моей пленницей. Но рассеявшийся было страх с еще большей силой вновь овладел мною, когда, объявив Альбертине, что я был у Вердюренов, я увидел, как на ее лицо наслаивается загадочное раздражение, которое, впрочем, проступило у нее не в первый раз. Я хорошо знал, что это лишь кристаллизация в плоти обоснованных претензий, мыслей, понятных тому, кто их развивает и кто об них умалчивает, синтез видимый, но пока еще иррациональный и что тот, кто подбирает драгоценный осадок на лице любимой, пытается, в свою очередь, чтобы постичь, что в ней происходит, аналитическим путем разложить его на разумные элементы. Уравнение этой неизвестной, каковою являлась для меня мысль Альбертины, было мне приблизительно дано: «Я знаю его подозрения, я уверена, что он попытается проверить их, и, чтобы я ему не мешала, он проделал всю свою кропотливую работу тайком». Но если Альбертина жила с такими мыслями, которыми она никогда со мной не делилась, то не приводило ли ее в ужас, что силы у нее иссякают, не могла ли она не сегодня завтра решиться прекратить такую жизнь? Если она грешила по доброй воле, если она чувствовала, что ее разгадали, если она попалась, если ей всегда будут мешать отдаваться ее пристрастиям и моя ревность не сдастся или если она не согрешила ни словом, ни делом, то разве нет у нее оснований быть измученной, раз она, начиная с Бальбека, когда она была так стойка, что не осталась с Андре, и вплоть до сегодняшнего дня, когда она отказалась ехать к Вердюренам и не осталась в Трокадеро, так и не заслужила моего доверия? Тем более, что мне буквально не в чем было ее упрекнуть. Если в Бальбеке разговор заходил о девицах дурного пошиба и она часто слышала смешки, видела выставление грудей – в подражание этим девицам, а подражание это меня мучило, так как я предполагал, что изображают ее подружек, то, узнав, какого я о них мнения, – стоило кому-нибудь напомнить об их ужимках, – она переставала участвовать в общем разговоре не только при посредстве слов, но и при посредстве выражения лица. То ли чтобы не разжигать против таких девиц злобу, по другой ли какой-нибудь причине, по только единственно, что тогда удивляло в обычно столь подвижных чертах ее лица, это что – с той минуты, когда кто-нибудь затрагивал эту тему, – она с нарочитой рассеянностью сохраняла точно такое же выражение, какое было у нее за минуту до этого. И эта неподвижность выражения, даже не мрачного, давила, как молчание. По ее виду нельзя было сказать, что она осуждает или одобряет подобного рода явления, что она знает их или не знает. Каждая из ее черт была связана только с какой-нибудь другой. Нос, рот, глаза образовывали безукоризненную гармонию, отделившуюся от всего остального; это был пастельный портрет, не слышавший, о чем говорят вокруг, как не слышит портрет Латура407, о чем говорит публика.
Рабство, еще тяготевшее надо мной, когда я, давая шоферу адрес Бришо, видел в окне свет, перестало давить на меня потом, когда я увидел, что Альбертина так тяжело переносит свое рабство. И, чтобы оно не было для нее таким невыносимым, чтобы у нее не создалось представления, будто это она разрывает его цепи, я решил, что тактичнее всего – внушить ей, что рабство это не вечное и что я сам мечтаю положить ему конец. Если эта хитрость удастся, то я буду счастлив: во-первых, то, чего я так боялся, – желание Альбертины уйти – отпадет, во-вторых, даже если не принимать во внимании ожидаемого результата, сам по себе успех моего притворства, доказывающий, что я для Альбертины – не совсем отвергнутый возлюбленный, осмеянный ревнивец, все хитрости которого известны наперед, придал бы нашей любви что-то от молодой доверчивости, воскресил бы для нее времена Бальбека, когда она еще так слепо верила, что я люблю другую. Теперь она бы этому, конечно, уже не поверила, но разыгранное мною желание в тот же вечер расстаться навсегда показалось ей вполне правдоподобным.
Ей не верилось, что толчок был дан у Вердюренов. Я сказал, что встретился у них с драматургом Блоком, близким другом Леа, которая сообщила ему странные вещи (я хотел дать ей понять, что о родственницах Блока мне известно больше, чем то, что я про них говорю). Но, стремясь утишить волнение, которое в ней вызвала моя игра в разрыв, я спросил: «Альбертина! Вы могли бы поклясться, что никогда мне не лгали?» Посмотрев напряженным взглядом в пространство, она ответила: «Да, то есть нет. Я сказала вам, что Андре очень увлечена Блоком, но это не соответствовало истине». – «А тогда зачем же вы это говорили?» – «Я боялась, как бы вы не подумали о ней чего-нибудь другого; вот и все». Она опять посмотрела прямо перед собой, а потом сказала: «Мне не надо было скрывать от вас, что я три недели путешествовала с Леа. Но ведь я вас тогда так мало знала!» – «Это было до Бальбека?» – «До второго». А еще утром она мне говорила, что не знакома с Леа! Я смотрел на то, как пламя в один миг уничтожило роман, на писание которого я потратил миллионы минут. Зачем? Зачем? Я отлично понимал, что Альбертина сделала мне два признания, так как полагала, что это до меня все равно дошло от Леа и что нельзя поручиться за то, что впредь не будет ста подобных случаев. Я понимал также, что в ответах Альбертины никогда не было ни одной крупицы правды, что правда просачивалась вопреки ей, что в ней вдруг закипала смесь фактов, которые она до того времени старалась утаить, с убеждением, что эти факты известны. «Два случая – это пустяки, – сказал я, – давайте дойдем до четырех, чтобы у меня хоть что-то осталось в памяти. Что еще могли бы вы мне сообщить?» Она опять посмотрела в пространство. Как у нее уживалась вера в будущую жизнь с ложью, с какими менее покладистыми, чем она думала, богами пыталась она сговориться? Создалось неловкое положение: ее молчание и пристальность ее взгляда длились довольно долго. «Нет, больше ничего», – наконец сказала она. Несмотря на мою настойчивость, она уперлась, теперь уже с легкостью, на «больше ничего». Какая то была ложь! С той поры, когда у нее появилось это пристрастие, вплоть до дня, когда она поселилась у меня, сколько раз, во скольких домах, на скольких прогулках она, наверное, предавалась своему пристрастию! Гоморритянки довольно редки и вместе с тем довольно многочисленны, так что в любой толпе все они углядят друг дружку. Вот почему так легко происходит у них сближение.
Я с ужасом вспоминаю один вечер, который тогда показался мне всего-навсего смешным. Один мой приятель пригласил меня пообедать в ресторан вместе с его любовницей и еще с одним его приятелем, который тоже должен был привести туда свою любовницу. Женщины быстро поняли друг друга, но они были до того нетерпеливы, что уже после супа ноги одной начали искать под столом ноги другой и часто натыкались на мои. Вскоре их ноги переплелись. Но два моих приятеля ничего не замечали; для меня это была пытка. Одна из двух женщин, которой стало невмочь, юркнула под стол, сказав, что она что-то уронила. Потом у одной началась мигрень, и она сказала, что ей нужно выйти. Другая заявила, что она уговорилась с подругой пойти сегодня в театр и теперь ей пора. В конце концов я остался в обществе двух моих приятелей, которые решительно ничего не заподозрили. Та, у кого разболелась голова, появилась снова, но попросила разрешения вернуться к себе без провожатого и сказала, что примет антипирин и будет ждать возлюбленного. Потом эти две женщины очень подружились, вместе гуляли. Одна из них одевалась по-мужски, воспитывала девочек, приводила их к другой и посвящала в свои тайны. У другой был мальчик; она делала вид, что недовольна им, и просила подругу оказать на него влияние, а та ему спуску не давала. Можно сказать, что не было такого многолюдного места, где бы они не делали того, что обычно не принято делать на виду.
«Но Леа, пока мы с ней путешествовали, держалась со мной безукоризненно, – сказала Альбертина. – Она даже была сдержанней многих дам из общества». – «А разве есть такие дамы из общества, которые были с вами разнузданны?» – «Нет». – «Так что же вы хотите этим сказать?» – «Она не допускала слишком вольных выражений». – «Например?» – «Она не употребляла, как многие дамы, принятые в свете, таких выражений, как „опостылеть“, „наплевать“. Мне показалось, что еще не сгоревшая часть романа наконец сгорела дотла. Мое угнетенное состояние могло бы еще длиться. Когда я задумывался над словами Альбертины, во мне поднималась бешеная злоба. Альбертина не устояла перед моей размягченностью. Я же, вернувшись домой и объявив о разрыве, солгал. Поминутно возвращаясь мыслью, похожей на дергающую боль, как говорят о страданиях физических, к безнравственному образу жизни, какой вела Альбертина до встречи со мной, я еще больше изумлялся послушности моей пленницы и переставал возмущаться ею.
Но только это мое притворство влекло за собой и некоторое чувство горечи, какое было бы в истинном моем намерении и какое мне приходилось изображать для большей убедительности. В течение всей нашей совместной жизни я внушал Альбертине, что это жизнь временная, и Альбертина находила в этом известную прелесть. Но в тот вечер я зашел слишком далеко: я боялся, что неясные угрозы расставания уже недостаточны, что они противоречат создавшемуся у Альбертины представлению о моем сильном, ревнивом чувстве к ней, которое, как ей, быть может, казалось, погнало меня к Вердюренам на разведку. В тот вечер я рассуждал так: среди других причин, которые могли привести меня к решению внезапному, меж тем как продлевать комедию разрыва у меня не было ни малейшего желания, наиважнейшей была та, что, повинуясь импульсу, как это случалось с моим отцом, но только, в отличие от него, не имея духу привести угрозу в исполнение, я грозил существу, находившемуся в безопасности, но, чтобы оно не вообразило, будто я бросаю слова на ветер, я зашел слишком далеко, изображая истинность своих намерений, и отступил, только когда противник, поверив моей искренности, испугался не на шутку.
Мы отлично знаем, что в такой лжи всегда есть правда; что, если жизнь не вносит изменений в нашу любовь, это значит, что мы сами хотим их внести или, притворяясь, заговорить о расставании – так остро мы чувствуем, что всякая любовь и вообще все на свете быстро движется к прощанию. Нам заранее хочется плакать. Конечно, на сей раз та сцена, какую я разыграл, была выгодна для меня. Мне вдруг захотелось сохранить Альбертину, так как я чувствовал, что она оторвана от других существ, общению с которыми я не мог бы ей воспрепятствовать. Откажись она навсегда от всех ради меня, я бы, пожалуй, еще тверже решил не расставаться с ней никогда, ибо разлука мучительна из-за ревности, а из-за чувства благодарности – невозможна. Как бы то ни было, я предощущал, что начинаю великую битву, в которой или окажусь победителем, или паду. Я готов был отдать Альбертине все, чем я владею, ибо я говорил себе: «От этой битвы зависит все». Но в этих битвах мало сходства с прежними, длившимися несколько часов, меж тем как у современного боя нет ни конца, ни завтрашнего, ни послезавтрашнего дня, ни следующей недели. Человек отдает все свои силы, так как ему кажется, что от него требуются именно последние его силы. «Перевеса» может не быть больше года.








