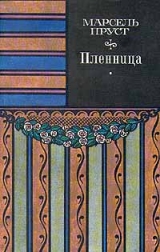
Текст книги "Пленница"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
Да и потом, откуда нам может быть известно, знает ли она Леа и не была ли у нее в ложе? И даже если Леа ее не знает, то кто мог бы мне поклясться, что, обратив внимание на Альбертину в Бальбеке, она потом не узнала ее и не сделала ей со сцены знака, по которому Альбертина не могла бы проникнуть к ней за кулисы? Опасность представляется легко устранимой после того, как ее предотвратили. Эта опасность была еще не предотвращена, я боялся, что ее нельзя предотвратить, и от этого она представлялась мне особенно грозной. Когда я пытался оживить в себе чувство к Альбертине, мне казалось, что моя любовь к ней почти угасла, но сегодняшний приступ душевной боли отчасти доказывал обратное. Я ни о чем больше не думал, у меня была одна забота: помешать им встретиться в Трокадеро; я готов был предложить Леа невероятную сумму за то, чтобы она туда не ездила. Если наиболее сильным доказательством предпочтения является поступок, а не замысел, значит, я любил Альбертину. Но эта вспышка душевной боли не прибавляла устойчивости образу Альбертины. Она говорила о моих печалях, как незримая богиня. Строя всевозможные предположения, я старался украшать мою душевную боль, ничего не отнимая у любви.
Прежде всего, надо было быть уверенным, что Леа действительно поехала в Трокадеро. Отпустив молочницу, которой я дал два франка, я позвонил Блоку. Он ничего не знал о Леа и был удивлен моим вопросом. Мне надо было торопиться: Франсуаза совсем готова, а я – нет; я начал одеваться, а ей велел заказать автомобиль; она должна была ехать в Трокадеро, взять билет, отыскать Альбертину в зрительном зале и передать ей от меня записку. Я писал ей, что меня взволновало письмо, только что полученное от дамы, из-за которой я, как это было хорошо известно Альбертине, промучился целую ночь в Бальбеке. Я ей напомнил, что на другой день она мне дала слово, что и не думала звать ее. Кроме того, я просил ее пожертвовать ради меня концертом и вместе со мной подышать воздухом, чтобы я успокоился. Я просил ее еще вот о каком одолжении: воспользовавшись присутствием Франсуазы, пока я буду одеваться и приведу себя в полный порядок, заехать в магазин «Труа-Картье» (этот магазин я считая менее опасным, чем «Бон-Марше») и купить белую тюлевую шемизетку, которую ей хотелось приобрести.
Моя записка могла быть небесполезной. По правде сказать, я не имел понятия, чем занималась Альбертина ни после нашего знакомства, ни до. В разговоре (у Альбертины была привычка, если мы с ней о чем-нибудь толковали, утверждать, что я ее не так понял) у нее обнаруживались противоречия, поправки, которые представлялись мне такими же важными, как явная улика, но менее пригодными для борьбы с Альбертиной, ибо она, уличенная в обмане, перехватывала стратегическую инициативу, отбивала мои ожесточенные атаки и восстанавливала исходное положение. Жестокими эти атаки были для меня. Она неожиданно прибегала, не ради изысканности речи, но чтобы сгладить допущенные неловкости, к неправильным согласованиям слов в предложении, похожим на те, что лингвисты именуют не то анаколуфами159, не то как-то еще. В разговоре о женщинах она начинала, не следя за собой: «Помню, что последнее время я…», затем, после короткой паузы, «я» превращалось в «она»: это было что-то, обратившее на себя ее внимание в ни в чем не повинной гуляющей, что-то совершенно несущественное. Действующим лицом была не она. Я старался припомнить в точности начало фразы с тем, чтобы закончить ее самому: поскольку фраза выскочила из головы, значит, надо догадаться, каков должен быть ее конец. Но, угадывая конец, я забывал начало, – по-видимому, у меня был такой заинтересованный вид, что Альбертина тоже начинала забывать, с чего начала; я жаждал уловить ее настоящую мысль, ее подлинное воспоминание. К несчастью, ложь часто уже в самом начале пропитывает отношение к нам наших избранниц, проникает в нашу любовь к ним, в нашу склонность. Эти первоисточники образуются, скапливаются, не привлекая к себе нашего внимания. Когда мы хотим вспомнить, как началась наша любовь к женщине, мы ее уже любим; былые мечтания не вспоминаются; внимание – это уже прелюдия к любви! Неожиданно они проходят мимо нас, но мы их почти не замечаем. Кроме относительно редких случаев, я лишь для удобства читателей часто сопоставлял ложь Альбертины с первоначальным ее суждением (на одну и ту же тему). Это первоначальное суждение, если не читать в будущем и не строить догадок, в какое противоречие она впадет, проскальзывало незамеченным, уловленное только моим слухом, который не отделял его от общего речевого потока Альбертины. Позднее, перед лицом явной ее лжи или же охваченный мучительным сомнением, я силился вспомнить; напрасно; моя память была своевременно не подготовлена; она считала ненужным хранить копии.
Я просил Франсуазу, когда она выведет Альбертину из зрительного зала, известить меня по телефону и доставить ее ко мне, как бы она ни упорствовала. «Она не захочет с вами повидаться – этого еще только не хватало! – сказала Франсуаза. – А вот что ей не хочется повидаться со мной – тут уж я могу побиться об заклад. Надо ж быть такой неблагодарной!» – заключила Франсуаза, в которой, после стольких лет, Альбертина возбуждала то же ревнивое чувство, какое причиняло ей пытку во времена Евлалии и моей тетки. Не зная, что Альбертина занимает у меня положение, желательное не для нее, а для меня (что из самолюбия и чтобы позлить Франсуазу я тщательно от нее скрывал), Франсуаза дивилась ее ловкости и возмущалась ею, называла ее, когда говорила о ней с другими служанками, «комедианткой», «обольстительницей», которая вертит мной как хочет. Она пока еще не осмеливалась начинать против Альбертины военные действия, была с ней приветлива, считала нужным докладывать мне об одолжениях, которые она оказывала ей в ее отношениях со мной; она полагала, что наушничать на Альбертину нет смысла, что та все равно ничего не добьется, надо только подождать благоприятного случая; и если она замечала в положении Альбертины трещину, то давала себе слово расширить ее и разлучить нас навсегда. «Неблагодарная? Да нет, Франсуаза, это я неблагодарный, вы не представляете себе, как хорошо она ко мне относится. (Мне было так приятно делать вид, что меня любят!) Скорей!» – «На коня – и полным ходом!»
Под влиянием дочери язык Франсуазы начал понемногу изменяться. Так теряют чистоту все языки от присоединения новых речений. В этом упадке языка я считал Франсуазу, которую знал в лучшие ее времена, косвенно ответственной. Дочь Франсуазы никогда не опустила бы до низшего слоя классический язык матери, если б удовольствовалась разговором с ней на местном наречии. Обе не были бы лишены этого удовольствия и при мне: когда им хотелось посекретничать, что им стоило, вместо того чтобы запираться в кухне, воздвигнуть посреди моей комнаты более надежную защиту, чем наглухо запертая дверь, а именно – начать говорить на местном наречии? Впрочем, я предполагаю, что мать с дочкой не всегда ладили между собой, если судить по тому, как часто они употребляли единственное выражение, которое я мог понять: «Чтоб тебя!» (Но, может быть, оно относилось ко мне.) К несчастью, самый малоизвестный нам язык в конце концов становится понятным, если слышишь его постоянно. Я жалел, что это было местное наречие, – я уже изучил его; я так же легко усвоил бы и персидский язык, если б у Франсуазы появилась привычка на нем изъясняться. Обратив внимание на мои успехи, Франсуаза решила говорить быстрее, и дочь ее тоже, но и это не помогло. Поначалу мамаша пришла в отчаяние, что я понимаю местное наречие, потом ей доставляло удовольствие, когда я на нем говорил. По правде сказать, это была для нее только забава: хотя с течением времени я произносил почти так же, как она, все же она не могла не видеть, что наши манеры произношения разделяет пропасть, и эта пропасть восхищала ее; теперь она жалела, что не видит больше своих земляков, о которых и думать забыла: она была убеждена, что они корчились бы от смеха, услышав, как скверно я говорю на местном наречии. Самая эта мысль приводила ее в веселое расположение духа и вместе с тем преисполняла сожаления, как только она представляла себе крестьянина, плачущего от смеха. И все-таки ее угнетала мрачная мысль, что хотя я и произношу худо, а понимать понимаю прекрасно. Ключи становятся ненужными, как только тот, кого не пускают, может воспользоваться отмычкой или ломиком. Когда местное наречие перестало достигать своей цели, Франсуаза заговорила с дочерью на том французском языке, который очень скоро устарел.
Итак, я был готов, но Франсуаза еще не звонила по телефону; выйти, не дожидаясь? Но найдет ли она Альбертину? Если Альбертина не за кулисами? А если Франсуаза встретит ее и доставит домой? Через полчаса зазвонил телефон, и в моем сердце шумно забились надежда и страх. Это звонил, по распоряжению телефониста, летучий эскадрон звуков, который с молниеносной быстротой донес до меня слова телефониста, но не Франсуазы, потому что ей атавистический страх и мрак в душе при одном виде предмета, которого не знали наши предки, мешали подойти к аппарату, что было для нее равносильно посещению заразного больного. Франсуаза увидела Альбертину в зрительном зале, в проходе, одну; Альбертине надо было только предупредить Андре, что она не останется на спектакль, а потом она сейчас же догонит Франсуазу. «Она не рассердилась? Ах, простите! Спросите у этой дамы, не рассердилась ли девушка…» – «Дама просит вам передать, что нет, нисколько, как раз наоборот; во всяком случае, если она чем-нибудь и недовольна, то про это никаких разговоров не было. Сейчас они едут в „Труа-Картье“ и вернутся в два часа». Я рассчитал, что два часа – это значит три часа, так как было уже начало третьего. Особый недостаток Франсуазы, постоянный, неизлечимый, который мы называем болезнью, заключался в том, что она никогда не смотрела на часы и не говорила точно, который час. Если Франсуаза смотрела на часы, а на них было два, она говорила: «Час» – или: «Три»; я так и не мог понять, что в эту минуту мешало Франсуазе: зрение, мысль или язык, но что в ней всегда в таких случаях что-то происходило – это несомненно. Человечество очень старо. Наследственность, скрещивания придали неодолимую силу дурным привычкам, порочным рефлексам. Человек чихает и хрипит, потому что проходит мимо розового куста; у другого на коже выступает сыпь, когда он вдыхает в себя запах только что нарисованной картины; перед отъездом начинаются боли; внуки воров, миллионеры, порядочные люди, не могут удержаться, чтобы не украсть у нас пятьдесят франков. Что же касается неспособности Франсуазы точно ответить, который час, то она так и не смогла объяснить мне, отчего это зависит. Несмотря на то, что ее неточные ответы злили меня, Франсуаза не пыталась ни извиняться, ни растолковывать. Она молчала с таким видом, будто никто ничего не сказал, и этим доводила меня до бешенства. Мне хотелось услышать одно слово в оправдание, хотя бы для того, чтобы прорвать позиции противника; в ответ – ни звука, глухое молчание. Во всяком случае, сегодня не оставалось сомнений, что Альбертина вернется с Франсуазой в три часа и что Альбертина не виделась ни с Леа, ни с ее подругами. И едва лишь угроза, что она возобновит с ними отношения, была отведена, эта угроза утратила в моих глазах всякое значение; я был уверен, что не добьюсь своего, и теперь дивился, видя, с какой легкостью мне удалось этого достигнуть. К Альбертине я испытывал чувство глубокой благодарности за то, что она, как я в этом убедился, не останется в Трокадеро с подругами Леа, и за то, что она доказала мне, уйдя со спектакля и собираясь вернуться домой по первому моему знаку; до сих пор я даже не представлял себе, до какой степени она – моя и будет моею впредь. Моя благодарность ей еще возросла, когда велосипедист привез мне от нее записку с просьбой запастись терпением и с этими характерными для нее ласковыми выражениями: «Дорогой мой Марсель! Я приеду не так скоро, как этот велосипедист, которого я попросила оседлать своего конька и духом домчаться до Вас. Как Вы могли подумать, что я рассержусь и что на свете может быть что-нибудь приятнее, чем проводить время с Вами? До чего приятно выйти из дому вдвоем, до чего приятно выходить из дому всегда только вдвоем! Откуда у Вас такие мысли? Ох уж этот мне Марсель! Ох уж этот мне Марсель! Вся Ваша, твоя Альбертина».
Послушание Альбертины являлось не платой за туалеты, которые я ей покупал, за яхту, которую я ей обещал, за пеньюары от Фортюни, а дополнением к ней, моей привилегией; долги и повинности властелина составляют часть его владычества, определяют его, служат доказательством так же, как и его права. Признаваемые ею мои права сообщали моим повинностям тот характер, который они должны были иметь в действительности: мне принадлежит женщина, которая по первому слову, неожиданно для нее переданному ей от меня, послушно телефонирует мне, что она скоро будет дома. Я сам не думал, что я над ней – всевластный повелитель. Всевластный повелитель – значит, покорный раб. И тут у меня пропала всякая охота увидеться с Альбертиной. Сейчас она едет с Франсуазой, затем последует ее возвращение, которое я с удовольствием бы ей отсрочил, – подобно яркому и мирному светилу, ожидание озарило мне то время, какое я теперь с несравненно большим удовольствием провел бы один. Моя любовь к Альбертине вынудила меня встать с постели и приготовиться к выходу, но Альбертины мне было мало для того, чтобы порадоваться выходу. Я представил себе, что сегодня воскресенье и что Булонский лес кишмя кишит работницами, швейками, кокотками. И при словах «швейки», «работницы» (как это со мной часто случалось, когда я твердил себе имя девушки, которое находил в отчете о бале) я воображал белый корсаж и короткую юбку, так как за этим костюмом я помещал неизвестную девушку, которая могла бы полюбить меня; в полном одиночестве я создавал образы желанных женщин и говорил себе: «Как с ними было бы хорошо!» Но зачем они мне, раз я все равно выйду не один? Воспользовавшись тем, что пока я еще один, наполовину задернув занавески, чтобы солнце не мешало мне читать ноты, я сел за рояль, открыл наугад сонату Вентейля и заиграл; Альбертина должна была вернуться не так скоро, но – непременно, поэтому я располагал свободным временем и у меня было спокойно на душе. Упиваясь ожиданием ее непременного возвращения с Франсуазой и доверием к ней, наслаждаясь красотой освещения в комнате, такого же теплого, как свет наружи, я мог свободно предаваться мечтам, отвлечься на время от мыслей об Альбертине, слить мысль о ней с мыслью о сонате. В сонате я сейчас не замечал, с какой необыкновенной точностью соответствует сочетание мотивов сладострастных и тоскливых моему увлечению Альбертиной, к которому так долго не примешивалась ревность, что я мог бы признаться Свану, что это чувство мне незнакомо. Нет, я смотрел на сонату с другой точки зрения, как на произведение великого музыканта, и пропускал его через себя, и звуковая волна влекла меня к дням Комбре, но не к дням Монжувена и направления к Мезеглизу, а к дням прогулок по направлению к Германтам, когда я мечтал быть писателем. Отказавшись от этих притязаний, упустил ли я что-нибудь реальное? Могла ли бы жизнь порадовать меня искусством? Есть ли в искусстве более глубокая реальность или наша подлинная личность находит в нем выражение, в котором ей отказывает живая жизнь? Каждый большой художник так резко отличается от обыкновенных людей и вызывает у нас такое сильное ощущение личности, какое мы тщетно пытаемся найти в обыденной жизни. В этот момент меня поразило одно место в сонате; кстати сказать, я хорошо знал, что иногда наше внимание по-иному освещает давно знакомые вещи, и вот тут-то наше внимание задерживается на том, чего мы прежде не замечали. Проигрывая это место, – хотя Вентейль пытался истолковать образ, совершенно чуждый Вагнеру, – я не мог удержаться, чтобы не прошептать: «Тристан»160 – с улыбкой друга дома, находящего что-то от предка в интонации, в жесте потомка, который его не знал. И, подобно тому как рассматривают фотографию, помогающую установить сходство, так я раскладывал на пюпитре поверх сонаты Вентейля партитуру «Тристана», отрывки из которого должны были исполняться как раз сегодня на концерте Ламурё161. Восхищаясь байрейтским гением162, я ни в малой мере не испытывал того, что испытывают люди вроде Ницше163, которым чувство долга внушает, и в искусстве и в жизни, бежать от манящей их красоты, которые вырываются из-под власти «Тристана» так же, как они отрекаются от «Парсифаля»164, и, проникнутые духовным аскетизмом, смертью смерть поправ, достигают того, что, следуя самым кровавым из крестных путей, возвышаются до безупречного понимания и безоговорочного признания «Почтальона из Лонжюмо»165. В том реальном, что есть в творчестве Вагнера, его быстро и настойчиво проходящие темы, возникающие в том или ином акте, уходят только для того, чтобы появиться снова; порой звучащие вдали, затихающие, почти самоценные, они в других местах, не теряя своей неопределенности, становятся такими упорными и близкими, такими неотделимыми от твоего внутреннего мира, такими органическими, такими вросшими в тебя, что реприза кажется уже не мотивом, а твоей невралгической болью.
Такая музыка, далекая от общества Альбертины, помогала мне погружаться в себя и находить в себе новое, находить разнообразие, которое я напрасно искал в жизни, во время путешествий, когда тоска по родине слышалась мне в звуковых волнах, сверкавшие на солнце брызги которых разбивались возле меня. Разнообразие в искусстве и разнообразие во внутреннем мире. Подобно тому, как спектр выявляет для нас состав света, так гармония Вагнера и цвет Эльстира дают возможность познать сущность ощущений другого человека, куда любовь не пропускает. Затем разнообразие внутри каждого произведения, достигаемое с помощью единственного средства быть действительно разнообразным: объединить разные индивидуальности. Там, где маленький композитор считал бы, что создал образы оруженосца и рыцаря, а пели бы они на один лад, Вагнер каждому действующему лицу придает различные черты, и всякий раз, как у него появляется на сцене оруженосец, перед нами возникает человек с особым обличьем, сложным и вместе с тем упрощенным, который со всем переплетением жизнерадостных звуков, характерных для феодальной эпохи, вписывается в звучащую бесконечность. Отсюда полнозвучие музыки, сплетенной из множества партий, каждая из которых – не похожий на других человек. Человек – или впечатление, которое получается от моментального взгляда на натуру. Даже то, что в ней наиболее удалено от чувства, которое она нам внушает, сохраняет свою внешнюю, вполне законченную реальность; пение птицы, рев охотничьего рога, песенка, которую играет пастух на своей свирели, – все вычерчивает на горизонте свой звучащий силуэт. Конечно, Вагнер стремился приблизить к нам натуру, поймать ее, ввести ее в оркестр, подчинить ее своим самым высоким музыкальным идеям, не теряя при этом присущей ему оригинальности, – так резчик не касается волокон особой породы дерева, которое он обрабатывает.
Но тут я подумал, что, несмотря на богатство его творчестна, в котором созерцание натуры уживается с развитием действия и обрисовкой лиц, чьи имена мы отчетливо различаем, сколько же его вещей – пусть и великолепных – принадлежит к числу вещей несовершенных, что присуще всем великим произведениям XIX века – века, в котором величайшие писатели не ценили своих книг, а смотрели на свой труд глазами рабочего и приемщика, извлекая из этого самосозерцания и придавая произведению новую красоту, внутреннюю и внешнюю, сообщая ему, по закону обратного действия, единство и величие, которыми оно не обладало. Не останавливаясь на том, кто, бросив взгляд назад, увидел в своих романах «Человеческую комедию», ни на тех, кто именует поэмами и очерками надерганные отовсюду «Легенды веков»166 и «Библию человечества»167, не правильно ли будет сказать о Мишле, великолепно изображающем XIX век, что главные его достоинства следует искать не в самих его произведениях, а в той позиции, какую он по отношению к ним занимает? Не в «Истории Франции» и не в «Истории Революции», но в предисловиях к этим двум книгам? В предисловиях, иными словами – на страницах, написанных после произведений, на страницах, на которых он их оценивает, не следует ли коегде добавить несколько фраз, обычно начинающихся у него с «Да будет мне позволено…» и представляющих собой не прием осторожного ученого, но каденцию музыканта-исполнителя? Другой музыкант, которым я в это время увлекался, Вагнер, вынул из ящика чудесный отрывок и, уже в разгаре работы почувствовав его необходимость в произведении, о котором он еще не думал, когда сочинял отрывок, сочинив первую мифологическую оперу, потом вторую, потом еще несколько и вдруг обнаружив, что создал целую тетралогию, вероятно, испытал нечто похожее на восторг, который охватил Бальзака, когда тот, окинув свои книги взглядом постороннего и вместе с тем отца, найдя в одном чистоту Рафаэля, а в другом – простоту Евангелия, вдруг все понял; когда его в конце концов озарила мысль, что его книги станут еще прекраснее, если их объединить в один цикл, где персонажи будут появляться снова и снова, и когда он добавил к своей эпопее, при этой ее пригонке, еще один взмах кисти, последний и наиболее совершенный. То было объединение уже написанных книг, объединение не искусственное, иначе оно рассыпалось бы в прах, подобно стольким сериям произведений посредственных писателей, которые, при мощной поддержке заглавий и подзаголовков, делают вид, что у них единый сверхчувственный замысел. То было единство не искусственно и, быть может, более реальное в силу того, что мысль о нем родилась, когда произведение было уже создано, что мысль о нем родилась в порыве восторга, когда единство было найдено и оставалось только слепить отрывки; единство, ничего о себе не знавшее, следовательно, жизнеспособное и не схематичное, не исключавшее разнообразия, не охлажденное исполнением. Оно (сейчас мы имеем в виду единство целей), подобно обособленному отрывку, родилось по вдохновению, а не по искусственному требованию определенного тезиса и охватило все остальное. До бури в оркестре, перед возвращением Изольды, это самостоятельное произведение, притянувшее к себе песенку на свирели, полузабытую пастухом. И, несомненно, насколько могуче нарастание оркестровой партии по мере приближения корабля, когда она завладевает мелодией свирели, преображает ее, заражает своим восторгом, ломает ее ритм, меняет ее тональность, ускоряет ее темп, настолько же, несомненно, велика была радость Вагнера, когда он, вспомнив эту пастушескую песенку, включил ее в свое произведение, предоставив ей заслуженную ею роль. Эта радость не покидает его никогда. Как бы ни грустил поэт, он утешен, радость сочинителя преодолела в нем грустное чувство – то есть, к сожалению, внесла в него некоторые разрушения. Но тут, так же как сродство, которое я только что обнаружил между фразой Вентейля и фразой Вагнера, меня привела в смущение сверхъестественная виртуозность Вагнера. Не виртуозность ли создает у великих художников иллюзию врожденной неукротимой единственности, на поверхностный взгляд – отсвет иного бытия, на самом деле – плод изощренного мастерства? Если искусство – только это, значит, оно не более реально, чем жизнь, и мне особенно не было о чем жалеть. Я продолжал играть «Тристана». Отделенный от Вагнера звучащей перегородкой, я слышал, как он ликует, как он предлагает мне разделить с ним его радость, я слышал, как все громче становится вечно юный смех и как все громче бьет молотом Зигфрид;168 удары этих фраз звучали все громоноснее, а техника мастера нужна была теперь только для того, чтобы облегчить отлет птицам, похожим не на лебедя Лоэнгрина,169 а на аэроплан, который я видел в Бальбеке, видел, как он набирает высоту, как он планирует над морем и исчезает вдали. Быть может, этим птицам, поднимающимся особенно высоко, летающим особенно быстро, с более могучими крыльями, требуются для того, чтобы исследовать бесконечность, настоящие двигатели в сто двадцать лошадиных сил, марки «Тайна», но на той высоте, на которой они летают, им будет мешать наслаждаться тишиной пространств мощное гуденье мотора!
Не знаю, почему мои размышления о музыке сменились воспоминаниями об игре лучших исполнителей нашего времени, и среди них, несколько приукрасив его, я представил себе Мореля. Тут моя мысль сделала неожиданный скачок, и я начал думать о характере Мореля и е некоторых его особенностях. Между прочим, – это могло сочетаться, по не смешивалось с глодавшей его неврастенией – Морель любил рассказывать о себе, но образ у него выходил столь неясный, что его было очень трудно различить. Морель соглашался быть в распоряжении де Шарлю – с условием, что вечера у него свободны: после обеда ему хотелось пройти курс алгебры. Де Шарлю шел ему на уступки, но требовал после занятий свидания. «Нет, но может быть, это старая итальянская картина».170 Эта шутка сама по себе не имеет смысла, но де Шарлю велел Морелю прочитать «Воспитание чувств», в предпоследней главе которого Фредерик Моро произносит эту фразу; шутки ради Морель всегда повторял ее: «Это старая итальянская картина, занятия кончаются поздно, прерывать их неудобно, преподаватель был бы очень недоволен…» «Да тут никакого курса и не нужно, алгебра – не плавание и даже не английский язык, ее легко усваивают по учебнику», – вот что мог бы – но считал бесполезным – возразить де Шарлю, легко догадавшийся, что курс алгебры – это выдумка, в которой не разберешься. Может быть, Морель собирается спать с бабой, а может быть, вознамерившись зарабатывать деньги некрасивыми средствами, он поступил на службу в тайную полицию, да и кто его знает? Может, тут просто что-нибудь худшее, может, он в ожидании, что ему предложат роль «кота», в котором может оказаться надобность в публичном доме. «Гораздо легче учить самому по книге, – говорил барону Морель. – С учителем ничего понять нельзя». «Так почему же ты не занимаешься у меня, или ты нашел более комфортабельное помещение?» – хотелось спросить барону, но он воздержался, зная, что вечерние часы у Мореля все равно останутся свободными, вот только воображаемый курс алгебры сейчас же заменится обязательным уроком танцев или рисования. И все же де Шарлю убедился, что он ошибается в своих предположениях, во всяком случае – отчасти. Морель нередко занимался у барона тем, что решал уравнения. Де Шарлю резонно заметил, что скрипачу алгебра не нужна. Морель возразил, что это развлечение, что оно помогает бороться с неврастенией. Конечно, де Шарлю мог приложить старания к тому, чтобы получить сведения, разузнать, что же это за таинственные и неотвратимые уроки алгебры, которые даются только по ночам. Но де Шарлю был человек слишком светский, и ему некогда было разматывать клубок занятий Мореля. Отданные им и нанесенные ему визиты, клуб, обеды в городе, вечера в театре отвлекали его мысли от этого, а также от клокотавшей внутри Мореля неистовой злобы, которая, по слухам, в разных городах, где он бывал, то прорывалась у него, то затаивалась, так что потом в этих городах о Мореле говорили с содроганием, понизив голос и не смея ничего о нем рассказать.
К сожалению, в этот день я оказался свидетелем одной из таких вспышек нервической злобы, когда, перестав играть на рояле, я спустился во двор, чтобы пойти навстречу Альбертине. Проходя мимо мастерской Жюпьена, где Морель и та, которая, как я думал, скоро станет его женой, должны были быть вдвоем, Морель орал во все горло таким голосом, какого я у него не слышал, обычно привыкшим сдерживаться, а сейчас впервые разошедшимся, мужицким. Слова были тоже необычные, с ошибками. Но ведь Морель все знал плохо. «Я тебе сказал: убирайся отсюда, мать твою за ногу, лахудра, лахудра, лахудра!» – повторял он бедной малышке; та сначала не поняла, что он хочет сказать, но потом, хотя и дрожа всем телом, приняла гордый вид. «Я тебе сказал: убирайся, мать твою за ногу, лахудра, лахудра, приведи сюда своего дядю, я ему скажу, что ты шлюха». Как раз в эту минуту во дворе послышался голос Жюпьена, возвращавшегося и разговаривавшего со своим приятелем, а так как мне было известно, что Морель – трус, каких мало, то я счел бесполезным присоединять свои усилия к усилиям Жюпьена и его приятеля, уже подходивших к мастерской, и поднялся к себе, чтобы избежать встречи с Морелем, который (вероятно, он хотел только попугать малышку и для этой цели прибегнуть к шантажу, быть может, ни на чем не основанному) так жаждал свидания с Жюпьеном, что, только заслышав его голос во дворе, тут же дал тягу. Случайно донесшиеся слова сами по себе ничего не значат, они ничего не объяснили бы в сердцебиении, с каким я поднимался. Сцены же, при которых мы присутствуем, играют огромную роль в том, что военные называют в теории наступательных действий успехом внезапного нападения. Сколько бы я ни успокаивал себя, что Альбертива, вместо того чтобы остаться в Трокадеро, вернется ко мне, в ушах у меня раздавался звук десятикратно повторенного, потрясшего меня слова: «Лахудра, лахудра».
Мало-помалу волнение мое улеглось. Альбертина должна вернуться. Сейчас я услышу звонок. Я сознавал, что моя жизнь уже не та, какой могла бы быть, что у меня есть женщина, и когда она вернется, то вполне естественно, что я выйду с ней пройтись, что все мои силы, вся моя жизнедеятельность с каждым днем все больше подчиняются одной цели: порадовать ее, отчего я становлюсь похожим на стебель, вытянувшийся в длину, но отягченный налитым плодом, поглощающим все его запасы. В противоположность тоске, которая владела мной час назад, спокойствие, охватывавшее меня при мысли о возвращении Альбертины, было шире того, какое я ощутил утром, до ее отъезда. Предвосхищая будущее, почти полным хозяином которого я становился, более устойчивое, как бы полное до краев и упроченное неизбежным, докучным, неминуемым, отрадным присутствием другого лица, то было спокойствие (избавлявшее нас от поисков счастья в нас самих), рождающееся из чувства семейного уюта и из чувства домашнего очага. Семейное и домашнее; таким еще, не менее сильным, чем чувство, которое умиротворило меня, пока я ждал Альбертину, было то спокойствие, которое я испытывал позднее, гуляя с ней. Она в одну секунду сняла перчатку – то ли чтобы коснуться моей руки, то ли чтобы я подивился, увидев у нее на мизинце, рядом с кольцом, подаренным г-жой Бонтан, кольцо, по ободку которого тянулся широкий, прозрачный узор в виде светлорубинового цветка. «Опять новое кольцо, Альбертина! Какая у вас добрая тетя!» – «Нет, это кольцо – не тетино, – сказала, смеясь, Альбертина. – Я его купила – благодаря вам я могу делать большие сбережения. Я даже не знаю, кому оно принадлежало раньше. Путешественник, который растратил все деньги, оставил его хозяину отеля, где я жила в Мане. Тот не знал, что с ним делать, и чуть было не продал его гораздо дешевле, чем оно стоит. Тогда это было мне не по карману. Но теперь, благодаря вам, я стала шикарной дамой, и я спросила хозяина отеля, не продал ли он еще кольцо. Ну так вот оно!» – «Это дивное кольцо, Альбертина. А где будет то, которое я вам подарю? Во всяком случае, это очень красивое кольцо; вот только я не могу различить чеканку вокруг рубина; похоже на голову гримасничающего человека. Но у меня плохое зрение». – «У вас будет лучше, чем это, не забегайте вперед. Я тоже плохо вижу».








