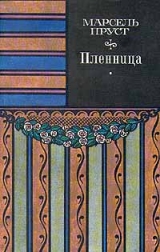
Текст книги "Пленница"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Как только Альбертина уехала, я, выкинув все это из головы, выглянул в окно. Сначала все было тихо, только свистулька торговца требухой и звонки трамвая звучали в разных тональностях, как клавиши рояля у слепого настройщика. Появилась еще одна свистулька – призыв торговца, о котором мне было неизвестно, чем он торгует, свистулька, звук которой был необычайно похож на звонок трамвая, и так как он никуда не уезжал, то можно было подумать, что это звенит трамвай, обладающий способностью передвигаться, но застрявший, стоящий неподвижно, через небольшие промежутки времени испускающий крики издыхающего животного. И тут я подумал, что, если когда-нибудь мне придется выехать из этого аристократического квартала, – лишь бы это не был квартал, заселенный одним простонародьем, – улицы и бульвары центра, где при наличии больших фруктовых, рыбных и прочих магазинов крики уличных торговцев были не нужны, да их и не было бы слышно, показались бы мне угрюмыми, нежилыми без всех этих песнословий мелких ремесел и бродячих продавцов еды, лишенными оркестра, услаждавшего мне слух по утрам. По тротуару прошла дама, не очень элегантная (или некрасиво одетая), в чересчур светлом саке из козьего меха; да нет, это не женщина, это шофер в пальто на козьем меху шел в свой гараж. Не нуждавшиеся в больших домах, крылатые охотники с переливавшимися на них изменчивыми бликами сновали около вокзалов на своих мотоциклетах, чтобы залучить пассажиров, прибывших с утренним поездом. По временам гудел, как скрипка, гудок автомобиля, по временам гудела моя электрическая грелка, оттого что я в нее налил мало воды. Среди этой симфонии детонировала вышедшая из моды «ария»: вытеснив продавщицу конфет, обычно певшую свою арию под аккомпанемент трещотки, продавец игрушек, к дудочке которого была прикреплена качавшаяся кукла, заставлявшая качаться другие, и не обращая внимания на обрядовую декламацию Григория Великого, на реформированную декламацию Палестрины149 и на лирическую декламацию модернистов, этот отсталый сторонник чистой мелодии распевал во весь голос:
Спешите, папаши, не спите, мамаши,
Игрушек для деток не сыщете краше!
Сам я их делал, сам продаю,
Сам и деньжонки в кошель сую.
Что толку держать сбереженья в кубышке?
Тра-ля-ля-ля, тюр-лю-лю-лю!
А ну-ка, слетайтесь ко мне, ребятишки,
Игрушками всех оделю!
Маленькие итальянцы в беретах не отваживались бороться с этим aria vivace150 – они, конечно, торговали статуэтками. Тем временем дудочка игрушечника удалялась и пела тише, хотя presto151: «А ну-ка, папы, а ну-ка, мамы!» Не была ли дудочка одним из тех драгунов, которых я слышал по утрам в Донсьере? Нет, так как пел он под музыку: «Реставратор фаянса и фарфора. Я реставрирую стекло, мрамор, хрусталь, кость, слоновую кость и старинные вещи. Кому нужен реставратор?» В мясной лавке, где слева при входе был нарисован солнечный диск, а справа висела целая бычья туша, молодой мясник, очень высокий и очень худой, белокурый, шея которого виднелась из-под небесно-голубого воротничка, с головокружительной быстротой и благоговением раскладывал на одной стороне изумительные говяжьи филе, на другой – огузье последнего сорта, клал их на до блеска начищенные весы, увенчанные крестом, с которого свешивались изящные цепочки, и – хотя потом он выставлял на витрину почки, филе, антрекоты – он гораздо больше был похож на прекрасного ангела, который в день последнего суда подготовит для Бога, в зависимости от их свойств, отделение Добрых от Злых и определит вес их душ. И опять звучала тонкая, писклявая дудочка, предвозвестница не разрушений, которых пугалась Франсуаза всякий раз, как проходил кавалерийский полк, но «нововведений», обещанных «антикваром», наивным зубоскалом, ни на чем не специализировавшимся, объектом для которого служили самые разные области. Маленькие хлебницы торопились укладывать хлебцы и разнести их в корзинках для «второго завтрака», молочницы проворно навешивали на крючок бутылки с молоком. Не давал ли мне об этих девочках самое точное представление их унылый вид? Не показалась ли бы мне совсем иной любая из них, если бы я мог задержать ее на несколько минут, ее, которую я обычно видел из окна стоящей в лавке или спешащей по улице? Чтобы оценить ущерб, который мне причиняло мое заключение, вернее сказать – богатство, которым меня одарял день, следовало остановить какую-нибудь девочку с бельем или с молоком, эту одушевленную, беспрестанно разматывающуюся ниточку, пропустить ее, как силуэт подвижной декорации среди проносящих ее мимо моей двери, а потом остановить как раз перед моими глазами и о чем-нибудь спросить, что даст мне возможность потом узнать ее: так орнитологи или ихтиологи, прежде чем выпустить на свободу птиц или рыб, подвязывают у них под животом жетон, по которому они, может быть, узнают их после миграции.
С этой целью я попросил Франсуазу направить ко мне для переговоров о посылках одну из малышек, которые то и дело уносят и приносят белье, хлеб, молоко и которым Франсуаза часто давала поручения. В этом я был похож на Эльстира: вынужденный замыкаться в своей мастерской, в один из весенних дней, зная, что леса полны фиалок, испытывая страстное желание полюбоваться ими, он посылал свою привратницу купить ему букет; для него это была не маленькая растительная модель, стоящая на столе, но целый ковер лесной чащи, в которой он видел когда-то множество вьющихся стеблей, изгибавшихся под голубым клювом, – теперь он воображал, что перед его глазами полоса, вклинившаяся в его мастерскую и наполнившая ее влажным запахом незабвенного цветка.
Можно было не сомневаться, что в воскресенье придет прачка. Что же касается хлебницы, то с ней не повезло: она позвонила, когда Франсуаза отлучилась, поставила корзинку с хлебцами на площадку и убежала. Фруктовщица должна была прийти позднее. Как-то я купил у молочника сыру и среди мелких разносчиц заметил истинное белокурое чудо, высокую, но еще совсем молоденькую, казалось, замкнувшуюся в гордом молчании и замечтавшуюся. Я смотрел на нее издали и потом прошел так быстро, что не мог бы сказать, какая она, кроме того, что у нее, наверно, быстрая походка и что у ее шевелюры гораздо меньше сходства с живыми волосинками, чем со скульптурным изображением излучин между фирновыми полями. Это все, что я рассмотрел, да еще точеный нос (у ребят такие носы бывают редко) на худом лице, напоминавший клюв грифа. К тому же не только сослуживицы, столпившиеся вокруг нее, мешали мне рассмотреть ее, но и неуверенность в том, что я при первом взгляде и после вызову у нее хмурую недоступность, насмешку или презрение, о котором она разболтает подружкам. Эти возникшие одно за другим предположения, промелькнувшие в один миг, сгустили вокруг нее туманную атмосферу, где она таилась, точно богиня в облаке, которое сотрясал гром. Душевная неуверенность – это более важная причина, мешающая составить себе точное зрительное представление, чем близорукость. В этой поразительно худой девушке, в которой кто-нибудь другой, пожалуй, нашел бы своеобразное обаяние, заключалось именно то, что должно было мне не нравиться, но в конце концов я ничего больше не увидел, не рассмотрел маленьких молочниц, так как от крючковатого носа той, от ее взгляда, отталкивающего, погруженного в себя, отчужденного, как будто всех осуждающего, стало еще темней, как после вспышки молнии. Таким образом, от моего похода за сыром в памяти у меня осталась (если только можно сказать «осталось в памяти» о лице, которое я так плохо рассмотрел, что потом мог вызвать из небытия только ее оригинальный нос) девушка, которая мне не приглянулась. Но этого было достаточно, чтобы я в нее влюбился. И все же я забыл бы белокурое чудо и мне бы не захотелось увидеть ее еще раз, если бы Франсуаза мне не сказала, что хотя она еще совсем девчонка, но уж ходит по рукам и что она расстается со своей хозяйкой, потому что любит наряжаться и кругом задолжала в нашем квартале. Говорят, что красота – это залог счастья. А может быть, и наоборот: возможность наслаждения есть начало красоты.
Я стал читать письмо от мамы. Сквозь цитаты из г-жи де Севинье («Мои мысли в Комбре не совсем черные – они серо-бурые; я думаю о тебе все время; я скучаю без тебя; твое здоровье, дела, дальность расстояния, – не кажется ли тебе, что я живу как бы в сумерках?») я чувствовал недовольство матери тем, что жизнь Альбертины у нас в квартире затягивается, что она у нас обосновалась, хотя я еще не сделал ей предложения. Она не писала мне об этом прямо, так как боялась, что я не стану читать ее писем. И все же, как бы ни были завуалированы ее намеки, она всякий раз упрекала меня в том, что я не отвечаю немедленно на каждое ее письмо: «Ты знаешь, что говорила г-жа де Севинье: „Когда люди живут далеко друг от друга, то нехорошо смеяться над их письмами, начинающимися: „Я получила Ваше письмо“. Помимо того, что ее особенно волновало, она сердилась на меня за мотовство: „На что у тебя уходят деньги? Меня очень беспокоит, что, как Шарль де Севинье, ты сам не знаешь, чего тебе хочется, что у тебя „семь пятниц на неделе“; постарайся по крайней мере, чтобы у тебя не было семи пятниц на неделе в расходах и чтобы я не могла сказать про тебя: „Он изобрел способ расходовать, не тратя, проигрывать, не играя, и расплачиваться, не расквитываясь“. Я дочитывал письмо, когда Франсуаза пришла сказать, что здесь сейчас та самая довольно-таки развязная молоденькая молочница, про которую она мне говорила: «Она вполне может отнести ваше письмо и быть у вас на посылках, если только недалеко. Сейчас вы ее увидите – она похожа на Красную шапочку“. Франсуаза пошла за ней, а затем я услышал, как она ей говорила по дороге: «Я вижу, ты оробела, потому тут коридор, распротак его; я думала, ты не такая трусиха. Хочешь, я возьму тебя за руку?“ И тут Франсуаза, как хорошая, преданная служанка, которая считает, что своего хозяина нужно уважать, как самое себя, напустила на себя величественность, облагораживающую сводней на картинах старых мастеров, сводней, рядом с которыми любовница и любовник кажутся почти полными ничтожествами.
Эльстир, когда на них смотрел, не размышлял о фиалках. Приход молоденькой молочницы тотчас же лишил меня спокойствия созерцателя; я думал только о том, как бы придать побольше правдоподобия небылице с письмом, которое ей предстояло унести, и быстро начал строчить, почти не осмеливаясь взглянуть на нее, чтобы она не подумала, что я вызвал ее, только чтобы на нее посмотреть. Она была полна врожденного обаяния неизвестности, без всяких украшений, рассчитанных на то, чтобы меня соблазнить, в отличие от хорошеньких девушек, с которыми вы встретились бы в веселом доме, где они вас поджидали. Она была ни нагая, ни разряженная, она была самая настоящая молочница, одна из тех, которые рисуются вашему воображению такими прелестными, когда у вас нет времени подойти к ним; с ней связывалось что-то от вечного желания и вечного недовольства жизнью, от этих двух потоков, в конце концов поворачивающих назад и струящихся подле нас. Двух, потому что речь идет о неизвестном, о существе загадочном, по всей вероятности – божественном, судя по ее сложению, пропорциям, равнодушному взгляду, надменному спокойствию; с другой стороны, нам нужно, чтобы эта женщина была отличной мастерицей, мы хотим погрузиться в мир, где костюм особого покроя придавал бы нам нечто романтическое, чтобы он выделял нас. В общем, если мы попытаемся сформулировать закон наших любовных влечений, то надо искать его в максимальном различии между женщиной только замеченной и женщиной уже приблизившейся, нами ласкаемой. Если женщины из тех домов, которые прежде назывались домами терпимости, если кокотки (при условии, что мы знаем их за кокоток) не привлекают нас, то это не значит, что другие красивее их; это значит, что они готовы отдаться; это значит, что то, чего мы от них ждем, они уже нам предлагают; победы тут нет. Разница здесь сведена к минимуму. Потаскушка улыбается нам на улице так, как будто она рядом с нами. Мы скульпторы. Мы стремимся вылепить из женщины статую, совершенно не похожую на женщину, какой она перед нами предстала. Мы видели на берегу моря девушку с безразличным, вызывающим взглядом, мы видели серьезную, деятельную продавщицу за прилавком, отвечающую нам сухо, чтобы после над ней не потешались товарки, фруктовщицу, которая цедит слова сквозь зубы. И что же? Мы вольны без конца проделывать опыты над гордой девицей на берегу моря, над продавщицей, думающей только о том, что о ней скажут, над рассеянной фруктовщицей, насколько они становятся податливее после ловких подходов с нашей стороны, насколько нам удастся смягчить их суровость, удастся ли нам обвить нашу шею их руками, недавно перекладывавшими фрукты, притянуть к нашим губам отвечающие нам согласной улыбкой их глаза, обычно холодные или рассеянные, – где ты, красота злых глаз в рабочее время, когда продавщица так боится злословия товарок, глаз, избегающих наших упорных взглядов, а теперь, наедине, прикрывающих зрачки под радующей тяжестью смеха, когда мы говорим о любви? Между продавщицей, прачкой, все внимание которой поглощено глажкой, фруктовщицей, молочницей и той девушкой, которой суждено стать нашей любовницей, максимум различия достигнут, дотягивается до наивысших пределов, с несходством лишь в обычных профессиональных движениях рук во время работы, таких же совершенно разных, как арабески, гибких нитей, которые уже ежевечерне обвиваются вокруг нашей шеи, меж тем как губы вот-вот сольются в поцелуй. Так и проводим мы нашу жизнь – в волнующих, все время возобновляемых действиях, предпринимаемых для победы над серьезными девушками, ремесло которых как будто должно было бы отдалить их от нас. У нас в объятиях они все те же, перевоплощения, о котором мы мечтали, не произошло. Так же начинается с другими женщинами, на эти затеи тратится все наше время, все наши деньги, все наши силы, мы готовы избить кучера за то, что он медленно везет и мы из-за этого пропустим свидание, мы в исступлении. Мы знаем, что это первое свидание окончится тем, что наша мечта не сбудется. Не важно: пока иллюзия длится, мы жаждем удостовериться, может ли она осуществиться, и думаем о прачке, от которой веяло холодом. Любовное влечение подобно любопытству, которое возбуждают у нас названия стран: неизменно терпящее неудачу, оно воскресает и вечно остается неутолимым.
Увы! Очутившись у меня, белокурая молочница с волнистыми прядями, не прикрытая ни игрой моего богатого вображения, ни желаниями, снова стала самой собой. Колышущееся облако моих предположений не окутывало ее больше, доводя меня до головокружения. У нее был растерянный вид с одним (вместо десяти, двадцати, которые я припоминал поочередно, не в силах остановить на каком-нибудь одном мою память) носом, расползшимся, – а я представлял его себе другим, – придававшим ей глупый вид и обладавшим способностью в случае крайней необходимости размножаться. Эта явная кража, безвольная, повлекшая за собой полное самоуничтожение, неспособная ничего прибавить к ее жалкой внешности, ничем не могла снабдить мое воображение для совместной работы с ней. Упавший с облаков в неподвижную действительность, я все-таки пытался собраться с силами; ее щеки, не замеченные мною в лавке, показались мне теперь такими красивыми, что я смутился и, чтобы скрыть смущение, сказал молочнице: «Будьте добры, передайте мне „Фигаро“ – вон он, мне надо посмотреть адрес». Когда она брала газету, у нее стал виден до локтя красный рукав жакетки, и она протянула мне орган консерваторов неловким и очаровательным движением, которое понравилось мне своей непринужденной быстротой, своей внешней мягкостью и промельком ярко-красного цвета. Когда я развертывал «Фигаро», я, чтобы что-нибудь сказать, не поднимая глаз спросил малышку: «Как называется ваша красная курточка? Это очень красиво». – «Гольф», – ответила она. Следуя закону вырождения всякой моды, мода на определенную одежду и на определенные слова несколько лет назад как будто являлась достоянием относительно элегантного мира подруг Альбертины, а теперь все эти названия вошли в язык работниц. «Для вас правда не очень тяжело, что я посылаю вас так далеко?» – притворившись, будто перелистываю «Фигаро», спросил я. Как только я сделал вид, что мне кажется трудной ее услуга, она тотчас заговорила о том, что это ей не по силам. «Значит, придется ехать на велосипеде. Да ведь мы и можем только по воскресеньям». – «Вам не холодно с непокрытой головой?» – «А я не с непокрытой головой, у меня есть поло, да и волосы защитят от холода». При взгляде на золотистые кудрявые пряди сердце у меня заколотилось, и я почувствовал, что буря этих прядей уносит меня к свету и к вихрям урагана красоты. Я опять начал просматривать газету, и, хотя я просматривал только для большей непринужденности и чтобы оттянуть время, хотя я только делал вид, что читаю газету, я все-таки понимал смысл слов, которые были у меня перед глазами, и тех, которые лезли мне в уши: «К утренней программе того, что сегодня будет представлено в парадной зале Трокадеро, следует добавить, что в „Плутнях Нерины“152 выступит м-ль Леа153. Само собой разумеется, она сыграет роль Нерины, в которой она уже показала, какой у нее огромный темперамент и сколько чарующей живости». Это было равносильно тому, как если бы с меня сорвали повязку, под которой рана с момента возвращения из Бальбека начала заживать. Ручьем хлынула тревога. Леа была артистка, подруга двух девушек, которых Альбертина, делая вид, что не замечает их, разглядывала в зеркале. Правда, в Бальбеке Альбертина при имени Леа говорила мне с возмущенным видом, словно она была оскорблена, что Леа могут подозревать в такой наклонности: «Да нет, она совсем не из таких, это очень порядочная женщина». К несчастью для меня, когда Альбертина так отзывалась о Леа, это было только начало ее суждений о Леа. Вскоре после первого последовало второе: «Я ее не знаю». Tertio154, когда Альбертина говорила мне о женщине, что она «вне всяких подозрений» и что (secundo155) «она ее не знает», она с течением времени забывала о том, что прежде говорила, что не знает ее, и из одной фразы, произнося которую она, сама того не замечая, «садилась в лужу», становилось ясно, что она ее знает. Одну забывчивость сменяла другая: эта особа вне всяких подозрений. «А разве она не подвержена таким наклонностям?» – «Конечно, подвержена, об этом каждая собака знает». Это утверждалось с возмущением, которое являлось слабым, едва слышным эхом самого первого утверждения: «Должна сказать, что со мной она ведет себя безукоризненно. Конечно, ей известно, что в случае чего я бы ее осадила и что я хорошо воспитана. Но я имею в виду другое. Я должна быть ей признательна за то, что она относится ко мне с неизменным уважением. Сразу видно, что она знает, с кем имеет дело». Правда запоминается потому, что у нее есть имя и глубокие корни, но импровизированная ложь забывается тут же. Альбертина забыла последнюю ложь, четвертую, и однажды, когда ей понадобилось заслужить мое доверие откровенными признаниями, она выпалила мне про эту особу, которая была так безупречна вначале и которую она не знала: «Она в меня втюрилась. Несколько раз просила меня проводить ее и зайти к ней. Я не вижу ничего дурного в том, чтобы проводить ее, на глазах у всех, белым днем, на вольном воздухе. Но когда мы доходим до ее дверей, я всякий раз подыскиваю предлог и никогда не захожу к ней». Немного погодя Альбертина проговорилась, что у этой дамы она видела много красивых вещей. Подробность за подробностью, в конце концов она выложила всю правду, правду, быть может, не столь уже важную для меня, оттого что женщины Альбертине доступны, вот почему женщины предпочитают возлюбленного, а так как в данное время возлюбленным Альбертины был я, то о Леа она не думала. Во всяком случае, меня кольнуло при первом разговоре о Леа, и я не стал допытываться, знает ли ее Альбертина156.
Нет, тут ничем не поможешь. Можно было любой ценой помешать Альбертине встретиться с ее знакомой в Трокадеро или познакомиться с ней самому. Я говорил, что мне неизвестно, знакома она с Леа или нет, надо было порасспрашивать о Бальбеке у нее самой. Забывчивость уничтожила и у меня и у Альбертины очень многое из того, что она мне сообщала. Память, вместо того чтобы служить всегда находящимся у нас перед глазами дубликатом разных событий из нашей жизни, скорее представляет собою небытие, откуда мы имеем возможность время от времени извлекать нынешние подобия мертвых воспоминаний; но есть множество мелких фактов, на которые по распространяется эта способность нашей памяти и которые навсегда останутся для нас непроверенными. На все, что нам неизвестно о действительной жизни нашей возлюбленной, мы не обращаем никакого внимания, мы в ту же секунду забываем, что она сказала нам о таких-то происшествиях, о таких-то людях и о том, какой у нее был при этом вид. Вот почему, когда потом в нас возбуждают ревность эти самые люди, чтобы проверить, нет ли тут ошибки, действительно ли это те, что повинны в ее спешке перед уходом, в том, что, вернувшись слишком рано, мы лишили ее удовольствия, наша ревность, роясь в прошлом, чтобы в нем найти для себя указания, не находит ничего; всегда ретроспективная, она подобна ученому, который собирается написать историю, не имея ни единого документа; вечно запаздывающая, она мчится, как разъяренный бык, туда, где нет гордого, блестящего мужчины, чей образ еще больнее ранит ее, где жестокая толпа ценит только великолепие и изворотливость. Ревность сражается и темноте, неуверенно, как неуверенны мы во сне, страдая оттого, что не можем найти женщину в ее необитаемом доме, женщину, которую мы хорошо знали в жизни и которая, может быть, находится здесь, но только в другом обличье, еще более неуверенная, чем мы после сна, когда мы силимся сопоставить с действительностью подробности нашего сновидения. Какой вид будет у нашей подружки, когда она станет нам рассказывать? Будет ли от нее веять счастьем, не начнет ли она что-нибудь насвистывать, как всякий раз, когда думает о том, в кого она влюблена, а наше присутствие мешает ей и раздражает ее? Не говорила ли она нам что-нибудь такое, что противоречит тому, что сама же утверждает сейчас; знакома она или не знакома с такой-то? Мы этого не знаем, мы этого никогда не узнаем; мы с остервенением копаемся в ломких осколках сна, и наша жизнь все с той же возлюбленной, наша жизнь, проходящая мимо того, что должно быть важно для нас, внимательная к тому, что, быть может, для нас не важно, окошмаренная существами, которые в действительности никак с нами не связаны, жизнь, полная провалов в памяти, пробелов, беспричинных тревог, наша жизнь похожа на сон.
Молоденькая молочница была еще здесь. Я сказал, что действительно это очень далеко, что я не нуждаюсь в ее услугах. Она подтвердила, что это ей неудобно: «Скоро начнется хорошенький матч, мне хочется на нем побывать». Наверное, она говорила теперь: «Надо любить спорт», а спустя несколько лет скажет: «Надо пользоваться жизнью». Я твердо решил, что обойдусь без ее услуг, и дал ей пять франков. Немного помявшись и смекнув, что если она будет получать пять франков ни за что, то ей гораздо выгоднее быть у меня на посылках, она сказала, что этот матч не так уж интересен: «Я вполне могла бы исполнить ваше поручение. Всегда можно найти выход». Но я ее выпроводил, мне нужно было остаться одному; следовало любой ценой помешать Альбертине встретиться в Трокадеро с подружками Леа. Так мне было надо, надо было достичь своей цели; по правде говоря, я еще не знал, как я ее достигну; первое время я рассматривал свои ладони, хрустел пальцами, как это бывает, когда ум, охваченный ленью, решает сделать минутную остановку, и тогда самые разные вещи видятся ему отчетливо, как из окна вагона верхушки трав, растущих на откосе и качающихся на ветру, между тем как поезд стоит (эта неподвижность не всегда бывает более плодотворна, чем неподвижность пойманного зверя, парализованного страхом или завороженного и глядящего вокруг себя не шевелясь); или когда до отказа напрягаешь тело, внутри тела – ум, а в уме готовишь средства борьбы с той или иной особой, хотя существует только одно оружие, выстрел из которого разлучил бы Альбертину с Леа и с ее двумя подружками. Конечно, утром, когда Франсуаза объявила, что Альбертина едет в Трокадеро, я сказал себе: «Альбертина вольна поступать, как ей угодно» – и был уверен, что до вечера, лучезарным днем, ее поступки не будут иметь для меня ощутимых последствий. Но дело было не только в утреннем солнце, от которого, как я воображал, на душе у меня было легко; дело было еще в том, что, заставив Альбертину отказаться от планов, которые она могла, пожалуй, задумать или даже осуществить у Вердюренов, и вынудив ее поехать на утренний спектакль, мною же самим для нее выбранный, чтобы она не успела что-нибудь замыслить, я знал, что она в силу необходимости будет передо мной чиста. Более того, через несколько минут она сказала: «Если я лишу себя жизни, мне это будет все равно» – сказала потому, что была уверена, что не лишит себя жизни. В то утро (в гораздо большей степени, чем светозарным днем) нас с Альбертиной разделяла незримая среда, которую мы все-таки видим благодаря ее прозрачности и изменчивости: я – ее поступки, она – цену своей жизни, то есть убежденность, которую мы не различаем, но которая может быть усваиваема, как прозрачная пустота, каковой является окружающий нас воздух; создавая вокруг нас изменчивую атмосферу, порой чудесную, часто спертую, она заслуживает того, чтобы быть замеченной и записываемой с такой же тщательностью, как температура, барометрическое давление, время года, ибо каждый наш день не похож на другой и физически и нравственно. Убежденность, не замеченная мной утром и тем не менее радостно усиливавшаяся во мне до той минуты, когда я снова развернул «Фигаро», эта убежденность в том, что Альбертина ничего предосудительного не совершит, внезапно исчезла. Меня окружал уже не ясный день, а тот, который породила в первом тревога из-за того, что Альбертина возобновит отношения с Леа и, еще проще, с теми двумя девушками, если они, что мне казалось вполне вероятным, пойдут выражать восторг актрисе в Трокадеро, где им будет нетрудно встретиться в антракте с Альбертиной. О г-же Вентейль я больше не думал; имя Леа, вместе с ревнивым чувством, воскресило во мне образ Альбертины в казино меж двух девушек. Моя память обладала множеством фотографических карточек Альбертины, отделенных одна от другой, незавершенных, моментальных, множеством ее профилей; равным образом, моя ревность ограничивалась незаконченным, меняющимся и одновременно устойчивым выражением лица у женщин, тень которых падала на лицо Альбертины. Я вспоминал, как в Бальбеке на Альбертину уставлялись то ли две девушки, то ли две женщины этой породы; я вспоминал, как мне было больно, оттого что они вглядывались в нее взглядом художника, которому хочется сделать набросок, как они закрывали все ее лицо и как она – из-за меня, конечно, – делала вид, что ничего не замечает, с безучастностью, в которой, быть может, таилось сладострастие. Прежде чем опомниться и заговорить со мной, Альбертина не шевелилась, чему-то улыбалась все с тем же деланно естественным и затаенно счастливым видом, так что если в эту минуту снять ее или выбрать для нее перед объективом более разухабистую позу – как в Донсьере, когда мы гуляли с Сен-Лу: она с улыбкой облизывает губы, – можно было бы подумать, что она дразнит собаку. Конечно, в эти мгновения она была совсем не та, какой бывала, когда прогуливавшиеся девушки интересовали ее. В таких случаях, напротив, взгляд ее прищуренных бархатистых глаз задерживался и впивался в девушку; это был такой прилипчивый, въедливый взгляд, что казалось, будто, оторвавшись, он мог бы содрать кожу. Но этот ее взгляд, который, по крайней мере, придавал ее лицу что-то вдумчивое, даже страдальческое, казался мне мягким по сравнению с неподвижным, счастливым взглядом, каким она смотрела на двух девушек; я предпочитал мрачное выражение желания, которое она, быть может, иногда ощущала, веселому выражению желания, внушаемого ею. Как бы она ни старалась его скрыть, оно, зыбкое, сладострастное, окутывало ее, обнимало, придавало сходство ее лицу с пышной розой. То, что в такие минуты колебалось в душе Альбертины, что она излучала вокруг себя, доставляло мне столько мучений, но кто знает: если бы меня тут не было с ней, продолжала ли бы она хранить молчание, нашла бы она в себе смелость не отвечать на заигрыванья двух девушек? Конечно, эти воспоминания причиняли мне острую боль; это была как бы общая исповедь Альбертины в ее пристрастиях, итог ее неверности, над которым не могли получить перевес ее клятвы в отдельных случаях, хотя я и заставлял себя им верить, отрицательные результаты моих исследований, которым недоставало полноты, уверения Андре, которая, быть может, сговорилась с Альбертиной. Альбертина могла отрицать отдельные измены, но ей легче было бы руки на себя наложить, чем из-за слова, сорвавшегося у нее с языка и перевешивавшего целую опровергающую речь, из-за нечаянно выдавшего ее взгляда сознаться в том, что она скрывала неизмеримо более тщательно: свою наклонность. Неприятно, когда залезают в душу.
Как бы я ни мучился от этих воспоминаний, но ведь не мог же я отрицать, что пробудил во мне желание, чтобы Альбертина осталась со мной, утренний спектакль в Трокадеро? Альбертина принадлежала к числу женщин, которым в случае надобности греховность может придавать обаяние; как и греховность, предшествующая ей женская доброта в такой же мере живит нас своею нежностью, и, если женщина сейчас с нами, мы, точно больной, чувствующий себя хорошо всего лишь два дня кряду, всякий раз вынуждены за нее бороться. Кроме грехов, которые женщины совершают, когда мы их любим, есть такие, которые они совершили до нашего с ними знакомства, и первый из них – их натура. Мучительность такой любви зависит от наличия у женщин разновидности первородного греха, греха, за который мы их и любим; когда мы о нем забываем, потребность в женщине у нас ослабевает, и, чтобы вновь полюбить ее, нам нужно вновь начать страдать. В этот момент меня больше всего волновало: найдет ли Альбертина двух девушек и знает ли она Леа, хотя частности не должны бы привлекать внимание из-за их незначительности, из-за их пустячности в сравнении с такими важными решениями, как поездка, с такими желаниями, как желание знать женщин, хотя мы не должны бы дробить наше любопытство на плывущую незримым потоком жестокую повседневность, о которой мы никогда ничего не узнаем и обрывки которой случайно застрянут у нас в мозгу. Если даже мы что-то одно разрушим, сейчас же на его месте образуется что-то другое. Вчера я боялся, что Альбертина поедет к г-же Вердюрен. Сегодня все мои мысли заняты Леа. Ревность не только ничего не способна разглядеть в окутывающем ее сумраке, если на глазах у нее повязка, – она принадлежит к числу тех мучений, когда работа ни на секунду не прекращается, как у Данаид157, как у Иксиона158. Если даже двух девушек там бы и не оказалось, какое впечатление могла произвести на нее Леа в красивом костюме, Леа, которой устраивают овацию! Какие мечты заронила бы она в Альбертине! Какие вызвала бы у нее желания, даже укрощенные мной, скука жизни, которая не предоставляет ей возможности удовлетворить эти желания!








