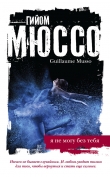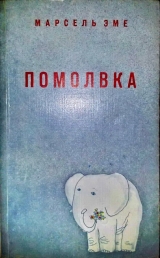
Текст книги "Помолвка (Рассказы)"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Пока он предавался этим горестным мыслям, рассеянно слушая отцовские наставления, у входной двери раздался звонок и сердитый голос ворвался в дом через замочную скважину:
– Что это значит? Почему ключ не под циновкой?
Супруг высунулся в окно и сбросил ключ в сад, да так неловко, что ни жена, ни дочери не сумели его отыскать. Послышались шумные негодующие возгласы. Охваченная справедливым гневом супруга возмущалась, как может отец семейства до такой степени утратить чувство собственного достоинства, что возвращается домой мертвецки пьяный и не способен даже сам отворить дверь. Минут десять продолжались бесплодные поиски, а потом мать и обе девушки забеспокоились, не провалился ли ключ в погреб. Отец, который все время призывал их к терпению из окна второго этажа, теперь уже не скрывал своей тревоги. Родольф оценил положение.
– Не беспокойтесь, батюшка, – сказал он, – я пойду открою дверь.
В голосе его слышалась грусть, ибо он успел отречься от Сатаны и сует и деяний его. Он спустился на первый этаж, вытащил из кармана набор отмычек и открыл замок, словно простую задвижку.
– Какое счастье, – шепнул отец, – что у тебя такие ловкие руки.
На лице Родольфа промелькнула бледная мученическая улыбка.
Не успел он спрятать отмычки в карман, как мать бросилась ему на шею и рыдая обняла его.
– Вот ко мне вернулся мой любимый сыночек после восемнадцатилетней разлуки.
– Вот наш дорогой братец, за которого мы так часто молились, – повторяли Мадлен и Мариетта.
До раннего утра длились сердечные излияния; все плакали от умиления. Потом открыли банку со сливовым вареньем и стали делать тартинки, запивая их кофе с молоком. Очарованный прелестью и скромностью своих сестер, убаюканный нежными материнскими речами, Родольф чувствовал, что это едва ли не самый счастливый день в его жизни. Он похвалил мать за элегантное платье из органди и изящный перманент. Тут вмешался отец:
– Уж поверьте, что мальчик в этом разбирается. Ведь он человек светский.
Родольф покраснел до ушей и, чтобы скрыть смущение, спросил, как прошел бал в супрефектуре. Он узнал, что праздник удался на славу и что ничего подобного город не видел со дня открытия памятника.
– А я, – сказала Мадлен, – протанцевала всю ночь с младшим Дюпонаром; на нем был коричневый костюм в серую полоску, и, хотя он никогда не брал уроков, это один из лучших танцоров в городе. Когда он приглашал меня на тур вальса, я чувствовала себя такой легкой, что просто невозможно выразить.
Ее щеки зарделись прелестным румянцем, и она добавила:
– Мы болтали о том, о сем, а после заключительного танца он мне сказал, что придет поговорить с папой.
– Этот Дюпонар младший очень приличный молодой человек, – подтвердила мать, – он два раза водил меня в буфет. Я справлялась о нем у одной соседки, которая хорошо знает его родителей. Оказывается, он юноша трудолюбивый, никогда не ходит в кафе и проводит воскресные дни дома. На вид в нем нет ничего особенного, но он зарабатывает в канцелярии восемьсот франков в месяц. Если он захочет жениться на Мадлен, можно будет смело сказать, что ей повезло.
Отец Мадлен жестом выразил неодобрение, но Мариетте так не терпелось рассказать о своем кавалере, что ему не удалось вставить ни слова.
– А я, – сказала она, – всю ночь танцевала с обозным бригадиром Валантеном, у которого такие красивые черные глаза; он несколько раз уверял меня, что ему никогда не приходилось танцевать с такой красивой девушкой. Вы и представить себе не можете, как он это говорил. Видно было, что это вполне искренно. Прощаясь со мной, он еще раз повторил то же самое и обещал прийти поговорить с папой.
Мариетта, как полагается, целомудренно покраснела и взглянула на мать, которая кивнула головой и сказала:
– Этот бригадир Валантен великолепно выглядит в мундире обозника, и он два раза водил меня в буфет. Я о нем справлялась. Говорят, он на хорошем счету. Если у него серьезные намерения, для Мариетты это будет непредвиденной удачей.
В этой атмосфере брачных надежд Родольф улыбался своим ликующим сестрам и с удовольствием думал, что настанет день, когда и он выберет себе супругу с добротными бумазейными панталонами, хорошую хозяйку, умеющую шить и играть на рояле. Он уже собирался сказать несколько прочувствованных слов, как вдруг отец злобно схватил банку со сливовым вареньем и демонстративно стукнул ею об стол.
– Не желаю иметь в семье голодранцев, – заорал он. – Благодаря щедрости моего сына Родольфа, в настоящее время миллиардера, я имею возможность дать для начала моим дочерям по двести тысяч франков приданого. Уж, конечно, не для того, чтобы Мадлен вышла за какого-то Дюпонара с окладом восемьсот франков в месяц. Чтобы я больше не слышал ни о Валантене, ни о Дюпонаре! Обозный бригадир? Почему не солдат первого класса? Говорю вам раз навсегда, мои дочери никогда не выйдут замуж за человека, не имеющего автомобиля и цилиндра.
Видя, как побледнели Мадлен и Мариетта, Родольф успокоительно подмигнул им и стал резонно доказывать отцу, что не в деньгах счастье.
– Учтите, батюшка, что Дюпонар младший не посещает кафе.
– Вот именно, очень мне нужен такой зять, которым твоя мать попрекала бы меня с утра до вечера.
– Учтите, что бригадир Валантен с честью носит мундир обозных частей.
– Кому и хвалить военных, как не тебе, дезертиру и ослушнику?
– Да здравствует армия! – крикнул Родольф таким звучным голосом, что сердца девушек затрепетали. – Вчера я нашел свою дорогу в Дамаск. Я отказываюсь от богатства, чтобы служить семье и отечеству.
– Ну, можно ли спокойно слушать подобные вещи? – возмутился отец. – В мое время старики мололи всякий вздор, а теперь дети. Во всяком случае, попробуй только занять у меня хотя бы одно су. После того как я выдам замуж Мадлен и Мариетту, у меня останется четыреста семьдесят пять тысяч франков; я переведу их на пожизненную ренту, а мужей твоим сестрам подберу так, что ты можешь хоть сейчас отказаться не только от богатства, но и от всякой надежды занять у них даже самую ничтожную сумму.
Не дожидаясь ответа Родольфа, он заявил, что идет спать, и прошел в соседнюю комнату, сильно хлопнув дверью. Мадлен, Мариетта и их мать только и ждали этой минуты: они положили локти на стол и зарыдали, уткнувшись в носовые платки. Родольф сидел в унылом оцепенении и взирал на это безысходное горе, не смея пошевелиться. Ему не давала покоя тревожная мысль, что добродетель приносит очень мало пользы. Он вспоминал те времена, когда был знаменитым поборником справедливости и у него были в распоряжении анонимные письма и всевозможные сейфовые комбинации. Тогда ему достаточно было написать: «Господин граф!
Я категорически против помолвки вашей дочери Соланж с юным Алексисом. Подпись: Железная Рука». А теперь, когда он стал честным человеком, благонамеренным человеком, этаким смирным добрячком, он оказался безоружным перед лицом заблуждения и злобы. Его новоявленная добродетель предоставляла ему одни лишь нравоучительные афоризмы и слова утешения.
– Все равно, – подумал он, – я останусь порядочным человеком. Пусть отец выдает дочерей за пьяниц и свиноторговцев, он не помешает мне быть добродетельным.
– Ах, Родольф, Родольф, – простонала мать, отводя руки от лица, покрасневшего от слез. – Какое несчастье, что ты был так щедр с отцом. Деньги вскружили ему голову. Еще вчера вечером он был бы счастлив, что у него одним зятем будет бригадир, а другим – канцелярский служащий. А теперь он не успокоится, пока не сделает дочерей несчастными. Да это еще куда ни шло…
– Что ты, мама! – запротестовала Мадлен. – Можно ли так говорить… Ты ведь сама сказала, когда мы возвращались с бала, что во всем городе не сыскать серьезного молодого человека, который танцевал бы лучше младшего Дюпонара.
– Что ты, мама! – подхватила Мариетта. – Ты же знаешь, что в моей жизни никогда не будет другого бригадира.
Родольф и тот не удержался от восклицания, которое могло сойти за почтительный упрек. Тогда мать вырвала клок волос и простонала, бросив его на стол:
– Несчастные, неужели вы не понимаете, что отец воспользуется деньгами, чтобы бегать за всякими тварями! Моя жизнь разбита навсегда!
Ею овладел приступ ужасного и вполне оправданного отчаяния; обе девушки снова зарыдали. Родольф сидел с сухими глазами, погруженный в мрачные размышления. Желая матери спокойной ночи, он долго обнимал ее и обещал все уладить. После этого он поднялся на второй этаж за своим багажом и спустился обратно в предназначенную ему комнату.
В доме царило молчание. Родольф надел цилиндр, черную бархатную маску, длинный черный плащ и вошел в спальню родителей. Луч потайного фонаря осветил «Окружную газету», которую отец уронил на коврик у кровати, потом – на сейф в углу комнаты. Комбинация была из пяти букв. Родольф вспомнил, что отец ложился спать в отвратительном настроении, и поэтому легко разгадал ее.
– Бедненький папа, – умиленно пробормотал он, – не очень-то он ломал себе голову…
Все восемьсот семьдесят пять тысяч франков лежали толстой кучкой на одной из полок. Родольф сунул пакет в карман, затворил сейф и вышел в переднюю. Он потерял минут десять на поиски ключа от входной двери, ибо ему претило пользоваться отмычкой. В конце концов он его нашел. Как и следовало ожидать, ключ был под циновкой. Он осторожно закрыл за собой дверь, вышел за ограду садика и зашагал по улицам городка. Он шел уже минут пять, как вдруг остановился, пораженный неожиданной мыслью.
– А ведь я все еще не знаю, как меня зовут. Я забыл спросить нашу фамилию у отца. Надо же быть таким дураком…
Великосветский взломщик досадливо поморщился, потом, покачав головой, отправился навстречу новым приключениям, которые привели его в превосходный детективный роман и в несколько длинных романов о любви и ненависти.
Однажды, когда он фигурировал в очередном отрывке из какого-то романа в «подвале» «Окружной газеты» под именем «Мстителя во мраке», джентльмен-взломщик поднял глаза к верхней части страницы и с удовольствием прочел сообщение, что его сестры Мариетта и Мадлен вышли замуж – одна за младшего Дюпонара, другая за бригадира Валантена. Но ввиду того, что несколько букв выпали из-за типографской погрешности, ему пришлось смириться и продолжать свои похождения, по-прежнему оставаясь в неведении относительно своей настоящей фамилии.

Последний
Жил-был велогонщик по имени Мартен, который всегда приходил последним, и люди смеялись, когда видели его далеко в хвосте колонны гонщиков. Его майка была нежно-нежно голубого цвета с маленьким барвинком, вышитым слева на груди. Пригнувшись к рулю и стиснув в зубах носовой платок, он нажимал на педали с такой же отвагой, как первый. На самых тяжелых подъемах он так неистово растрачивал свои силы, что глаза у него загорались страстью. И, видя его сверкающий взгляд и вздувшиеся от напряжения мускулы, все говорили:
– Смотрите-ка, вот Мартен. Он, кажется, в хорошей форме. Что ж, тем лучше. На этот раз он придет в Тур (или в Бордо, или в Орлеан, или в Дюнкерк), на этот раз он придет в лидирующей группе.
Но и на этот раз все было как обычно, и Мартен опять приходил последним. Он всегда надеялся на лучшее, хотя бывал чуточку огорчен, – потому что у него были жена и дети, а место последнего не приносит много денег. Он бывал огорчен, и однако никто не слышал, чтобы Мартен когда-нибудь жаловался на несправедливость судьбы. Когда он приходил в Тур (или в Марсель, или в Шербур), в толпе смеялись и шутили:
– Эй! Мартен! Ты у нас первый с конца!
А он на них за это даже ни капельки не сердился, и если бросал взгляд в толпу, то всегда с добродушной улыбкой, как будто хотел сказать: «Да, это я – Мартен. Это я – последний. В следующий раз мои дела пойдут лучше». После заезда другие гонщики спрашивали его:
– Ну, как? Ты доволен? Все было в порядке?
– О, да! – отвечал Мартен. – В общем, я доволен.
Он не замечал, что люди потешаются над ним; и когда они смеялись, он тоже смеялся. И даже смотрел на них без зависти, когда, оживленно принимая поздравления в праздничном шуме, они уходили вместе с друзьями. А он оставался один – ведь его никогда никто не ждал. Его жена и дети жили в деревне по дороге из Парижа в Орлеан. И он изредка видел их мельком, когда там проходила трасса гонки. Те, у кого есть мечта, не могут жить, как все люди, – это можно понять. Мартен очень любил свою жену, и детей тоже, но он был велогонщик и гонял без передышки от финиша к финишу. Он посылал домой немного денег, когда они у него были, и часто вспоминал свою семью – конечно, не во время гонки, тут ему было не до этого, – а вечерами между заездами, когда массировал себе ноги, уставшие за долгую дорогу.
Перед сном Мартен обращался с молитвой к богу и, не боясь ему наскучить, рассказывал о дистанции, которую прошел за день. Он верил, что бог интересуется велосипедными гонками, и был совершенно прав. Если бы бог не разбирался как следует во всех профессиях, он не мог бы понять, как трудно сохранить в себе чистую, нетронутую душу.
– Господи, – говорил Мартен, – теперь надежда на сегодняшнюю гонку. Я не знаю почему, но только каждый раз получается одно и то же. Ведь у меня хороший велосипед, ничего не скажешь. На днях я спросил себя: а вдруг что-нибудь с педалями? И я разобрал по частям весь велосипед, спокойно, не торопясь – вот как я тебе рассказываю. И я увидел, что и педали, и все остальное в порядке. А тому, кто попробует сказать, что это плохой велосипед, я отвечу, что он хороший, хорошей марки. Но тогда что же?.. Разумеется, дело еще в человеке: мускулы, воля, ум. Но, человек, господи, это уж твоя забота. Вот что я говорю себе и потому не жалуюсь. Я прекрасно знаю, что в гонках нужен последний и не стыдно быть последним. Я не жалуюсь, нет. Просто к слову пришлось.
После этого он закрывал глаза, спал без снов до утра, а проснувшись, говорил со счастливой улыбкой.
– Сегодня я приду первым.
Он смеялся от радости, мечтая о букете, который преподнесет ему маленькая девочка, потому что он придет первым, и еще о деньгах, которые он пошлет своей жене. Ему казалось, что он уже читает в газете: Мартен выходит на дистанцию Полиньи – Страсбург; после ожесточенной борьбы он победитель в спринте. Подумав, он огорчался за второго и за следующих, особенно за последнего – не зная, кто им будет, он его уже любил.
Вечером, под смех и шутки зрителей, Мартен приходил в Страсбург, как обычно, последним. Он немного удивлялся, но назавтра начинал следующий заезд с той же уверенностью в победе. И каждое утро с каждым новым стартом возрождалось это великое чудо надежды.
Накануне гонки Париж – Марсель в кругах велосипедистов столицы прошел слух, будто Мартен готовит публике потрясающий сюрприз, и пятьдесят три журналиста тотчас явились его интервьюировать.
– Что я думаю о театре? – переспросил Мартен. – Однажды, когда я был проездом в Каркасоне, мне случилось попасть в городской театр на представление «Фауста», и мне было жаль Маргариту. По-моему, если бы Фауст знал, что такое хороший велосипед, ему не пришлось бы думать, на что употребить свою молодость; он не стал бы морочить голову этой девушке, и она непременно вышла бы замуж. Вот мое мнение. Теперь вы спрашиваете, кто же придет первым в Марсель, отвечу вам прямо и откровенно: гонку выиграю я.
Не успели журналисты уйти, как он получил от некой Лилианы надушенное письмо, в котором та приглашала его на чашку чая. Это была женщина сомнительной репутации – каких немало, – безнравственная и беспутная. После велодрома, где Мартен сделал несколько контрольных кругов на своей машине, он без лишних колебаний отправился к ней. В руке у него был маленький чемодан, в котором лежал его спортивный костюм.
Он рассказал ей о гонках, о том, какая тактика лучше, каких забот требует его велосипед, и о себе самом. Распутница задавала ему коварные вопросы:
– Мсье Мартен, как это делают массаж?
И говоря это, протягивала ему ногу, чтобы он показал ей, как это делается. Мартен спокойно брал эту искусительную ногу, нисколько не смущаясь, словно это была нога гонщика, и невозмутимо объяснял:
– Вы массируете вот так, снизу вверх. Конечно, женщинам это труднее, ведь у них жир на мускулах.
– А если бы произошел несчастный случай, как бы вы меня понесли?
Она задавала ему еще много разных вопросов, но невозможно повторить все, что говорила эта особа. Мартену и в голову не приходило, что у нее могут быть дурные намерения, и он простодушно отвечал. Ей интересно было посмотреть, что у него в чемодане, и он с готовностью показал ей свою майку, трусы и башмаки.
– Ах, мсье Мартен! – воскликнула она. – Как бы я хотела увидеть вас в костюме гонщика. Я никогда ни одного так близко не видела.
– Если это доставит вам удовольствие, пожалуйста. С вашего разрешения я пройду в соседнюю комнату.
Вернувшись, он застал ее в костюме еще более легком, чем его собственный, и от описания которого лучше воздержаться. Но Мартен даже глаз не опустил. Он серьезно посмотрел на бесстыдницу и, покачав головой, сказал:
– Я вижу, ваша мечта – тоже участвовать в велосипедных гонках. Но я буду с вами откровенен. Велогонки, по-моему, занятие не для женщины. И не в ногах дело, это меня как раз не беспокоит. Ваши, пожалуй, могли бы стать не хуже моих. Но у женщин есть грудь, а когда катишь двести-триста километров, это нелегкий груз, мадам. Да и о детях надо подумать, ведь еще и это тоже.
Растроганная этими словами, наивными и благоразумными, Лилиана поняла наконец, сколь привлекательна добродетель. Она почувствовала отвращение к своим грехам – а их у нее было много – и, проливая сладостные слезы, сказала Мартену:
– Я жила как безумная. Но теперь с этим покончено.
– Не так уж все страшно, – сказал Мартен. – Теперь, когда вы уже видели меня в майке, я с вашего разрешения пойду в соседнюю комнату, переоденусь. Вы в это время тоже переоденетесь и не будете больше думать о гонках.
Так они и сделали, и Мартен вышел на улицу, напутствуемый благословением этой бедняжки, которой он вернул честь и радость жить в ладу с собственной совестью. Вечерние газеты печатали его портрет. Он не почувствовал оттого ни удовольствия, ни гордости; чтобы надеяться, весь шум этот был ему не нужен. На следующее утро, выезжая из Парижа, он занял место последнего и сохранил его до конца гонки. Прибыв в Арль, он узнал, что его соперники уже в Марселе, но это его не остановило. Продолжая изо всех сил нажимать на педали, он не уменьшил скорости и в глубине души не терял надежды прийти первым, хотя для остальных гонка была уже закончена. Газеты в ярости оттого, что дали себя провести, называли его фанфароном и советовали принять участие в «критериуме ослов»[3]3
Искаженное criterium national, название одного из традиционных велогоночных маршрутов.
[Закрыть] (игра слов, непонятная тем, кто не читает спортивных газет). Это не помешало Мартену надеяться, а Лилиане – открыть на улице Верности закусочную под вывеской «Праведная педаль», где яйца продавались на су дешевле, чем всюду.
С годами и опытом рос спортивный азарт Мартена, и гонок, в которых он участвовал, было почти столько же, сколько святых в календаре. Он не знал покоя. Едва закончив одну гонку, он тотчас записывался на новый старт. На висках у него появилась седина, спина стала горбиться – он был ветераном среди велогонщиков, но этого не замечал и, казалось, даже не знал, сколько ему лет. Как прежде, он приходил последним, но с опозданием гораздо более значительным. В своих молитвах он повторял:
– Господи, я не понимаю, не знаю, почему так выходит…
Однажды летом, во время гонки Париж – Орлеан, взбираясь на холм, который был ему хорошо знаком, он заметил, что у него спустила шина. Пока он менял камеру на обочине дороги, подошли две женщины, и одна, с грудным ребенком на руках, спросила его:
– Не знаете ли вы такого Мартена? Он велогонщик.
Мартен привычно ответил:
– Это я – Мартен. Это я – последний. В следующий раз мои дела пойдут лучше.
– Я твоя жена, Мартен.
Не переставая натягивать шину, он поднял голову и ласково сказал:
– Я очень рад… Вот и дети растут, – добавил он, глядя на младенца, которого принял за одного из своих сыновей.
Жена его смутилась и, показывая на молодую женщину рядом с собой, сказала:
– Мартен, это твоя дочь, она теперь такая же взрослая, как и ты. Она замужем, и твои мальчики тоже женаты…
– Я очень рад… Вот не думал, что они уже такие старые. Как время идет… А это что, мой внук у тебя на руках?
Молодая женщина отвела глаза, а ее мать ответила:
– Нет, Мартен, это не ее сын. Это мой… Ты все не возвращался, и я…
Мартен снова занялся своей шиной и молча стал накачивать ее. Когда он разогнулся, он увидел, что по лицу жены текут слезы, и пробормотал:
– Ты же знаешь, что такое гонщик, сам себе не принадлежишь… Я часто думаю о тебе, но, конечно, это не то, что быть рядом…
Ребенок начал плакать, и, казалось, ничто не могло его успокоить. Мартен очень встревожился. Велосипедным насосом он стал дуть ему в нос, приговаривая тоненьким голоском:
– У-тю-тю…
Малыш засмеялся. Мартен поцеловал его и распрощался со своей семьей.
– Я потерял пять минут, но не жалею об этом, тем более что мне легко их наверстать. Уж на этот раз гонка будет моя.
Он снова взобрался на велосипед, и обе женщины долго следили, как он поднимается в гору. Стоя на педалях, он переносил вес своего тела то на левую, то на правую ногу.
– Как ему трудно, – шептала его жена. – Когда-то, всего пятнадцать лет назад, он брал все подъемы только силой ног, никогда не поднимаясь с седла.
Мартен приближался к вершине холма, он ехал все медленнее и медленнее, и казалось, вот-вот остановится. Наконец он одолел подъем, его машина появилась на линии горизонта, какую-то секунду он ехал по инерции, и его голубая майка растаяла в летнем небе.
Мартен лучше, чем кто-либо другой, знал все дороги Франции, и – что кажется почти невероятным – каждый из множества километровых столбов имел для него свое собственное лицо. В гору он давно уже взбирался пешком; толкая перед собой велосипед, он с трудом переводил дух, но не переставал верить в свою звезду.
– На спуске наверстаю, – бормотал он.
И, приезжая к месту назначения вечером, а порой на следующий день, он снова удивлялся, что не занял первого места.
– Господи, я не понимаю, что случилось…
Его изможденное лицо цвета осенней дороги бороздили глубокие морщины, голова была совсем седая, но выцветшие глаза сверкали, как в молодости. На его худой, сгорбленной спине болталась голубая майка, только она не была уже голубой, а, казалось, состояла из мглы и пыли. Ему никогда не хватало денег, чтобы ехать поездом, но он об этом не жалел. Когда он приходил в Байонну, где гонки были уже три дня как забыты, он тут же снова садился за руль, чтобы принять участие в новой гонке в Рубе. Не останавливаясь ни днем ни ночью, он колесил по всей Франции – на подъемах пешком, нажимая на педали на ровной дороге и засыпая, когда велосипед ехал по инерции, на спусках.
– Я тренируюсь, – говорил он.
Но в Рубе он узнавал, что гонщики уехали неделю назад. Он качал головой и, снова садясь на велосипед, бормотал:
– Жаль, на этот раз я бы, конечно, выиграл. Ну в конце концов мне все равно остается гонка Гренобль – Марсель. Мне просто необходимо немного проехаться по Альпам.
И в Гренобль он приходил слишком поздно, и в Нант, и в Париж, в Перпиньян, в Брест, в Шербур – всегда он приходил слишком поздно.
– Жаль, – говорил он тонким дрожащим голосом, – в самом деле, жаль. Но я наверстаю.
Невозмутимо ехал он из Прованса в Бретань, или из Артуа в Русийон, или из Юра в Вандею и, прищурившись, говорил время от времени километровым столбам:
– Я тренируюсь.
Мартен так постарел, что уже почти ничего не видел. Но его друзья, километровые столбы – и даже самые маленькие, которые отсчитывают каждые сто метров, – подсказывали ему, когда надо повернуть направо, когда налево. И велосипед его, он тоже очень состарился. Он был неизвестной марки, такой древней, что специалисты о ней никогда не слыхали. Краска с него облупилась, и даже ржавчина не видна была под слоем грязи и пыли. В колесах почти не было спиц, но Мартен так мало весил, что пяти-шести оставшихся было достаточно, чтобы его выдержать.
– Господи, – говорил он, – ведь у меня хорошая машина. Уж тут мне не на что жаловаться.
От колес его машины остались одни ободья; когда он ехал, раздавался страшный лязг железа и уличные мальчишки бросали в него камни и кричали:
– Псих! Ненормальный! На свалку!
– Я наверстаю, – отвечал Мартен, который плохо слышал.
Уже много лет он старался принять участие хоть в какой-нибудь гонке, но всегда приходил слишком поздно. Однажды он выехал из Нарбонна в Париж, где через неделю должны были дать старт велогонке «Тур де Франс»[4]4
Традиционная ежегодная велогонка, маршрут которой проходит в основном вдоль границ Франции.
[Закрыть]. Он приехал на следующий год и рад был узнать, что гонщики стартовали только накануне.
– Я догоню их вечером и выиграю второй этап, – сказал он.
Когда он садился на велосипед у ворот Майо, на мостовой его сбил грузовик. Сжимая в руках руль вдребезги разбитого велосипеда, Мартен поднялся и, прежде чем умереть, сказал:
– Я еще наверстаю.