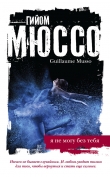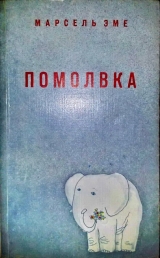
Текст книги "Помолвка (Рассказы)"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Сабины
На Монмартре, на улице Абрезуар, жила молодая женщина по имени Сабина, наделенная даром расщепления. Стоило ей пожелать – и Сабин становилось несколько, и каждую она могла отправить куда хотела. Сабина была замужем и, так как столь редкостная способность насторожила бы мужа, она держала ее в тайне и пользовалась ею только в спальне, в часы, когда оставалась одна. Например, по утрам, одеваясь, она раздваивалась или растраивалась, чтобы удобнее было рассматривать свое лицо, тело и позы. Окончив осмотр, она спешила снова собрать себя, то есть слиться в единое существо. Иногда в послеполуденные часы зимой пли когда шел проливной дождь и Сабине не хотелось выходить из дому, она разделялась на десять, а то и на двадцать женщин, в таким образом могла вести шумную оживленную беседу, которая, в сущности, была лишь разговором с самой собой. Ее муж, Антуан Лемюрье, помощник начальника юридического отдела СБНКА, и не подозревал об этих ее проделках и твердо верил, что, как все люди, обладает единой и неделимой женой. И лишь однажды, вернувшись домой неожиданно, он сказался в обществе сразу трех жен, похожих как капли воды, и все три смотрели на него шестью глазами, одинаково голубыми и ясными. От этого зрелища он остолбенел, челюсть у него отвалилась. Но так как Сабина тотчас вновь собрала себя, он решил, что стал жертвой какого-то недуга; это подтвердил их домашний врач, который нашел у него недостаточность гипофиза и прописал несколько очень дорогих лекарств.
Однажды апрельским вечером после обеда Антуан Лемюрье в столовой проверял свои ведомости, а Сабина, сидя в кресле, читала киножурнал. Когда случайно он взглянул на жену, его поразила ее поза и выражение лица. Она уронила журнал на колени, голова ее склонилась к плечу, глаза расширились и мягко светились, губы улыбались, лицо сияло неизъяснимой радостью. Взволнованный, восхищенный, он подошел к ней на цыпочках, благоговейно наклонился и никак не мог понять, почему она нетерпеливо от него отстранилась. А случилось вот что.
За неделю до того на углу улицы Жюно Сабине повстречался молодой человек лет двадцати пяти с жгуче-черными глазами. Он дерзко преградил ей путь и сказал: «Сударыня!» А Сабина, гордо вскинув голову, негодующе глядя на него, ответила: «Но, сударь…» И вот неделю спустя на склоне этого апрельского вечера она одновременно находилась и у себя, и у этого черноглазого юноши, чье имя было Теорем, а призвание, как он полагал, – свободный художник. В тот самый момент, когда она отстранилась от мужа, предложив ему вернуться к ведомостям, Теорем в своей мастерской на улице Шевалье де ла Бар держал руки молодой женщины в своих и твердил ей: «Прелесть моя, мое вдохновение, душа моя!» и много других прекраснейших слов, которые легко слетают с губ влюбленного в первые дни увлечения. Сначала Сабина хотела собраться самое позднее к десяти вечера, не соглашаясь ни на какой решительный шаг. Но в полночь она все еще была у Теорема и от ее щепетильной строгости уже оставались одни угрызения совести. Назавтра она собрала себя уже только к двум часам ночи, а в следующие дни – под утро.
Каждый вечер Антуан Лемюрье любовался лицом своей жены, освещенным отблеском счастья столь полного, что оно уже казалось неземным. Однажды, откровенничая с одним из сослуживцев, он так растрогался, что у него вырвалось: «Если бы вы ее видели, когда мы коротаем вечера в столовой! Можно подумать, что она беседует с ангелами».
Целых четыре месяца Сабина продолжала беседовать с ангелами. Ни разу в жизни у нее не было такого восхитительного летнего отдыха, как в этом году. Она одновременно обреталась и в Оверни, на озере с Лемюрье, и на маленьком бретонском пляже с Теоремом. «Я еще никогда не видел тебя такой красивой, – говорил ей муж, – твои глаза волнуют, как озеро в половине восьмого утра». На что Сабина отвечала пленительной улыбкой, предназначенной, казалось, какому-то невидимому горному духу. А в то же время на песке маленького бретонского пляжа она загорала, лежа рядом с Теоремом, и на них почти ничего не было надето. Юноша с черными глазами молчал, словно поглощенный таким глубоким чувством, которое обычные слова не в силах выразить. На самом же деле ему просто надоело без конца повторять одно и то же. В то время как молодая женщина восхищалась этим молчанием и всей невысказанной страстью, таящейся в нем, Теорем, оцепеневший в животном блаженстве, спокойно ожидал часов трапезы, с удовольствием думая, что отдых не стоит ему ни гроша. Сабина продала несколько полученных ею в приданое драгоценностей и умоляла своего друга согласиться, чтобы она взяла на себя все расходы во время их жизни в Бретани. Несколько удивленный, что она прилагает столько усилий, уговаривая его принять то, что, с его точки зрения, само собой полагалось ему, Теорем легко и благосклонно предоставил ей это право. Он считал, что художник не должен жертвовать собой во имя глупых предрассудков, а уж он менее, чем кто-либо. «Я не могу, – говорил он, – дать волю своей чрезмерной щепетильности, если она помешает мне создать творение, достойное Эль Греко или Веласкеса». Он жил на скромную сумму, которую посылал ему лиможский дядюшка, и не рассчитывал на живопись как средство существования. Возвышенное и непреклонное представление об искусстве не позволяло ему творить, если его не толкало к тому вдохновение. «Даже если мне понадобится ждать еще десять лет, – говорил он, – я буду ждать». Так, в сущности говоря, он и поступал. Чаще всего он старательно обогащал свою восприимчивость во всевозможных кафе Монмартра или обострял критическое чутье, глядя на то, как пишут картины его друзья. А когда они интересовались его собственными картинами, он так многозначительно отвечал: «Я ищу себя», что все благоговейно умолкали. К тому же грубые башмаки и широкие бархатные штаны, составлявшие непременную часть его зимнего одеяния, создали ему между улицей Коленкур, площадью Тертр и улицей Аббатис репутацию первоклассного художника. Даже откровенные недоброжелатели соглашались, что его пока еще не проявленные возможности весьма велики.
Однажды утром перед самым концом летнего отдыха любовники одевались в номере гостиницы, обставленном бретонской мебелью. Меж тем в пятистах или шестистах километрах оттуда в Оверни супруги Лемюрье уже три часа как встали и катались в лодке по озеру; муж греб, восхищаясь красотами берегов. Сабина изредка и односложно ему отвечала. А в бретонском городке она в это время пела, глядя на море: «Я предана душой и телом рукам властительным и смелым…» Теорем взял с камина бумажник и, прежде чем положить его в задний карман шорт, извлек из него фотографию.
– Смотри, какой я нашел снимок. Это я сфотографировался зимой в Мулен де ла Галетт.
– О любовь моя, – сказала Сабина, и глаза ее увлажнились от гордости и восторга.
На фотографии Теорем был в зимнем одеянии, и, взглянув на его башмаки и широкие бархатные штаны, так щеголевато подхваченные у щиколоток, Сабина сразу поняла, какой великий у него талант. Она почувствовала сердечные угрызения и устыдилась своей оскорбительной скрытности: ведь до сих пор она не поделилась своей тайной с этим прелестным юношей, таким нежным любовником, к тому же наделенным подлинно артистической натурой!
– Ты прекрасен, – сказала она ему, – ты велик. Эти башмаки! Эти бархатные штаны! Эта шапочка из кроличьего меха! О любимый мой, ты художник, такой чистый, такой всепонимающий, мне выпало счастье тебя встретить, сердце мое, мой возлюбленный, мое сокровище, а я посмела таиться от тебя!
– Что ты такое городишь?
– Мой дорогой, сейчас я открою тебе одну вещь, которую я поклялась никому не рассказывать: я могу расщепляться.
Теорем рассмеялся, но Сабина сказала ему:
– Смотри.
И тут же раздевятерилась. Когда Теорем увидел вокруг себя девять совершенно одинаковых Сабин, ему на минуту показалось, что у него ум за разум зашел.
– Ты не сердишься? – спросила одна из них, робко и тревожно.
– Да нет, – ответил Теорем, – напротив!
Он блаженно улыбнулся, словно хотел поблагодарить ее, и Сабина, успокоенная, страстно поцеловала его девятью ртами.
В начале октября, примерно через месяц после возвращения в Париж, Лемюрье заметил, что его жена уже почти совсем не разговаривает с ангелами. Ему казалось, что она чем-то встревожена и огорчена.
– Ты что-то невеселая, – сказал он ей однажды вечером, – может быть, ты засиделась дома? Завтра, если хочешь, пойдем в кино.
В это же самое время Теорем расхаживал по своей мастерской и кричал:
– Разве я знаю, где ты можешь быть сейчас? Разве я могу быть уверен, что ты не в Жавеле или не на Монпарнасе в объятиях какого-нибудь проходимца или в Лионе тебя не тискает какой-нибудь шелковод? Или в Нарбонне ты не валяешься в постели винодела? Или в Персии на ложе шаха?
– Клянусь тебе, любимый…
– Клянешься, клянешься! А если бы ты была в объятиях двадцати других мужчин, небось тоже клялась бы! Можно сойти с ума! У меня голова кругом идет… Я за себя не ручаюсь… Это кончится трагедией!
Произнеся слово «трагедия», он уставился на ятаган, который купил в прошлом году на Блошином рынке. Чтобы помешать ему совершить кровопролитие, Сабина удвенадцатерилась, и все двенадцать стали между ним и ятаганом. Теорем успокоился. Сабина снова собралась.
– Я так несчастен, – стонал художник. – Жизнь и без того ужасна, а тут еще такое!
Он намекал на треволнения материальные и духовные. По его словам он попал в очень трудное положение. Квартирный хозяин, которому он задолжал за три месяца, грозит ему тюрьмой. Лиможский дядюшка вдруг самым бесстыдным образом прекратил денежную помощь. И при этом он переживает мучительный духовный кризис, правда, весьма плодотворный. Он чувствует, как кипят и зреют в нем творческие силы, но за отсутствием денег не может их проявить. Попробуйте создать шедевр, когда судебный исполнитель и голод уже на пороге. Сабина, изнемогая под гнетом грозных предчувствий, дрожала от страха. На прошлой неделе она продала последние драгоценности, чтобы отдать угольщику с улицы Норвен карточный долг Теорема, и сейчас была в отчаянии, что больше ничем не может пожертвовать ради его таланта, рвущегося ввысь. На самом деле положение Теорема было ничуть не хуже и не лучше, чем обычно. Лиможский дядюшка по-прежнему тянул из себя жилы, чтобы его племянничек стал великим художником. А квартирный хозяин имел наивность рассчитывать, что заработает на бедности будущего гения и, как истый простофиля, легко мирился с тем, что жилец кормит его завтраками. Теорем же не только упивался ролью проклятого поэта и героя богемы, но еще и смутно надеялся, что мрачная картина его невзгод подвигнет молодую женщину на самые отважные решения.
Этой ночью, страшась оставить Теорема наедине с его тревогами, Сабина задержалась у любовника и не собрала себя дома на улице Абревуар. На другое утро она проснулась рядом с Теоремом, сияя счастливой улыбкой.
– Мне снилось, – сказала она, – будто мы владельцы маленькой бакалейной лавочки на улице Сен-Рюстик с фасадом не более двух метров. У нас только один клиент, школьник, который покупает в нашей лавочке леденцы и рудуду. У меня – синий фартучек с большими карманами, а у тебя передник, как у всех лавочников. Вечером в комнате за лавкой ты записываешь в большую книгу доходы за день: рудуду – на шесть су. Когда я проснулась, ты как раз говорил мне: «Чтобы дела наши шли отлично, нам нужен еще клиент, знаешь, такой, с седой бородкой…» Я хотела тебе возразить, что еще с одним клиентом нам негде будет разместиться, но не успела и проснулась.
– Одним словом, – сказал Теорем (при этом горько засмеявшись гортанным смехом и издевательски осклабившись). – Одним словом, – сказал он (уязвленный, оскорбленный до такой степени, что от гнева кровь бросилась ему в голову, он покраснел до ушей, а черные глаза начали метать молнии). – Одним словом, – сказал Теорем, – ты бы хотела сделать из меня лавочника.
– Да нет, я просто рассказываю тебе сон.
– Вот это самое я и говорю. Ты спишь и видишь, как бы превратить меня в лавочника и обрядить в передник!
– О любимый, – нежно возразила Сабина, – если бы ты видел себя, тебе так шел этот передник!
От негодования Теорем даже вскочил с постели и закричал, что его предали. Мало того, что хозяин выбрасывает его на улицу, что лиможский дядя отказывает ему в праве на пропитание как раз в тот момент, когда у него внутри что-то готово раскрыться, – выношенное им грандиозное, но такое хрупкое творение! И вот надо же! Женщина, которую он любил больше всего на свете, надругалась над этим творением и хочет уничтожить его в самом зародыше. Она готова сделать из него, из Теорема, лавочника! Почему не академика? Он расхаживал в пижаме по мастерской и кричал хриплым голосом – так кричит сама боль. Несколько раз он делал вид, что сию секунду вырвет сердце из груди, чтобы раздать его квартирному хозяину, лиможскому дядюшке и той, кого он любил. Истерзанная Сабина, трепеща, постигала, до каких глубин могут дойти страдания художника, и мучилась сознанием своей постыдной вины.
Возвратившись домой в полдень, Лемюрье застал жену в ужасном смятении. Она даже забыла собраться. И когда он вошел в кухню, его взору одновременно предстали четыре фигуры – все они были заняты разными делами, но у всех глаза увлажнила печаль. Это его крайне расстроило.
– Ну, вот! – воскликнул он. – Мой больной гипофиз опять дает о себе знать. Придется снова взяться за лечение.
Но когда симптомы недуга исчезли, он не на шутку встревожился состоянием Сабины – той губительной тоской, в которую она с каждым днем погружалась все глубже.
– Бинетт (так этот добрый и нежный человек звал свою молодую обожаемую жену). Биннет, – сказал он, – я не могу видеть тебя такой грустной. От этого я скоро сам заболею. Стоит мне вспомнить на улице или на службе о твоих скорбных глазах, как сердце мое вдруг сжимается и слезы струятся на папки. Тогда на стеклах моих очков образуется влага, которую я вынужден вытирать, и на эту процедуру приходится тратить драгоценное время, не говоря уже о дурном впечатлении, которое вид этих слез может произвести как на моих начальников, так и на подчиненных. В общем и целом, скажу, что печаль, отражающаяся в твоих ясных глазах, придает им бесконечное очарование, не спорю, но как это мучительно! Я опасаюсь, как бы эта скорбь не повлияла на твое здоровье, и хочу, чтобы ты решительно и энергично повела борьбу с состоянием духа, которое я считаю губительным. Сегодня утром мсье Портер, наш уполномоченный, между прочим, прелестный человек, замечательно воспитанный, просто поразительно сведущий, так вот, мсье Портер был настолько утонченно внимателен, что предложил мне билет на скачки в Лоншан, так как его шурин, по-видимому парижанин до мозга костей, имеет большие связи в этом мире. А ты как раз очень нуждаешься в развлечениях…
В этот день впервые в своей жизни Сабина отправилась на скачки в Лоншан. По дороге она купила спортивную газету и сразу же прельстилась Теократом Шестым. Имя этой лошади, по созвучию напоминавшее ее возлюбленного Теорема, показалось ей счастливым предзнаменованием. На Сабине было синее манто из патара, отделанное шазубом, и тонкинская шляпа с коротенькой вуалеткой на манер козырька. Многие мужчины обратили на нее внимание. Первые заезды ее почти не тронули. Она думала о своем обожаемом художнике, терзаемом житейскими невзгодами; она живо представила себе его яростно сверкавшие черные глаза, когда он творил в своей мастерской, изнемогая от непосильной борьбы с грубой реальностью. Ей тотчас же захотелось раздвоиться, мгновенно перенестись на улицу Шевалье де ла Бар и положить свои прохладные руки на пылающий лоб художника, как это водится у любовников в трагические минуты. Одна лишь боязнь помешать его напряженным исканиям удержала ее от этого. И слава богу, потому что как раз в ту минуту Теорем, вместо того чтобы трудиться в мастерской, попивал стаканчик арамона в забегаловке на улице Коленкур, и раздумывал, не поздно ли пойти в кино.
Наконец лошади выстроились у старта на Большой приз министерства записей актов. Сабина не отрывала глаз от Теократа Шестого. Она поставила на него около ста пятидесяти франков, составлявшие в данный момент все ее сбережения, и надеялась выиграть сумму, которая бы утихомирила квартирного хозяина Теорема. Жокей Теократа Шестого был в сногсшибательной куртке, белой с зеленым, даже нежно-зеленым, легким, хрупким и свежим, словно салат, если бы он вырос в раю. А лошадь была вороная, и сразу же после старта она стала лидером, вырвавшись вперед на три корпуса. Знатоки считали, что такое начало еще ничего не говорит о результате скачек, но Сабина, уже не сомневавшаяся в полном триумфе, вскочила, охваченная восторгом, и закричала: «Теократ! Теократ!» Соседи, глядя на нее, улыбались и пошучивали. Справа от нее сидел старик в перчатках, с моноклем, очень изысканный. Он смотрел на нее искоса, с явной симпатией, умиленный такой непосредственностью. В опьянении победы Сабина вдруг стала кричать: «Теорем! Теорем!» Соседи так шумно забавлялись ее энтузиазмом, что перестали следить за скачками. Наконец она это заметила и, поняв нелепость своего поведения, покраснела от стыда. Увидев это, старый джентльмен в перчатках, с моноклем, очень изысканный, встал и, напрягая голос, закричал: «Теократ! Теократ!» Смешки тотчас же смолкли, и по перешептыванию соседей Сабина поняла, что этот благородный джентльмен был не кто иной, как лорд Бэрбери.
Между тем Теократ Шестой отстал и под конец потерпел полное поражение. Увидев, что надежды ее рушатся и Теорем приговорен к нужде, а значит, как художник к бесплодию, Сабина сначала тяжко вздохнула, не пролив ни слезинки, потом судорожно всхлипнула. Наконец ноздри ее вздрогнули и расширились, глаза увлажнились. Лорд Бэрбери глубоко ей посочувствовал. Обменявшись с ней несколькими словами, он спросил, не согласится ли она выйти за него замуж, ибо его годовой доход составляет двести тысяч фунтов стерлингов. В эту самую минуту Сабине привиделось, что Теорем умирает на больничной койке, проклиная имя господа бога и своего квартирного хозяина. Из любви к художнику, а быть может, и к живописи, она ответила старому джентльмену, что согласна стать его женой, сообщив ему все же, что у нее нет ничего, даже фамилии, одно только имя, притом из самых заурядных – Мари. Лорд Бэрбери нашел эту ее особенность чрезвычайно пикантной и заранее наслаждался впечатлением, которое она произведет на его сестру Эмили, девственницу преклонных лет, посвятившую жизнь хранению доблестных традиций высокородных семей, носительниц исторической славы страны. Не дожидаясь конца последнего заезда, он вместе со своей нареченной отправился в карете в аэропорт Бурже. В шесть часов они прибыли в Лондон, а в семь были уже повенчаны.
В то самое время как в Лондоне Сабина выходила замуж, на улице Абревуар она обедала со своим мужем Антуаном Лемюрье. Он нашел, что жена его выглядит уже куда лучше, и был с ней очень ласков. Тронутая таким вниманием, она почувствовала угрызения совести и спрашивала себя, не преступила ли законы божеские и человеческие, выйдя замуж за лорда Бэрбери. Щекотливый вопрос, который повлек за собой и другой: возможно ли одновременно быть женой Антуана Лемюрье и английского лорда? Даже если допустить, что каждая из них сохраняет свою физическую самостоятельность, все же очевидно, что брак, хоть он и осуществляется в формах плотских, есть прежде всего единение душ. Но, по правде говоря, эти угрызения были чрезмерны. Поскольку закон о браке не предусматривал способности к расщеплению, Сабина имела право поступать согласно своим желаниям и даже со всей искренностью полагать, что она чиста перед богом, раз не существует ни буллы, ни указа, ни постановления, ни декрета, который хотя бы отчасти касался этого вопроса. Но у нее была слишком взыскательная совесть, чтобы воспользоваться такими хитроумными доводами. Вот почему она считала себя обязанной смотреть на свой брак с лордом Бэрбери как на следствие и продолжение адюльтера, не оправданного ничем и достойного загробной кары. Чтобы искупить эту вину перед богом, обществом и своим супругом, ибо она оскорбила всех трех, – Сабина поклялась себе никогда больше не встречаться с Теоремом. К тому же ей стыдно было предстать перед ним после этого брака по расчету, заключенного, правда, ради его же славы и покоя, но, по ее убеждению, подсказанному достохвальной душевной чистотой, все-таки оскорбительного для их любви.
Надо признаться, что жизнь ее в Англии на первых порах помогла Сабине вынести и угрызения совести, и даже горе разлуки. Лорд Бэрбери оказался действительно важной персоной. Помимо того, что ее супруг был очень богат, он по прямой линии происходил от Иоанна Безземельного, который – это обстоятельство мало известно историкам – состоял в морганатическом браке с Эрмиссиндой де Тренкавель и имел от нее семнадцать детей. Все они умерли в младенчестве, за исключением четырнадцатого, Ричарда Хьюга – основателя дома Бэрбери. Среди прочих привилегий, вызывавших зависть всей английской знати, лорд Бэрбери пользовался особым правом раскрывать свой зонт в апартаментах короля. Той же чести была удостоена и его супруга. Брак его с Сабиной был событием значительным. Новая леди стала объектом любопытства, в общем, благосклонного, хотя ее золовка и пыталась распространять слухи, будто Сабина была когда-то плясуньей в Табарене. Сабина, которую в Англии звали Мери, была поглощена своими обязанностями великосветской дамы. Приемы, приглашения к чаю, вязание в пользу бедных, гольф, примерки не давали ей передохнуть. Но, несмотря на столь разнообразные занятия, она так и не забыла Теорема.
Художник ни в малейшей степени не догадывался о происхождении чеков, которые он регулярно стал получать из Англии, и без труда примирился с тем, что Сабина больше не показывалась в его мастерской. Избавленный от материальных забот ежемесячными поступлениями, которые порой доходили до двенадцати тысяч франков, он пришел к выводу, что переживает период особой болезненной сверхчувствительности, мало благоприятной для его творческих свершений, и остро нуждается в душевном просветлении. Поэтому он позволил себе целый год отдыха, готовый продлить его, если возникнет такая необходимость. Его все реже встречали на Монмартре. Он просветлялся в барах Монпарнаса и кабачках Елисейских полей, где поглощал икру и шампанское в обществе дорогостоящих девиц. Узнав, что Теорем ведет довольно беспорядочную жизнь, Сабина с непоколебимой убежденностью решила, что он ищет какую-то новую форму, близкую к Гойе, где игра света сочеталась бы с женскими личинами, сквозь которые проглядывает порочное естество.
Однажды после полудня, вернувшись после трехнедельного пребывания в замке Бэрбери, Сабина нашла в своем роскошном обиталище на Мелисон-сквер четыре картонки, в которых лежали вечернее платье из элеаса, послеобеденное платье из итальянского крепа, спортивное вязаное платье и строгий английский костюм из облегающего спарадра. Отослав горничную, она распятерилась, чтобы одновременно примерить платья и костюм, и не заметила, как в комнату вошел лорд Бэрбери.
– Дорогая! – воскликнул он, – оказывается, у вас четыре прелестных сестры, а вы-то их от меня утаили!
Леди Бэрбери так смутилась, что не успела собрать себя, и вынуждена была ответить:
– Они только что приехали. Альфонзина старше меня на год. С Бригиттой мы близнецы. Барб и Розали мои младшие – тоже близнецы. Говорят, они очень на меня похожи.
Все четыре сестры были прекрасно приняты в высшем свете, им всюду оказывали чрезвычайное внимание. Альфонзина вышла замуж за американского миллиардера – короля кожевенных изделий – и пересекла с ним Атлантический океан; Бригитта – за горизапурского магараджу, который увез ее в свою княжескую резиденцию; Барб – за знаменитого неаполитанского тенора, которого сопровождала во всех его самых дальних турне; Розали – за испанского этнографа, отправившегося вместе с ней в Новую Гвинею изучать достопримечательные обычаи папуасов.
Эти четыре бракосочетания, отпразднованные почти одновременно, вызвали немало толков и в Англии, и даже на континенте. Парижские газеты писали о них довольно подробно и поместили фотографии новобрачных. Однажды вечером в столовой на улице Абревуар Антуан Лемюрье сказал Сабине:
– Видела ты фотографии леди Бэрбери и ее четырех сестер? Удивительно, до чего они на тебя похожи, только у тебя глаза светлее, лицо тоньше, рот меньше, нос короче, подбородок мягче. Завтра я захвачу газету и твою фотографию – покажу их мсье Портеру, он будет поражен.
Антуан засмеялся, потому что предвкушал, как он удивит мсье Портера, уполномоченного СБНКА.
– Я заранее смеюсь, когда представляю себе лицо мсье Портера, – пояснил он. – Бедный мсье Портер! Кстати, он опять дал мне пропуск на скачки в среду. Что, по-твоему, надо делать?
– Не знаю, – ответила Сабина, – это очень сложный вопрос.
С озабоченным видом она размышляла, подобает ли Лемюрье послать цветы мадам Портер, жене его начальника? А в эту минуту и леди Бэрбери, игравшая в бридж с графом Лестером, и избранница горизапурского магараджи, раскинувшаяся в паланкине на спине слона, и миссис Смитсон в штате Пенсильвания, принимавшая гостей в своем замке стиля синтетического ренессанса, и Барб Казарини, слушавшая в ложе Венской оперы своего знаменитейшего тенора, и Розали Вальдес-и-Саманьего, лежавшая под москитной сеткой в папуасской хижине, – все они одновременно были поглощены вопросом – следует ли поднести цветы госпоже Портер.
Теорем, узнавший из газет о четырех брачных церемониях, сразу все понял, глядя на фотографии, иллюстрировавшие репортажи; он ни минуты не сомневался, что все эти молодые жены – лишь новые воплощения Сабины. За исключением этнографа, который, по его мнению, занимался делом недостаточно прибыльным, он нашел, что мужья выбраны вполне удачно. Именно в эту пору он почувствовал острую необходимость вернуться на Монмартр. Дождливый климат Монпарнаса и гулкая сухость Елисейских полей наскучили ему. К тому же ежемесячные поступления от леди Бэрбери придавали ему больше блеска в кафе на Монмартрском холме, чем в чужих заведениях. Впрочем, он ничего не изменил в своем образе жизни и быстро создал себе на Монмартре репутацию полуночника, завсегдатая злачных мест, скандалиста и пьяницы. Друзья забавлялись, рассказывая о его фортелях, несколько завидовали его неожиданному благосостоянию, которым они, однако, широко пользовались, и не без удовольствия повторяли, что он потерян для живописи. Они, правда, считали необходимым добавлять, что это весьма прискорбно, ибо у него, безусловно, темперамент настоящего художника.
Сабина, узнав о дурной славе Теорема, поняла, что он идет по пагубному пути. Ее вера в него и в его предназначение, поколебалась, но от этого она полюбила его еще нежнее и винила себя в том, что стала причиной его падения. Целую неделю она ломала руки во всех концах света. Однажды в полночь, возвращаясь с мужем из кино, на перекрестке Жюно-Жирардон она увидела Теорема, повисшего на руках у каких-то развеселых и растрепанных девиц. Мертвецки пьяный, он изрыгал из себя потоки мутного вина и грязной ругани по адресу двух своих спутниц, из которых одна поддерживала ему голову, интимно называя его «мой свин», в то время как другая в крайне непристойных выражениях, игриво расписывала его мужские способности. Узнав Сабину, он повернул к ней измаранное лицо, икая произнес имя Бэрбери и, сопроводив его коротким, но оскорбительным комментарием, растянулся у фонаря. После этой встречи она стала думать о нем лишь с ненавистью и отвращением и дала себе слово его забыть.
Через две недели леди Бэрбери, жившая вместе с супругом в своем поместье, увлеклась молодым священником из их округи, который был приглашен к завтраку в замок. Глаза у него были не черные, а бледноголубые, губы не чувственные, а тонкие, поджатые, вид добропорядочный и чистоплотный, ум холодный и ограниченный, отличающий породу людей, готовых презирать все, что им недоступно. После первого же завтрака леди Бэрбери без памяти в него влюбилась. Вечером она сказала мужу:
– Я вам не говорила, но у меня есть еще одна сестра. Ее зовут Юдифь.
На следующей неделе Юдифь появилась в замке и за завтраком познакомилась со священником, который держался вежливо, но отчужденно, как и подобает вести себя с католичкой – средоточием и посредницей греховных помыслов. После завтрака они вдвоем прошлись по парку и Юдифь, как бы невзначай, но очень кстати привела цитаты из Книги Иова, Книги Чисел и Второзакония. Пастырь понял, что почва тут благодатная. Через неделю он обратил Юдифь, а еще через две на ней женился. Их счастье было недолгим. Священник вел только просветительные беседы и даже в постели произносил проповеди, свидетельствующие о поразительной возвышенности ума. Юдифь так смертельно скучала с ним, что, воспользовавшись прогулкой, которую они совершали вдвоем по Шотландскому озеру, будто бы случайно утонула. На самом же деле она нырнула на дно, задерживая дыхание, и, стоило ей исчезнуть с глаз супруга, леди Бэрбери вновь собралась и приняла ее в свое лоно. Пастырь отчаянно горевал, но благодарил при этом господа за ниспосланное ему испытание. Он воздвиг в своем саду маленький памятник in memoriam[6]6
В память (лат.).
[Закрыть].
Между тем Теорем волновался, так как ежемесячные поступления прекратились. Сначала он подумал, что деньги просто опаздывают, и заставил себя набраться терпения. Но после того как больше месяца прожил в кредит, он решился поведать Сабине о своих затруднениях; три утра подряд напрасно подстерегал он ее на улице Абревуар, а встретил случайно в шесть часов вечера.
– Сабина, – сказал он ей, – я ищу тебя вот уже три дня.
– Но, сударь, я вас не знаю, – ответила Сабина.
Она хотела пройти дальше. Теорем положил ей руку на плечо.
– Послушай, Сабина, за что ты на меня сердишься? Я сделал все, что ты хотела. Ты вдруг решила больше не приходить ко мне, и я молча страдал, даже не спрашивая, почему ты отказалась со мной встречаться.
– Сударь, я не понимаю, о чем вы говорите. Но ваше «ты» и ваши непонятные намеки оскорбительны. Оставьте меня в покое.
– Сабина, не могла же ты все забыть. Вспомни.
Не смея еще приступить к вопросу о деньгах, Теорем пытался возродить подобие интимности. Страстно взывал он к трогательным воспоминаниям и возвращался к истории их любви. Но Сабина смотрела на него удивленным, немного испуганным взглядом и упорствовала, не столько негодуя, сколько изумляясь. Художник настаивал.