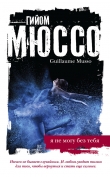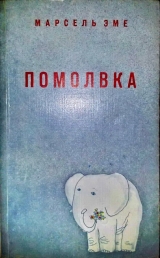
Текст книги "Помолвка (Рассказы)"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Статуя
Жил в Париже изобретатель по имени Мартен, а все считали, что он давно умер. На одной из маленьких парижских площадей ему был поставлен памятник. Он был изображен во весь рост, в бронзовом пальто, сделанном так искусно, что полы его как будто трепетали на ветру, совсем как в жизни. На пьедестале была выгравирована надпись в четыре строки: «Мартен, 1874–1924. Изобретатель пандемониума мирабиле».
По правде говоря, никто уже толком не знал, в чем заключалось изобретение пандемониума мирабиле, и сам Мартен начисто об этом забыл. Быть может, то была электрическая грелка, которая при желании превращалась в утюг или в вафельницу; или же наперсток, которым можно было полировать ногти во время шитья; или одно из тех механических новшеств, появление которых в корне перевернуло производство бритв и зажигалок. Мартен на своем веку изобрел столько разных вещей, что всевозможные моторы, батареи, катушки, пружины, рычаги и шестерни совсем перепутались в его голове и он перестал в них разбираться. Ему случалось заново изобретать механизмы, которые он уже подарил промышленности пятнадцать-двадцать лет тому назад.
Через несколько лет после своей предполагаемой смерти Мартен поселился поблизости от своего памятника. Он снимал чердачок, оборудованный под мастерскую, где жил совсем один со своими инструментами, окруженный замысловатым металлическим скарбом, загромождавшим все, вплоть до кровати. Детские игрушки, автомобили, поезда, вальсирующие куклы, скачущие звери соседствовали с механическими метлами, приборами для извлечения квадратного корня, автоматическими весами, огнетушителями, приборами для завивки волос и тысячью других изобретений, большая часть которых мирно покоилась, укрытая слоем пыли. Даже стены были густо увешаны диковинными предметами, среди которых выделялись паровые часы, заслужившие почетный диплом на Всемирной выставке 1900 года. Никакие посетители не нарушали его уединения, а консьержка закаялась подниматься к нему с тех пор, как механическая летучая мышь однажды встретила ее у входа и задела своим омерзительным крылом. Он работал целыми днями, не опасаясь, что ему могут помешать, и не переставал придумывать, чертить, пилить, фрезеровать, пригонять. Даже сон его был отягчен изобретениями; порой они так настойчиво заявляли о себе, что ему приходилось вставать С постели и работать при свете лампы.
Под вечер он спускался и шел в какой-нибудь ближний ресторанчик: он разрешал себе более или менее плотно поесть только один раз в день. Но перед тем он всегда совершал обход вокруг своей статуи. Эта ежедневная прогулка служила ему единственным развлечением, и, когда позволяла погода, он был не прочь ее продлить. Ему доставляло удовольствие присесть на одну из скамеек, окружавших площадь, и созерцать свое изображение, которое, благодаря пьедесталу, возвышалось над пешеходами и автомобилями. К нему подсаживались влюбленные, мать, уставшая нести ребенка, или бродяга, мечтающий о пристанище и жратве, но никто не смотрел туда, куда был устремлен его взгляд. Бронзовый человек, поддерживая свою изобретательную голову двумя пальцами левой руки, другой рукой, казалось, смахивал пылинки с пальто и следил за этой операцией глубокомысленным взором статуй.
Мартен не кичился своей славой, но это веское свидетельство признания его таланта глубоко радовало его; а вечерняя прогулка по маленькой площади давала ему повод тщательно изучать свою собственную персону: ведь его повседневные работы редко предоставляли ему такую возможность. Но пока он искал самого себя в этом бронзовом отражении, его немного пугала та значительность, которую он приобретал в собственных глазах. Поза мыслителя, в которой был запечатлен его образ, вызывала в нем чувство неловкости, как только он переносил ее на себя. К тому же он испытывал перед статуей нечто близкое к раскаянию, оттого что он все время вел двойную игру, жульничая со смертью; и он мысленно подыскивал себе оправдания. В действительности он гордился своим памятником, но отнюдь не собой.
С годами эта гордость становилась требовательнее. Мартена огорчало равнодушие прохожих к памятнику. Люди, переходившие площадь, никогда не удостаивали его взглядом. Никто не останавливался, чтобы разобрать на камне имя изобретателя. Не говорили о нем и те люди, которые собирались кучками на тротуаре поболтать перед обедом. Он не испытывал от этого ни горечи, ни обиды, а только смутную тревогу, приглушавшую его радость. Около шести часов на площади наступало оживление, и тогда-то статуя казалась особенно одинокой. Толпа проходила мимо, грубая, эгоистичная, не проявляя ни малейших человеческих чувств к высокой бронзовой фигуре; казалось, она вот-вот столкнет ее впопыхах. Мартен с замирающим сердцем искал на их лицах признака симпатии или хотя бы внимания, но тщетно, и когда кто-нибудь по рассеянности поднимал глаза к задумчивой голове статуи, в них отражалось лишь обидное неведение.
Иногда, в часы, когда народу было мало, он пытался заговорить со случайным соседом, сидящим на скамейке рядом с ним. Он наклонялся, робко улыбаясь, и, указывая пальцем на статую, говорил вполголоса: «Это Мартен». Сосед отвечал равнодушной улыбкой или же ворчал, пожимая плечами: «А мне-то какое дело?»
Зачастую он присоединялся к прохожим и спрашивал у них, изображая из себя любознательного приезжего: «Простите, не можете ли вы мне сказать, что это за памятник?» Но ни разу не встретил он человека, который был бы в состоянии дать ему какие-либо разъяснения. Даже торговцы на площади были не более осведомлены.
Уязвленный до глубины души таким невежеством и неблагодарностью, Мартен работал уже не столь усердно, как прежде. Он становился рассеянным.
При мысли об одинокой статуе инструменты валились у него из рук, и он застывал в оцепенении на своем чердачке, без конца растравляя свою печаль. А иногда, охваченный нетерпеливой жалостью, он бросал все и бежал на площадь к своему двойнику, чтобы порадовать его хотя бы своим дружелюбным присутствием, как маленькой подачкой. Мало-помалу его жизнь теряла ту размеренность, к которой его вынуждала изобретательская страсть. Теперь он выходил из дома в любое время дня, не обманывая себя даже видимостью предлога. У него появились дурные привычки: он стал курить и читать газеты. Замыслы вяло созревали в его голове, и пальцы утрачивали ловкость. Он творил, почти не испытывая при этом никакой радости, лишь для того, чтобы заработать на жизнь. В прежние времена его не смущали заботы о материальных нуждах, и, отдав дань житейским потребностям, он мог свободно мастерить предметы, не приносящие реальной пользы, такие как точилка для карандашей, работающая на осветительном газе: это было чистое искусство. А теперь он больше занимался таким трудом, который мог денежно себя оправдать, – но без особого успеха. Искорка вспыхивала все реже, и он уже не схватывал ее на лету.
В теплое время года он целые дни проводил на площади в унылом созерцании, исполненном горечи. Он больше не расспрашивал прохожих. Он окончательно уверился в людском невежестве и глупости. Случалось, что, сидя на скамейке, он произносил целые монологи, как будто сам был бронзовым человеком, говорившим с высоты своего постамента. «Проходите, – бормотал он, бросая на пешеходов злобные взгляды, – проходите, недотепы вы этакие. Я вас презираю. Я плюю на ваше ничтожество. Я выливаю на ваши головы мою бронзовую мочу. Жалкие, запыхавшиеся людишки, настанет день, когда все вы погибнете, и тяжесть вашей тупости вдавит вас в землю. А я буду стоять на своем камне, я увижу, как проносят ваши останки, а передо мной будет расстилаться бесконечная жизнь. Я поднялся на пьедестал своим трудом, своим умом, своим талантом. Я стал незыблемым утесом. Я не нуждаюсь в вашем восхищении. Оно ничего не прибавило бы к моему бессмертию, не помешало бы мне смеяться над вашими гнусными мясистыми рожами».
Подобные речи не могли вернуть ему душевный покой. В своих яростных нападках на прохожих он не всегда давал себе труд перевоплощаться в статую, и тогда его презрение выражалось более личным и непосредственным образом. Например, ему случалось сказать вслух: «Плевать я на вас хотел». Некоторые открыто выражали свое удивление. Однажды ему пришлось раскаяться хотя бы на несколько мгновений, что он облек свою досаду в такую ораторскую форму. На скамейку рядом с ним уселась женщина лет пятидесяти, неважно одетая и державшая в руке букетик фиалок. Не обращая внимания на ее присутствие, он изливал свое озлобление на редких пешеходов, пересекавших площадь. Убедившись, что, кроме нее, никто не мог его слышать, дама оскорбилась. Она встала, смерила грубияна взглядом и сказала: «Сударь, вы хам». Мартен смутился. Грубые слова, вырвавшиеся у него, имели обобщенный, почти философский смысл и отнюдь не были направлены на отдельную личность. Но как было ей растолковать, что такое восклицание просто отражало определенный взгляд на вещи? К тому же дама не дала ему возможности объясниться и отошла, снова испепелив его взглядом. Смущение Мартена сменилось раскаянием и недоумением, когда она направилась прямо к памятнику и остановилась у подножия в благоговейной позе. Волнение приковало его к скамье, ему казалось, что он вот-вот лишится чувств. Наконец он вышел из оцепенения и, когда ноги снова стали его слушаться, галопом перебежал через площадь. Приподнявшись на цыпочках, дама разбрасывала фиалки по цоколю вокруг бронзовых ботинок. Мартен пробормотал за ее спиной какие-то робкие и задыхающиеся слова. Она быстро обернулась, испуганно вскрикнула при виде хама и сжала ручку зонтика. Он смиренно извинился, объяснил, что он старый друг Мартена и что гневные слова, которые она случайно подслушала, были адресованы неблагодарным людям, невежам. Лицо ее тотчас же прояснилось, и на глазах выступили слезы.
– Говорите мне о нем, – попросила она. – Мне так нужно, чтобы мне о нем говорили.
– Это был великий человек, – сказал Мартен.
– Да, ведь правда, великий человек? И великое сердце. Кому это и знать, как не мне? Если бы вы знали, сударь, если бы вы знали…
Она нервным жестом схватила его за руку и глубоко заглянула ему в глаза. Он смотрел на нее с искренней симпатией, пытаясь найти в ней хоть что-нибудь привлекательное, но, несмотря на все старания, не мог не видеть, какая она некрасивая, угловатая, чопорная до мозга костей.
– Раз вы были его другом, – продолжала она, – он, наверное, часто говорил вам обо мне?
Мартен сделал неопределенный жест. Она выпустила его руку и сообщила, гордо выпрямившись:
– Я мадемуазель Пентон. Жюли Пентон.
Она улыбнулась, замерев в доверчивом ожидании.
– В самом деле, – пробормотал Мартен, роясь в своей памяти. – Мне кажется, что…
– Ведь правда, он говорил вам обо мне? Ну, конечно. Мадемуазель Пентон. Подумать только… Это было до войны. Мы были как дети. Ему было тридцать четыре года, мне тридцать два. Я отказывалась от самых выгодных партий в городе, даже от молодого Мудрю. И тогда пришел он.
Мадемуазель Пентон в экстазе закрыла глаза. В Мартене зашевелилось разочарование. Он предпочел бы более бескорыстное восхищение, продиктованное не столь сомнительными мотивами.
– Два года подряд он проводил пасхальные каникулы в доме напротив нашего. Мы познакомились у наших общих друзей. Он бывал у нас. Когда я сидела за роялем, он переворачивал ноты и шептал мне на ухо: «Какая вы музыкальная», и я чувствовала на шее его обжигающее дыхание. Если б вы знали… когда я одна, когда я вспоминаю, меня снова обжигает… обжигает. А однажды… спускаясь с крыльца, я оступилась и схватилась за него, чтобы удержаться. Я прижалась к нему. Ах, как я к нему прижалась!
При этом воспоминании она вздрогнула, ноздри ее затрепетали. Неожиданно она ринулась к пьедесталу и, прижавшись всем телом к камню, подняла руки, чтобы обнять ногу статуи.
– Ну, хватит! – сердито крикнул Мартен. – Это нелепо. Вы сломаете себе ногти.
Ему удалось оттащить ее и отвести к скамейке, где она истерически разрыдалась. Ее поведение раздражало его, и он не мешал ей выплакаться, недружелюбно поглядывая на ее худое прыщавое лицо и длинный красный нос, уткнувшийся в носовой платок. Мало того, что он чувствовал себя обманутым, но ему было досадно, что пора любовных увлечений воскресает для него в неприглядном облике старой девы. Лишь остаток любопытства мешал ему тут же сбежать. В его памяти начал вырисовываться неясный образ, в котором улавливалось пока еще смутное сходство с мадемуазель Пентон. Когда ее слезы иссякли, он спросил:
– Ну, а чем же это кончилось?
– Он любил меня, но взял в жены другую. Вернувшись в Париж, он вступил в брак с очень богатой вдовой…
Мартен хотел ее перебить, но она продолжала возбужденным тоном, и руки и ноздри ее лихорадочно подергивались.
– С миллионершей. Он женился на ее деньгах. У него был особняк, пятнадцать слуг, автомобили, замок в Турени, виллы на берегу моря. Он купил себе монокль. Сорил деньгами направо и налево.
Мартен прервал ее, пожав плечами:
– Вам это, видно, приснилось. Он никогда не был женат и всегда жил почти в бедности. Уж я-то, слава богу, близко его знал и могу говорить с полной уверенностью.
– Во всяком случае, – отрезала мадемуазель Пентон, – я получила эти сведения от лиц, достойных доверия, которых я знала очень давно.
Мартен не настаивал. Его воспоминания не прояснялись. Он отчетливо видел маленький городок, где ему случалось проводить пасхальные каникулы, дом и даже комнату, в которой он жил, но никакой мадемуазель Пентон он не помнил. Должно быть, она была так неприметна, что он не обращал на нее внимания. Наконец он потерял терпение и раздраженно спросил:
– Так вы говорите, что Мартен вас любил?
– Да, это так.
– Возможно. Но вы мне не сказали… А я не помню… Ну, словом, вы с ним спали?
Мадемуазель Пентон вскочила и крикнула, побагровев:
– Свинья! Я это подозревала. Вы просто гнусный сатир! О, свинья!
Она устремилась на площадь, зажав зонтик под мышкой, а Мартен глядел вслед удалявшейся унылой фигуре с легким сожалением.
Через неделю после этого случая Мартен окончательно отказался от попыток сконструировать нажимную кнопку замедленного действия, над которой он трудился уже несколько месяцев. Он рассчитывал на успех этого изобретения для поправки своих дел, которые принимали плачевный оборот; но воспоминание о мадемуазель Пентон расслабляло его и делало неспособным к серьезному усилию. Он мало-помалу забывал ее нескладную внешность и невольно подменял ее образом юного, грациозного создания, которое, как ему казалось, он извлек со дна своей памяти; а на самом деле это было просто последнее и самое прекрасное его изобретение. Он целыми днями уточнял форму ее носа, цвет ее глаз, очертания груди, и, когда созданный им образ стал для него осязаемым, он начал сочинять для нее стихи, как было принято до войны. То была обширная поэма, из которой он написал лишь четыре последних стиха:
Механизмы диковинные пред тобою,
Закалил их пружины я в лунных лучах,
Их моторы заправил я чистой росою,
Чтоб они отражались в девичьих очах.
Над этим куплетом ему пришлось попотеть больше недели, зато он остался им очень доволен. Сидя на своей скамейке напротив статуи, он шептал его для Жюли. Ведь естественнее всего было воображать мадемуазель Пентон в рамке маленькой площади. Он усаживал ее рядом с собой, вдыхал аромат ее фиалок, наклонялся к ее уху, к ее затылку. Они вместе обходили вокруг памятника, останавливались у подножия, чтобы поболтать. У нее было обаяние молодости, детская улыбка, круглый отложной воротничок и лукавый взгляд.
Но порой во все эти фантазии вторгалось более четкое воспоминание. Он с болью видел перед собой гибкое тело мадемуазель Пентон, прильнувшее к каменному постаменту; она обнимала бронзовые брюки, и кровь заливала пламенем страсти ее чистое девичье лицо. Он сам краснел от злобы и стыда; яд ревности просачивался в его душу. Придя на площадь, он сразу бросал подозрительный взгляд в сторону статуи, словно боясь увидеть там Жюли, бродящую с тяжелым, лихорадочным румянцем на щеках. Случалось, что он говорил бронзовому человеку с недоброй усмешкой:
– Жюли влюблена не в изобретение. На изобретение ей наплевать. Мое обжигающее дыхание, вот что она любит… она так сказала… мое обжигающее дыхание… Меня самого! И только меня!
Этими словами Мартен не только вымещал свою обиду, но заодно отметал укоры совести, которые преследовали нерадивого изобретателя: ведь он работал все меньше и с нескрываемым отвращением. Не был ли призрак мадемуазель Пентон просто уловкой, чтобы забыть грозившую ему нищету? Он задолжал квартирную плату за месяц и не представлял себе, как расплатится за следующий. Консьержка уже торжествовала, ехидно посмеиваясь. Он чувствовал, что устал изобретать, что усталость эта окончательная, что он дошел до точки. Механизм износился, заржавел и отказывался работать. Памятник становился докучным свидетелем его падения.
Когда вопрос о хлебе насущном стал неотложной задачей, призрак мадемуазель Пентон почти утратил свое обаяние и значительность. Вскоре Мартену пришлось начать распродажу старых изобретений. Каждое утро он нес к старьевщику охапку металлического хлама, за который ему удавалось выторговать франков десять. В тот день, когда ему предложили сорок су за паровые часы, горечь обиды заставила его отбросить иллюзии и увидеть Жюли Пентон в ее истинном облике угрюмой старой девы. Он вспоминал ее угловатую фигуру, костлявое лицо с красным носом и крикливый голос.
– Уступаю ее тебе, – с ухмылкой заявил он своему памятнику.
И в самом деле, Мартен перестал оспаривать у статуи благосклонность Жюли. Она смешалась в его памяти с запыленными механизмами, которые он когда-то смастерил, а теперь пытался сбыть старьевщику. Пружины, закаленные в лунном свете, не выдержали испытания. Возлюбленная – старая ли, молодая – навсегда покинула маленькую площадь и сердце Мартена. Но ревновать к статуе он не перестал. То была ревность другого рода, она глубже въедалась в него. Сознание своей нищеты унижало его, и он завидовал бронзовому человеку, который сумел остановить время и застыть на взлете славы, тогда как сам он поддался засасывающей привычке жить. Мартен обвинял его в том, что он закрыл ему все пути к успеху и лишил драгоценных творческих сил.
Сидя однажды утром на скамейке, он увидел, как к памятнику подошли туристы; они наклонились, прочли надпись, потом отступили на несколько шагов, чтобы охватить взглядом целое. Кулаки его сжимались от ревности и от мысли, что он – жертва несправедливости. Ему захотелось подбежать к этим людям, крикнуть им, что они ошибаются, что настоящий изобретатель Мартен – это он. Но статуя так недосягаемо возвышалась над ним, он сознавал себя таким незначительным, что у него не хватило духу. Когда туристы удалились, он долго смотрел на нее ненавидящим взглядом. В тот же день один журналист, которому было поручено собрать сведения о парижских памятниках, остановился у статуи изобретателя и стал что-то записывать. Мартен чуть не лопнул от ярости. А вечером, между шестью и семью часами, ему почудилось, будто взоры всех прохожих устремляются к задумчивому бронзовому лицу и что он слышит восторженный шепот, поднимающийся над толпой.
День ото дня шепот становился все явственнее. Вскоре он превратился в громкий благоговейный гул, который доносился со всех улиц и площадей Парижа. Колокола ежеминутно принимались трезвонить под предлогом то ли «Angelus»[5]5
«Angelus» (лат.) – молитва, которую католики читают три раза в день; к этой молитве призывает церковный благовест.
[Закрыть], то ли похорон. А Мартен, стоя в центре этих бурных порывов преклонения, весь съеживался в своем ничтожестве и смотрел на свою статую скорее со страхом, чем с ненавистью. Ему часто случалось садиться на скамейку с пустым желудком. Его лицо и одежда были в запущенном состоянии, ботинки просили каши. Он выглядел почти профессиональным нищим. Однажды какая-то женщина бросила монету в его шляпу, которую он поставил рядом с собой. Между ним и статуей было теперь такое огромное расстояние, что он и думать не смел о нитях, которые их связывали. Мало-помалу он свыкся со своим падением, принимая его как должное.
Один только раз Мартен попытался взбунтоваться. Это было ночью, накануне срока уплаты за квартиру. Он вертелся в постели, думая о предупреждении хозяина, который грозился его выселить. По улице проходила пьяная компания, горланя песню. Слов он не мог разобрать, но это явно был хвалебный гимн в честь статуи. Он почувствовал в этом шумном веселье издевательство над своим отчаянием. Он оделся и вышел на площадь, дрожа от негодования. Все вокруг было пустынно и безмолвно. Бронзовый человек зацепился за лунный луч макушкой своего гениального черепа. Тяжелые покровы тени окутывали его пальто и позу мыслителя. Мартен стал громко поносить его, называя канальей, вором, предателем, гордецом, позером.
– Это я тебя сюда поставил! – кричал он. – Без меня ты был бы ничто!
Но по мере того, как он выкрикивал эти слова, к нему возвращалось сознание своей никчемности, и тон его постепенно понижался, утрачивая самоуверенность. Среди ночного безмолвия статуя выглядела еще выше. А когда облачко заволокло луну, она выросла еще на несколько футов и протянула к нему смертоносную тень. Он поспешно отскочил на тротуар и притаился в свете уличного фонаря. Сердце его билось от волнения; стиснув зубы и задыхаясь, он смотрел на высокий черный силуэт, который сливался с ночным мраком. Но, несмотря на страх, он не хотел сдаваться и, чтобы хоть как-нибудь восстановить равновесие, взобрался на скамью, на которой привык сидеть.
Эта подставка в какой-то мере вернула ему чувство самоуважения. Он удивился, что ему раньше не приходило в голову ею воспользоваться. Силу и величие бронзовому человеку придавал каменный пьедестал, возносивший его к небу. Стой он на земле, он не был бы таким устрашающим. Теперь Мартен раскаивался, что позволил себе опуститься до ругани. Грубость и пустые выкрики только унижали его перед лицом врага. Все сводилось главным образом к вопросу об уровне. Положение резко изменилось, с тех пор как он влез на скамейку. Надо было еще добиться невозмутимой и спокойной важности статуй. Мартен изо всех сил старался стоять неподвижно и, чтобы использовать все возможные средства, принял позу мыслителя, подперев щеку двумя пальцами. Это положение было очень утомительно, почти болезненно, к тому же дул холодный пронизывающий ветер. Но, когда прошло четверть часа, его вдруг охватила надежда, и он воспрянул духом. Он чувствовал, как твердеют его ноги и бедра. Затекшие ступени отяжелели и прочно прилипли к пьедесталу, щека и два пальца, на которые она опиралась, перестали что-либо чувствовать под хлещущим ветром. Несколько раз ему почудилось, будто полы его пальто под ветром издают металлический звук. Огромная радость распирала ему грудь, пока он наблюдал за ходом своего преображения. Он чуть не окликнул статую в приступе гордости, но вовремя прикусил язык, сообразив, что может все испортить. Он чувствовал себя тяжелым и великолепным. Одно только смущало его: он спустился в комнатных туфлях и недоумевал, сможет ли бронза облагородить слишком домашний характер этой обуви.
Когда целый час прошел в самой добросовестной неподвижности, его охватило внезапное беспокойство. Приступ ревматизма пронзил ему бедро, и он с трудом удержался от крика. Сомнение коснулось его. В самом деле, статуи вряд ли бывают подвержены ревматизму. Боль повторилась еще острее и сделалась такой невыносимой, что пришлось смириться и переменить положение ноги. Вопреки его ожиданиям, это движение не потребовало от него никакого усилия. Мышцы сокращались нормально, если не считать некоторую скованность, которую вряд ли можно было приписать чему-нибудь, кроме усталости. Мартен захотел стать в прежнюю позу, но не смог: вера была утрачена. Леденящий ветер дул все яростнее и пронизывал его до костей. Мартен пошатывался и дрожал от холода и усталости. Он спустился на землю, сел на свою скамейку и заплакал. Он был побежден.
За несколько месяцев Мартен распродал все свои железяки, инструменты и скудную обстановку. Оставшись без всяких средств и без жилья, он стал просить подаяния на улицах, и чаще всего на маленькой площади. Он делал это не для того, чтобы бередить воспоминания, а скорее по старой привычке, которую без труда приспособил к своему новому образу жизни. В часы пик он стоял у подножия своего памятника и невнятно бормотал, взывая к жалости прохожих. Иногда, особенно в первое время, до него доходил иронический смысл этой ситуации. Но мало-помалу он перестал об этом думать. К тому же память его затуманивалась, ум становился все медлительнее. Он научился искусству почти совсем не думать, интересоваться всякими пустяками, часами размышлять о пуговице на брюках, которая грозила оторваться. Мартен почти весь день проводил на площади. Когда там никого не было, он сидел на своей скамейке. Его присутствие раздражало некоторых торговцев, и они подавали жалобы в полицейский участок. Мартена не раз предупреждали, но по лености он тут же забывал об этом.
Однажды, это было около полудня, он стоял на своем посту с протянутой рукой в ожидании милостыни, прислонившись к каменному пьедесталу. На площади появился полицейский и направился прямо к нему. Мартен не сразу понял, что ему грозит.
– Тем хуже для тебя, – заорал полицейский. – Довольно тебя предупреждали. А ну, пошли в участок.
Слово «участок» напугало Мартена. Остаток гражданского достоинства нарисовал перед его мысленным взором ряд унизительных картин. Полуобернувшись и подняв голову к статуе, он воздел к ней руки умоляющим жестом. Полицейский пожал плечами и сказал нетерпеливо:
– Хватит комедию ломать, мне некогда. Пошли.
– Оставьте меня! Я изобретатель Мартен! Я тот человек, чья статуя! Статуя – это я! Смотрите… Читайте…
Наклонившись к надписи, он водил пальцем по буквам, складывая из них имя Мартен. Полицейский схватил его за руку и рывком оттащил от памятника, потому что Мартен успел уцепиться за выступ на пьедестале. В полицейском участке начальник для проформы учинил ему нечто вроде допроса. Приведший его полицейский доложил:
– Он не хотел идти. Представьте, он вообразил, что он изобретатель Мартен, тот самый, кому памятник поставлен.
– Ишь как зазнался, – пробурчал начальник, с отвращением оглядывая жалкую фигуру.
– Никогда я ничего подобного не говорил, – всполошился Мартен. – Господин полицейский не так понял. Я только сказал, что меня тоже зовут Мартен, как и статую.
– Ладно, – сказал начальник своему подчиненному. – Сунь его в третий номер. И пусть не рыпается! А не то я велю отрубить ему башку.
Мартена выпустили под вечер: ему строго-настрого запретили шататься целыми днями по площади, пригрозив, что иначе ему расквасят морду каблуками. Угроза была совершенно излишней. Он с легким сердцем покинул квартал. Его даже не коснулось искушение оглянуться, хотя бы мысленно. Он чувствовал, что навсегда сбросил отвратительный гнет, что обрел новую молодость, и он улыбался в свою стариковскую бороду. Он шел и шел, через полчаса остановился в каком-то переулке и невнятно зашамкал, протягивая руку:
– Сжальтесь над бедным стариком. У меня на шее больная дочь и трое внучат.
Бродяжничая и питаясь чем бог послал, Мартен был почти счастлив. Жизнь его вышла из прежнего состояния неустойчивого равновесия, и воспоминание о ней становилось все туманнее, вызывая в нем тошноту. Он влачил свои дни в зверином одиночестве, которое давало ему ощущение полнейшей безопасности. Чего ему страшиться? В худшем случае он подохнет, только и всего, особых усилий не потребуется. К тому же Мартен об этом и не задумывался. Мозг его уже неспособен был изобретать, и он жил настоящим, наподобие собаки. У него бывали товарищи на час, которых он моментально забывал, расставшись с ними. Однажды вечером он сидел с двумя дружками в маленьком кафе, таком захудалом, что их присутствие не могло обеспокоить хозяина. Рюмка водки стоила пятнадцать су; каждый выпил по две. Их слабые головы разгорячились, и они пустились в рассказы о своем прошлом. Негласная этика игры предписывала принимать на веру самые чудовищные вымыслы. Когда Мартен заговорил в свою очередь, его голос звучал так правдиво, что его собутыльники даже смутились. Он начал так:
– Я уже не помню, был ли я счастлив. В тридцать четыре года я женился на очень богатой вдове. На миллионерше. У меня был особняк, слуги, автомобили, замок в Турени, виллы на берегу моря. Я носил монокль. Сорил деньгами направо и налево.
Несколько дней спустя случай привел Мартена на маленькую площадь, где он так часто сиживал. Он перешел ее, не узнавая и не обратив внимания на статую. И только смутное беспокойство заставило его ускорить шаг.