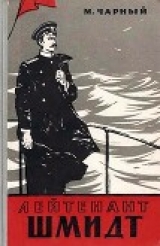
Текст книги "Лейтенант Шмидт"
Автор книги: Марк Чарный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Но тот аппарат тупоумия и жестокости, который находился в Петербурге, решил иначе. Сорок два матроса с «Прута» были отданы под суд. Заседания суда происходили за городом, в глухой Киленбухте. С берега всю местность на расстоянии версты от бухты оцепил батальон солдат – матросам не доверяли. Вход в бухту охранялся двумя миноносцами. Судей из зала суда доставляли на Графскую пристань тоже под охраной миноносцев.
Петров взял всю ответственность на себя и не просил пощады. Прокурор уговаривал его назвать других участников «Централки», обещая за это помилование. Петров отказался. Его и трех товарищей приговорили к расстрелу.
Как рассказывал потом защитник, товарищ Михаил мало думал о предстоящей казни; его больше интересовало, какой отзвук нашло в стране потемкинское восстание.
Защитники послали кассационную жалобу, просили отменить смертную казнь. Ведь даже по царским законам подсудимые не нанесли существенного ущерба ни судну, ни его командованию.
Но тот самый Чухнин, который совсем недавно обещал оставить случившееся без последствий, теперь, когда дело дошло до царя, своим твердым писарским почерком написал: «Жалобу и протест отвергаю, приговор конфирмую. Казнь привести в исполнение немедленно. Чухнин».
– А расстреливали вот здесь… – Гладков показал в сторону Константиновской батареи, которую было хорошо видно с палубы «Очакова». – И еще товарищ Петров успел крикнуть перед смертью: «Вместо нас встанут тысячи!»
– У-ух… – простонал Антоненко, потер кулаками глаза и стал тяжело подниматься по крутому трапу.
VIII. Народ заполняет улицы
Царь, его министры, генералы, адмиралы и прокуроры, негодуя, в страхе перед размахом народного движения, требовали неслыханно жестоких репрессий. Каторга, виселица, расстрел – эти приговоры выносились каждый день.
Газеты то и дело сообщали о расстрелах мирных демонстраций рабочих и работниц, требовавших хлеба; о виселицах, сколачиваемых на рассвете по всей огромной России; о длинных вереницах каторжан, что гремят кандалами на тысячеверстных дорогах Сибири.
Но странное дело: чем больше старались царские власти напугать народ, тем быстрее росли в стране не покорность и страх, а негодование и стремление покончить со всеми этими ужасами и с их виновниками.
Необыкновенная храбрость овладевала самыми мирными людьми. Безоружные рабочие лоб в лоб сталкивались с вооруженной казачьей конницей. Подростки разоружали городовых. Даже матросы, приученные застывать перед офицерскими погонами, стали все чаше и смелее выступать против «драконов».
Что может быть серьезнее угрозы смертью? Но бывают исторические эпохи, когда правда народа, правда истории выражены с такой ясностью, с такой экспрессией, что сама эта правда становится чудесной силой, вооружающей массы беспредельной отвагой. И тогда даже смерть отступает перед этой храбростью, а угрозы удваивают силы народа.
Как ни чудовищна была расправа с Петровым и его товарищами, как ни бесновался Чухнин, репрессии не испугали черноморских матросов. Наоборот. Они начали с требований увеличить жалованье и не обкрадывать на снабжении, но с каждым днем крепло убеждение, что не в этом суть. Корень – в самой системе помещичье-бюрократической власти.
Шестого октября началась забастовка железнодорожников. В течение нескольких дней стали все железные дороги империи. Замерла экономическая жизнь страны. Все с изумлением увидели, кто является подлинным двигателем жизни. Рабочий! Рабочий, которым помыкал любой купчишка, над которым мог безнаказанно издеваться любой городовой, в виде протеста сложил руки и остановил жизнь гигантской империи.
Лейтенант Шмидт был в восторге. От силы рабочего класса. От беспомощности ненавистной бюрократии. Движение, охватившее русское рабочее население, – это не только симптом пробудившейся гражданственности. Русские рабочие поняли, какое место они занимают в общем строе жизни, и вышли на борьбу за свои интересы. Их движение сливается с рабочим движением Запада, но вместе с тем это борьба за то, чтобы вывести Россию на путь широкого исторического развития, спасти ее от начавшегося разложения.
Шмидт исписал целые тетради размышлениями о рабочем вопросе. Да, недаром прошло полвека самоотверженной пропаганды социалистов. Лучшие представители интеллигенции пошли вместе с народом, вооруженные только любовью, верностью, наукой. Удивительная сила родилась от этого сочетания науки, любви и труда. Еще совсем, недавно, в годы Морского училища, разве мог восторженный гардемарин Шмидт представить себе тот могучий разлив сил, который сейчас, в 1905 году, очевиден для всякого, кто не закрывает глаз?
И ничто не остановит этого разлива – ни жестокость царских опричников, ни тюрьмы, ни каторга, ни виселицы.
Шмидт был с юности убежден, что социализм – исторически логичная и в конце концов неизбежная форма государственности. А кто прикоснулся умом и душой к социализму как к великой и благословенной исторической неизбежности, тот навсегда останется верен его идеям.
И кто знает, может быть именно России суждено повести цивилизованный мир к социализму? Да, конечно, именно России с ее огромным запасом нетронутых сил, которые только, начали приходить в движение. Если бы объединить и направить эти силы…
А пока действие этих сил лишило Шмидта переписки с Зинаидой Ивановной. Забастовка!
Господи, неужели надолго? Забастовка на Кавказе, например, продолжалась две недели.
Не в силах оторваться от общения с любимой, Шмидт продолжал писать ей. 11 октября он писал ей в шесть часов утра, потом в два часа дня, в семь вечера. Писал о том, как она нужна ему в эти дни, о пакостях Витте, о том, что ее тактика отказа от встречи жестока и грешна.
Он послал Федора отправить Зинаиде Ивановне в Киев ящик винограда. Федор вернулся домой с виноградом и сообщил, что отправка грузов и пассажиров прекращена.
Шмидт писал каждый день, и кипа неотосланных писем быстро росла. 15 октября он отправил в Киев телеграмму: «Мы отрезаны друг от друга. Поглощен общей работой. Не забывайте меня, будьте со мною в эти грозные дни».
В Киеве в эти часы было тревожно, как и в других российских городах. По городу разъезжали казачьи патрули и, увидев толпу, не задумываясь пускали в ход нагайки. По городу шли обыски и аресты.
К зданию университета не подойти: окружено войсками. Жандармы разгоняли студенческие собрания.
Том Лассаля в ярко-красном переплете уже лежал на столе у Зинаиды Ивановны, но отправить его не удавалось: почта не работала. Не было и писем из Севастополя.
Получив телеграмму, Зинаида Ивановна ответила: «Работайте, сочувствую, я около вас, будьте осторожны, лишиться вас для меня несчастье. Зинаида».
Она уже начинала приходить к мысли, что противиться приезду Шмидта и жестоко и, пожалуй, бессмысленно. Но теперь, это не зависело от нее.
Телеграмма Зинаиды Ивановны окрылила Шмидта. В Севастополе он был новичком, но его хорошо знали в Одессе моряки торгового флота, – многие из них прошли под его командованием не одну тысячу миль. И он начал писать одесским морякам, вкладывая в письма весь свой ум, всю страсть, убеждения, и сам с удивлением замечал, что важность момента вызывает слова необычайной силы.
Он призывал матросов торгового флота примкнуть к забастовке. Письма пришлось отправлять всякими оказиями, но они дошли. Кто учтет, какова была их роль? Но пароходное движение остановилось.
На Соборную, 14, то и дело прибегали реалисты и гимназисты. Они тоже волновались. В учебных заведениях были свои тираны. Жестокость и чиновничья сухость директора гимназии Ветнека славились на весь Севастополь. Но Петр Петрович видел суть дела не только в жестоком обращении с детьми. Эти чиновники в мундирах преподавателей делали все, чтобы превратить учащихся в идиотов и сыщиков.
Он ласково пожимал руки депутатам от учащихся, которые приходили к нему домой, и обещал вмешаться. В письме к учащимся старших классов Шмидт призывал к самоотверженной борьбе. «Мы, родители, сами обязаны стоять в рядах людей, готовых отдать жизнь свою за освобождение измученной России, и мы не можем, мы не имеем права скрывать от вас это. Бывают минуты в жизни народов, когда каждый должен отказаться от всех своих личных интересов и привязанностей, забыть свою личную жизнь и твердо идти к одной, общей для всех великой неотложной цели, идти до конца». «Стремление юности встать в ряды освободительной армии можно только приветствовать».
На улицах Севастополя необычное оживление. Сердца людей полны неясной тревоги и надежды, все чего-то ждут. В такие часы не сидится дома, людей тянет друг к другу, и они выходят на улицы.
Начальство усилило наряды полиции и выслало на улицы казачьи патрули. Но осмелевших севастопольцев это, казалось, ничуть не смущало.
Изменился облик центральных улиц и бульваров. Раньше здесь преобладали щегольские черные с золотом кителя морских офицеров и роскошные дамские туалеты, а теперь они растворились в массе дешевых пиджаков, косовороток и темно-синих матросских фланелевок, и по тому, как эти косоворотки и фланелевки двигались по Екатерининской, по Нахимовскому проспекту и Приморскому бульвару, чувствовалось, что происходит что-то необычное.
На площадях и перекрестках, сталкиваясь, собирались толпы людей, и потом никто не мог сказать, как возник митинг на Екатерининской улице. В какой-то миг толпа сгустилась и обратила внимание на музей Севастопольской обороны, на крыльце которого появился морской офицер с большим открытым лбом и призывным взглядом добрых глаз. В согнутой, как на молитве, левой руке он держал фуражку.
Он говорил о значении великой всероссийской забастовки. Это поднялся народ во всей своей могучей силе, требуя улучшения своего положения, требуя прав. Исход великой забастовки может быть только один. Родина, Россия будет освобождена. Она не может не быть освобождена.
Хотя эти простые слова давно созрели в сердце каждого, они прозвучали смело, потому что сказаны были вслух, открыто, в царской России, на улице, прямо перед дворцом Чухнина. И самое поразительное, что исходили они от офицера. В толпе немногие знали Шмидта, и слова «лейтенант Шмидт» передавались из уст в уста, вызывая восторг и удивление.
Усталый и счастливый вернулся Петр Петрович к себе и до поздней ночи просидел за письменным столом. Он готовился к новому митингу, который был намечен на завтра. Шмидт намеревался говорить об избирательном праве. Но завтра оказалось особым днем.
Семнадцатого октября во второй половине дня Севастополь ошеломило донесшееся из Петербурга известие о «Манифесте свободы»: Шмидт бросился в редакцию «Крымского вестника» читать только что полученные телеграммы. Да, манифест. С обещанием даровать стране «незыблемые основы гражданской свободы: действительную неприкосновенность личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».
Шмидт читал и перечитывал, потрясая рукой, в которой, как обычно, держал фуражку. Вокруг начали собираться типографские рабочие. Они с долей недоверия смотрели на морского офицера, его слова явно не сочетались с погонами, но сегодня все было необычно.
Рабочий со следами типографской краски на руках и лице протиснулся к Шмидту и сказал:
– Товарищ, там…
Горячая волна восторга подхватила Шмидта, когда он услышал слово «товарищ». Петр Петрович порывисто заключил рабочего в объятии. Их звали на улицу, где уже собралась толпа. Люди сидели на заборах, некоторые даже взобрались на столбы. Типографский рабочий с пахнущим краской листом в руках читал сообщение о манифесте.
Вдруг на беговых дрожках примчался полицмейстер Попов в сопровождении отряда казаков. Приподнявшись, низкорослый, с огромными усами Попов сердито закричал:
– Не сметь читать! Раз-зойдись!
Кто-то ответил ему:
– Не имеете права! Объявлена свобода слова!
Но полицмейстер по привычке продолжал кричать, а видя, что это не производит на толпу никакого впечатления, приказал казакам обнажить шашки. Конные казаки стали угрожающе наезжать на толпу.
Раздались крики:
– Долой казаков! Долой полицию!
В это время появился какой-то полковник, осведомленный, по-видимому, лучше Попова. Он что-то шепнул Попову, и полицмейстер с казаками исчез.
К возбужденной толпе обратился Шмидт. Вся ночная подготовка пошла насмарку. Он говорил без плана, но с той внутренней последовательностью и силой, которые идут от сердца и убежденности.
– Царское правительство испугалось собственного бессилия. Испугалось поднявшегося народа. Кто завоевал свободу? Рабочий, рабочий! – крикнул Шмидт и снова обнял стоявшего, возле него печатника. В толпе громыхнуло «ура» и, нестройное, восторженное, понеслось по чинному Приморскому бульвару.
– Одно дело – завоевать свободу, другое – воспользоваться ею. Кто воспользуется свободой? – поднимая руку, гремел Шмидт, и в голосе его вдруг прозвучали металлические нотки. – Мы, рабочие, должны довести свои требования до конца…
В глубине толпы огнем вспыхнуло красное знамя. И снова «ура» прокатилось по бульвару. Оно прокатывалось волна за волною, как вдруг на эстраде появился молодой человек и привычным жестом оратора призвал к тишине.
Молодой человек произнес слово, которое, впервые произнесенное открыто, перед массой народа, свидетельствовало о необыкновенных, радостных переменах. «Мы, социал-демократы…»
– Мы, социал-демократы, знаем, что манифест – это еще далеко не все. Свобода слова обещана, но цензура не отменена. Дана конституция, но самодержавие остается. Обещана неприкосновенность личности, а тюрьмы переполнены политическими заключенными.
– Освободить! Освободить!
Людей тысячи, но мысль одна, воля одна, желание одно.
Откуда-то появился оркестр, и над толпой полились хватающие за душу звуки «Марсельезы».
Все обнажили головы. «Марсельеза» звучала смелым призывом к всеобщему обновлению. Рядом со Шмидтом стояли печатник, социал-демократ, какая-то девушка, он был окружен толпой счастливых людей и, стоя с обнаженной головой, чувствовал, что глаза его наполняются слезами радости и счастья.
Сквозь толпу протискивался какой-то офицер. Он демонстративно не снял фуражку, губы у него кривились презрительной усмешкой. Да это Миша Ставраки!
Не здороваясь, он спросил у Шмидта:
– Почему играют французский гимн, а не русский?
Шмидт увидел презрительно-враждебную гримасу, но не сразу понял суть вопроса. Ему показалось, что с ним говорит не русский, а какой-то иностранный офицер.
– Да как же… – удивленно ответил он. – Ведь сегодня Россия сбросила иго тирании. Мы, русские, слушаем песнь победы, песнь свободы… Разве не ясно? Каждый имеет право обнажать голову перед тем, что считает достойным.
– А я имею право раззнакомиться с вами… – резко произнес Ставраки и повернулся кругом.
– Да, да, по-видимому, так и должно быть, – прежним радостно-удивленным тоном отозвался Шмидт, обращаясь к окружавшим его рабочим.
Тысячная толпа, собравшаяся на Приморском бульваре, вышла на Нахимовский и со знаменами и оркестром двинулась по проспекту.
Встречные присоединялись к демонстрации или, оставаясь на тротуарах, снимали головные уборы.
Попадались и офицеры.
– Господа, – замечая офицеров, говорил им Шмидт, – не стыдитесь, почтите великий, святой праздник освобождения России!
Но офицеры торопливо проходили мимо, одни с видом надменным и холодным, другие с выражением лица робким и пристыженным.
«Как далеки эти господа от вскормившего их народа», – с горечью думал Петр Петрович.
Вечером на Приморском бульваре снова возник митинг. Кончился он, однако, не так благополучно, как дневной. Снова выступали представители социал-демократической партии и Шмидт. Была принята резолюция потребовать освобождения арестованных потемкинцев и других политических заключенных.
Затем толпа участников митинга, обрастая по дороге сочувствующими, двинулась из центра по узким, крутым севастопольским улицам к тюрьме.
Приземистая, точно вросшая в землю севастопольская тюрьма была окружена широкой, обмазанной глиной и мелом стеной. Подступившая к ней толпа была так велика и празднична, что мрачное узилище казалось особенно нелепым.
Быстро опустилась темная южная ночь. За тюремным забором в узких окошечках появились огоньки. Они подействовали на толпу, как мольба томящихся там товарищей.
– Освободить! Освободить!
Люди призывали взять тюрьму приступом. Шмидт успокаивал нетерпеливых: «Свобода не нуждается в насилии!»
Он отправился на переговоры с администрацией. Разве ей неизвестен манифест, провозгласивший свободу слова, собраний, совести? Но ведь в тюрьме многие томятся именно за слово, за убеждения. Даже по царским законам теперь они должны быть освобождены.
Начальник тюрьмы, толстяк с багровым лицом, обещал «снестись», потом наконец сообщил, что через двадцать минут политические будут освобождены.
Толпа в радостном ожидании колыхалась у тюремной стены, как морской прибой. Выкрики, обрывки песен, веселое оживление.
Вот ворота тюрьмы шевельнулись, заскрипели петли и запоры.
– Ура-а!
Но едва вспыхнувшее «ура» замерло. Внутри тюремного двора стоял военный караул с винтовками на изготовку. Резкая команда – залп.
Крики ужаса, боли, негодования.
Рядом со Шмидтом упала, схватившись за грудь, черноволосая девушка. Пронесли залитого кровью рабочего.
Какой-то матрос, придерживая левой рукой правую, с дикой бранью начал взбираться на тюремную стену.
Бледный Шмидт помогал увозить раненых, успокаивал плачущих, но сам чувствовал, что в нем что-то оторвалось, что теперь все должно измениться.
Когда были убраны трупы и увезены раненые, народ во главе со Шмидтом среди ночи отправился к городской думе. Шмидт потребовал экстренного вызова гласных. Через его руки проходили телеграммы протеста, которые на ходу, задыхаясь от негодования, составляли представители разных слоев населения.
Восемь человек было убито, около пятидесяти ранено.
Дума заседала всю ночь и день.
А на Приморском бульваре снова шумел митинг, организованный социал-демократами. Вот они, бумажные обещания царя! Не успела высохнуть краска на манифесте, как царские прислужники снова совершили убийство невинных безоружных людей. Митинг потребовал наказания виновных в убийстве.
Были выбраны депутаты от народа, которые присоединились к гласным в думе. Им было поручено внести на утверждение думы намеченную на народных собраниях программу. С согласия думы или без него народный митинг потребовал установить в городе новый порядок.
Среди избранных народом депутатов был лейтенант Шмидт.
В думе сразу привлек общее внимание необычный оратор. Человек средних лет, в черном сюртуке с погонами и медными флотскими пуговицами, он говорил просто, без аффектации, но с таким внутренним подъемом, что притягивал к себе все взоры. Это был Шмидт.
Едва он закончил речь, как в зал вошли депутаты, избранные на митинге. Их было человек тридцать, рабочих, социал-демократов. Революционная улица с атмосферой народного брожения ворвалась в чинный зал думских заседаний. Депутаты потребовали предания суду властей, виновных в убийстве у тюремных ворот, и создания городской милиции, а также выдвинули требования общероссийского, политического характера.
«Отцы города», привыкшие с оглядкой решать проблемы починки местных тротуаров, смутились. Тогда депутаты заявили: гласные думы не являются подлинными представителями города, так как избраны кучкой состоятельных жителей. А народ находится за пределами зала заседаний. Он ждет ответа. Он разгневан подлым убийством. Если его требования не будут немедленно удовлетворены, никто не поручится за последствия.
Лейтенант Шмидт немедленно присоединился к социал-демократам.
Под натиском народных избранников почтенные гласные были вынуждены принять энергичные решения. Вся дума в полном составе последовала за Шмидтом к коменданту крепости и потребовала убрать войска с улиц города.
Войска исчезли. На улицах не осталось ни одного казака. В городе появились патрули из рабочих, которые наблюдали за порядком.
Дума требовала освобождения потемкинцев.
Дума требовала удаления полицмейстера.
Еще одно предложение Шмидта приняла дума под давлением возмущенного народа. На стенах думы, до сих пор покорной служанки «властей предержащих», будет вывешен на вечные времена пергамент с именами начальствующих лиц, совершивших гнусное убийство свободных граждан. Пусть вечный позор падет на головы убийц!.
Имя Шмидта облетело весь город. На улицах его узнавали, и уже несколько раз при его приближении раздавались возгласы: «Да здравствует Шмидт!» В думе в знак благодарности в его честь провозгласили «ура».
Он был счастлив, но чувствовал себя безмерно усталым. За последние пять суток морщины так глубоко прорезали его лицо, точно он постарел лет на пять.
Ночью 19 октября он возвратился к себе на Соборную. Флигелек, письменный стол, фотоснимки Зинаиды Ивановны возвратили его к привычным ассоциациям. Отдышавшись, он взялся за письмо Зине с рассказом об этих необыкновенных днях.
«Здравствуйте, дорогая подруга моя, здравствуйте, моя опора, моя сила, моя радость. Здравствуйте, свободная гражданка. Я жил эти дни так, как не удается жить никому никогда. Горел… Ваша телеграмма, что вы со мной, не покидает меня ни на минуту, я живу ею. Живу вами. Радость моя, подруга моя, я люблю вас всей силой духа. Если я не буду предан военному суду за политические убеждения, явно мною выражаемые и подрывающие невольно доверие народа к моему прямому военному начальству, то, конечно, после всего пережитого приеду к вам. Я требую этого. Я имею на это право. И нет силы, которая может остановить меня. Приеду отдохнуть дня на три, когда жизнь города войдет в колею и когда достану денег, теперь не густо. Думаю, что ошеломленное начальство побоится арестовать меня, так как слишком велика власть народа в эти дни и велика моя популярность в городе. Если это и был фейерверк, то он принес много пользы. Если же арестуют надолго, то приезжайте вы. Не спал три дня».








