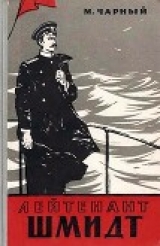
Текст книги "Лейтенант Шмидт"
Автор книги: Марк Чарный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)

Марк Чарный
Лейтенант Шмидт
Коротко об авторе
М. Чарный родился в 1901 г. в семье служащего. В начале 1918 г., еще гимназистом, начал сотрудничать в большевистских газетах. В августе 1919 г. отправился на Восточный фронт. В марте 1920 г. вступил в КПСС.
После гражданской войны был откомандирован в Москву и возобновил работу в газетах. Много лет М. Чарный работал журналистом, пройдя все ступени газетно-журнальной лестницы – от организатора рабкоров до ответственного редактора («Рабочая газета», «Вечерняя Москва», «Известия», «Литературная газета», «Красная Нива», «Октябрь») и корреспондента ТАСС во Франции и Италии.
Работая, М. Чарный кончил Институт журналистики, факультет общественных наук Московского университета, Институт красной профессуры литературы. В годы Отечественной войны был корреспондентом в Военно-Морском Флоте.
Помимо многочисленных статей и очерков, М. Чарный написал более ста журнальных работ и десять книг, главным образом литературно-критического характера. Наиболее значительные из них – «Певец партизанской стихии» и «Жизнь и литература». Некоторые из работ М. Чарного были переведены на иностранные языки и изданы за границей.
Историческая повесть М. Чарного о герое Севастопольского восстания лейтенанте Шмидте – одно из первых художественных произведений об этом замечательном человеке. Большая часть книги посвящена Севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. и судебной расправе со Шмидтом и очаковцами. С волнением читаются страницы о романтической любви Шмидта к почти незнакомой ему женщине. В книге широко использован документальный материал исторических архивов, воспоминаний родственников и соратников Петра Петровича Шмидта.
Автор создал образ глубоко преданного народу человека, который не только жизнью своей, но и смертью послужил великому делу революции.
I. Встреча в Киеве

Двадцать второго июля 1905 года лейтенант Шмидт сошел с поезда на киевском вокзале. Он был в форменной фуражке и черном плаще, не соответствовавшем погоде. Стоял один из тех жарких летних дней, когда улицы заливает зной, не смягчаемый ни дуновением ветерка, ни близостью днепровской воды. Впрочем Шмидт, одессит по рождению, моряк, привыкший к южным широтам, легко переносил жару. А плащ имел особое назначение: прикрывал погоны офицера императорского военно-морского флота, которые Шмидт имел основание не демонстрировать слишком откровенно.
Лейтенант направлялся из Измаила, где стоял его миноносец, в Керчь к сестре Анне; ее осложнившиеся семейные дела требовали вмешательства брата. Обращаться с просьбой об отпуске к начальству было делом долгим и почти безнадежным. И он решился на самовольную отлучку. Добираться в Керчь морем было рискованно: его наверняка узнали бы, и тогда не удалось бы избежать неприятностей. Поэтому он предпочел кружный путь по железной дороге. В Киеве – пересадка.
Оказалось, что поезд в Крым отходит поздно вечером. Куда девать время? Петр Петрович прошелся по опустевшему вокзалу, купил местные газеты. Морщина боли и презрения пересекла его лоб. В империи кипело, как в котле. Забастовки, протесты, нескрываемое негодование. Только недавно, как факел, озаривший весь мир, вспыхнуло восстание на «Потемкине». Вот-вот, кажется, клокочущий пар взорвет котел и все разнесет вдребезги… А газеты!.. На первой странице и других видных местах – аршинные буквы объявлений: «Олимп. Дирекция I. М. Хржановского. Пари ки данс. Танцующий Париж. Дебют Бетти Беттини, Паласи, Конрада, Станиславской». И еще много других Бетти, обещающих немало удовольствий.
«Совершеннейшие в мире галоши «Колумб»! – кричит крупный косой шрифт, сопровождаемый рисунком новехонькой подошвы. – Не скользят и предохраняют от несчастных случаев. Крещатик, 23». Рядом с галошей императорский двуглавый орел.
Галоши лейтенанту не нужны. Вот бега… Съездить разве, убить несколько часов?
Ипподром. Столики. Бегут лошади, выбрасывая длинные стройные ноги. Рядом делают ставки. Но жара, видимо, обладает способностью умерять страсти и погашать азарт. Игра идет вяло, люди бродят между столиками, то и дело присаживаясь, чтобы заказать прохладительное, и лениво бросая взгляды за барьер, где бегут лошади.
Лейтенант Шмидт смотрит не столько на лошадей, сколько на людей, развлекаясь обычной игрой: по лицу, жестам, походке человека, манере носить шляпу пытается определить его профессию, занятия, характер. Последние десять лет Шмидт провел больше в океане, чем на суше, почти все время в дальних плаваниях, и видел мало людей, если не говорить об экипаже корабля. Видимо, этим теперь и объяснялось его острое любопытство к людям.
Вот господин в сером котелке, самоуверенно сдвинутом на затылок, с добродушным брюшком, ходит неторопливо, мелкими шажками… Ну ясно: десятин пятьсот, собственный дом в Киеве. Занятия… гм, зимою вист, брань по адресу смутьянов, колеблющих державу…
А за тем столиком женщина. Что я знаю о ней? Ничего. Нет, неверно, уже знаю. Она сидит как-то неуверенно, бочком, и смотрит… смотрит в никуда. Какой печальный взгляд. И глаза какие-то нерусские… испанские. Что такое красивые глаза, о которых толкует каждый гимназист, каждая барышня? Понимают ли они, что кроется за этими привычными, опошленными словами? Это не цвет, не размер – «большие глаза», не форма… Все это пустое. Жизнь, характер, неуловимые, самые затаенные движения души – вот что такое глаза.
Женщина повернулась. Теперь она смотрит в чашку своего холодного кофе, но не замечает его. Вот она почувствовала мой взгляд, и ей стало неловко. Как приятна эта неловкость! Жаль, что она отвернулась. Но все равно она чувствует мой взгляд. Чуть вздрагивает ее круглое плечо, обтянутое легкой материей. И движение руки, протянувшейся к чашке, затрудненное, нарочитое, – оно должно помочь справиться с неловкостью.
Лейтенанту тоже стало неловко. Кажется, он смутил даму. Это нехорошо. Он заставил себя резко повернуться, и под ним громко заскрипел стул. Шмидт углубился в газету. Галоша «Колумб», осененная императорским гербом, маячила у него перед глазами. Из-за строчек статьи о проблемах городского водопровода он, не подымая глаз, видел круглое плечо с кружевным буфом у рукава и чувствовал взгляд испанских глаз.
Бега кончились. Петру Петровичу казалось, что незнакомка давно интересует его. Он уже не раз думал о том, что между людьми, близкими друг другу какой-то внутренней духовной общностью, существует незримая связь еще до того, как они сталкиваются где-нибудь на жизненных путях. Они инстинктивно ищут друг друга в бесконечных толпах людей, наполняющих города и дороги. Можно искать долго, годы и годы, можно жить, работать, внешне даже преуспевать, но весь грохот жизни не в состоянии заглушить тоски незавершенного искания, которая живет в затаенной глубине души, заставляя ждать, ждать, ждать…
Но если они столкнулись – достаточно мелочи, взгляда, одного касания, и, счастливые, они безошибочно узнают друг друга.
Лейтенант решительно поднял голову. Боже, как он не почувствовал, что женщина только что вышла из-за столика? Вот она уже удаляется. Не одна. С ней дама и какой-то мужчина. Она уходит медленно, словно нехотя, но уходит. Она среднего роста, молодая, стройная. Большая шляпа на ее голове, надетая по моде чуть набок, покачивается, как лодка на легкой летней волне.
Шмидт следил за этой лодкой, пока она не скрылась в пестрой толпе светлых и темных платьев, пиджаков и мундиров. Следил, не смея сделать ни шагу. Проклятые условности! Неужели это уходит счастье, впервые промелькнувшее так близко?..
Побродив по городу, пообедав в ресторане, прочитав в газетах все статьи и объявления, Шмидт, уставший и все еще взволнованный, поздно вечером вернулся на вокзал. Поезд был уже подан. Огромный косолапый носильщик в фартуке с медной бляхой получил в камере хранения чемодан и быстро потащил его к вагону второго класса, беззастенчиво задевая встречных. В вагоне за стеклами фонариков тускло горели свечи, их убогое пламя вздрагивало с каждым хлопком вагонной двери. Шмидт шел за носильщиком.
Хотя пассажиров в вагоне было немного, носильщики спорили из-за мест, привычно обшаривая полутемные уголки купе.
– Вот здесь, ваше благородие, – сказал косолапый и по-хозяйски задвинул чемодан на полку.
У окна было свободное место. Шмидт сел, снял фуражку и взглянул на соседа напротив. Нет, на соседку!
– Вы? – изумленный, он даже привстал, широко раскрытыми глазами глядя на «испанку». – Вы б-были сегодня на бегах? Из-звините… я вас, кажется, видел…
Женщина была изумлена не меньше. Какое странное совпадение… Тот самый господин, который сегодня на бегах смутил ее своим пристальным взглядом.
– Да, – ответила она нарочито холодным тоном.
Оказывается, она не собиралась ехать этим поездом.
Договорилась с сестрой о семичасовом, дачном, опоздала и теперь попала на дальний.
Шмидт был не в силах оторвать взгляда от своей соседки.
– Можно ли верить в судьбу? – Он больше размышлял вслух, чем спрашивал. Он был убежден, что эта встреча не могла быть случайной. – Извините, если мое поведение…
– Нет, что вы… – заученно ответила дама, однако поднялась со своего места и перешла в другое отделение. Странный человек, странный… Но места в другом отделении не оказалось. Чего же, собственно, бояться? Почему бежать? И ехать ей только до Дарницы, минут сорок. Она вернулась и села на прежнее место.
– Я понимаю, – продолжал незнакомец, – вы можете счесть меня искателем приключений, даже вагонным шулером… Уверяю вас, очень скоро вы убедитесь, что это не так. Неужели люди не могут разговаривать просто, по-человечески, как хочется… отбросив весь этот груз условностей…
Он говорил так убежденно, в глазах его светилась такая искренность, что женщина не только перестала бояться его, но, безошибочным женским чутьем угадав воздействие своего обаяния, почувствовала себя уверенно.
– О чем разговаривать совершенно незнакомым людям? Мы встретились пять минут назад, а через тридцать расстанемся, потому что я схожу в Дарнице, – слегка усмехнувшись, сказала она.
– Тем более! – воскликнул Шмидт. – Мне надо так много сказать вам…
– Кажется, вы морской офицер, а я было приняла вас за почтового чиновника! Я плохо разбираюсь в формах.
Зинаида Ивановна (так звали даму) уже отметила про себя большой лоб с глубокими залысинами и мягкий взгляд больших светлых глаз. Скромные усы опущены книзу. На плечах топорщатся погоны. Повешенный в углу купе черный плащ застегивается на груди медной пряжкой в виде львиной головы. Этакий добропорядочный интеллигентски-профессорский плащ.
Вскоре разговор выбился из недр условностей. Зинаида Ивановна язвительно заметила, что теперь не очень большая честь быть морским офицером, если вспомнить о «доблестном» ходе и исходе японской войны.
Шмидт рассмеялся, но тут же сказал, что смешного в этом мало. Он мог бы многое рассказать ей о войне. Виноваты не матросы и даже не офицеры, которых связывает по рукам и ногам вся бюрократическая система империи. Русский флот еще скажет свое слово. А «Потемкин»? «Потемкин» – это сигнал.
– Кому?
– Народу. И векам.
Шмидт говорил, что, хотя имеет военное образование, предпочитал служить в коммерческом флоте и только в связи с японской войной снова призван в военный флот. Сейчас он командует миноносцем.
Зинаида Ивановна была замужем, но с мужем разошлась, разошлась «по-современному», дружески, и теперь живет одна. Шмидт изумился. Какое совпадение! Он тоже был женат, тоже разошелся с женой, но нет, совсем не дружески. Такая грязь, такая гнусность… Лучше не вспоминать… Сыну его уже семнадцатый год.
Разговор шел так легко и непринужденно, что Шмидт испугался, обнаружив, что до Дарницы осталось минут, десять, не больше. В полумраке блестели большие испанские глаза Зинаиды Ивановны. Шмидт поднялся:
– Простите меня… У меня просьба, которая, может быть, покажется вам дикой. Разрешите мне писать вам.
Зинаида Ивановна насторожилась, как в начале встречи. Получасовой вагонный разговор… ну, это куда ни шло. Но переписка? На каком основании?
– Вы очень… оригинальны. И смелы. Но смелость хороша на войне…
Она дружелюбно заглянула в покорные, просящие глаза лейтенанта.
– Очень, очень прошу вас, – тихо сказал он. – Вы и сами понимаете, что я никогда не позволю себе ни жеста, ни слова, которые могли бы обидеть вас.
Его лицо, белевшее в полумраке, было освещено такой добротой и искренней мольбой, что жестоко было бы обмануть его ожидании.
Поезд замедлял ход. За окном уже мелькали одинокие огоньки пристанционных построек.
– Дарница, Лесная, 25, – быстро сказала Зинаида Ивановна и ужаснулась.
– Спасибо, – растроганно поблагодарил Шмидт и назвал свой адрес: – Измаил, миноносец № 253. Надеюсь, вы мне ответите?
– Если письма будут интересными, если они будут стоить…
Шмидт рассмеялся, спустил свой чемодан и вынул большую красную коробку – «Сухое варенье. Балабуха».
– Возьмите.
– Нет, нет, благодарю вас! Если вы всем попутчицам будете раздавать конфеты, от лейтенантского жалованья ничего не останется.
Шмидта забавляло задорное остроумие собеседницы, но он умолял принять этот скромный подарок. Этих конфет Зинаиде Ивановне хватит на неделю, и она волей-неволей будет вспоминать своего странного спутника.
«Именно странного», – подумала она, принимая коробку и поднимаясь – поезд подходил к станции.
Шмидт протянул руку. Миг замешательства. Казалось, она не решалась протянуть ему свою. Нет, она подала руку. Шмидт склонился в поцелуе. Зинаида Ивановна вздрогнула.
– Очень прошу вас, Зинаида Ивановна, если вам будет тоскливо, одиноко, тяжело, вспомните обо мне, не скрывайте от меня ничего… Может быть, мне удастся помочь вам.
– Спасибо, – сказала она и легко вышла из вагона. Шмидт вышел за нею, остановился у ступенек и проводил взглядом фигуру женщины, быстро таявшую в ночной темноте.
У дверей вокзала Зинаида Ивановна оглянулась. На темном фоне двери четко выделялся белый морской китель лейтенанта.
II. Переписка начинается
В Измаиле жара и скука. Гнетущую тишину нарушает только резкое кваканье лягушек. Нудный ритуал службы. Миноносец раскален безжалостным солнцем. А в России до предела накалены социальные страсти. Позорная японская война, расстрел мирной демонстрации у Зимнего дворца, забастовки рабочих, служащих, студентов, профессоров, адвокатов, врачей, дворников – кто только не торопился высказать свое недовольство и протест! А восстание на «Потемкине», показавшее всему миру, каким негодованием охвачена страна? И все это – в один год.
В Измаиле же унылая тишина, и событие, приковавшее умы «общества», – это несколько эксцентричное поведение молодой вдовушки. Надо же было попасть в этакую дыру!
Шмидт заставил себя испробовать обычные способы борьбы с одиночеством. В океане, где-нибудь между Калькуттой в Гонконгом, в долгие часы, когда судно шло нормально и присутствия капитана на мостике не требовалось, он спускался в каюту, доставал из футляра свою виолончель и, воскрешая мелодии Моцарта и Чайковского, отдавался сладостному волнению, знакомому с детства.
Но сейчас это средство почти не действовало – привычное утешение не приходило. Может быть, он привык к сочетанию утонченной музыки и безбрежности? Нет, не в этом дело. Он слишком близок к тому, что творится на родной земле. Близок и нелепо далек.
Был у Шмидта еще один способ скрашивать часы одинокого досуга. Он писал акварелью бесхитростные пейзажи приморских поселков, любил портретные зарисовки.
У него скопилась порядочная коллекция самых разных лиц, написанных во всевозможных портах земного шара и на долгих морских путях между ними: корейских кули, жидкобородых китайских стариков с мудростью стоиков во взгляде, арабских грузчиков с печатью страданья на потных шоколадных лицах. Но больше всего было портретов простых русских матросов.
Шмидт любил рисовать матросские лица. Он запечатлевал их во время отдыха и в часы вахтенного напряжения. Вглядываясь в эти лица, особенно в лица пожилых матросов, он не переставал удивляться скрытой в них душевной силе, умному и ясному выражению глаз. Ему вспоминался «Крестьянин с уздечкой» Крамского, другие его крестьяне, виденные как-то в Петербурге на одной из передвижных выставок, и гневное изумление начинало жечь его сердце.
Это удивительно! Честные, непредубежденные, талантливые люди – писатели, художники, композиторы, ученые – давно открыли миру широкое душевное богатство русского человека из народа, его ум и благородство. Никак не могут открыть этого только господствующие, царствующие, управляющие, третирующие великий народ как «мужичье», недостойное человечного обращения. В многолетних плаваниях по чужим морям Шмидт имел много поводов для горестных раздумий и сравнений. Немало видел он нищеты, гнета, несправедливостей, но, кажется, ни в одной цивилизованной стране не встречал такого глупо-жестокого отношения к народу, как в империи Романовых.
Сколько это может продолжаться? Подземные толчки раздаются то тут, то там, накапливаются вулканические силы. Он заговорит, вулкан, он заговорит!..
А тут – Измаил. Или адмирал Чухнин намеренно загнал лейтенанта Шмидта в глушь, подальше от Севастополя с его беспокойными матросами, дерзкими рабочими и «умничающими» интеллигентами?
Пронесся же в Севастополе слух, будто восстание на «Потемкине» возглавил лейтенант Шмидт. Нелепый слух. В дни восстания Шмидт находился далеко и сражался с тяжелым приступом болезни почек. Но репутация вольнодумца уже вилась над ним.
Сын адмирала, Петр Петрович Шмидт с детства привык к морю и среде моряков. В одесской квартире, где прошли его детские годы, из всех окон открывался сверкающий морской простор. Поэзия моря вошла в его душу вместе с любовью к музыке, с обожанием матери – деликатной, грустной, самоотверженной, восторженной идеалистки. Никогда не забыть ему и отца, властного до самодурства, необычайно вспыльчивого и резкого.
Демократические веяния шестидесятых годов оставили глубокие следы в чуткой душе матери. Аристократка по происхождению, она много читала, мечтала о добре и образовании. Она подала заявление в Одесский университет с просьбой допустить ее к экзаменам за весь курс юридического факультета. Ей отказали, как женщине.
Шестнадцати лет Шмидт приехал в Петербург и поступил в Морское училище. Отцовская линия нашла продолжение в деревянно-формальном преподавании, в муштре, в отвратительных развлечениях гардемаринов, для которых пошлость была привычкой, а разврат доблестью. Но и материнская линия не заглохла, побуждая читать книги, зовущие к добру и будящие мечту о подвиге.
Шмидт – юноша в матросской форменке, с нежным овалом лица, копной мягких волос и сосредоточенным взглядом чистых светлых глаз – жадно набросился на книги. Интересы этого гардемарина не ограничивались морскими походами и чтением романов о пиратских набегах. Он читал статьи Михайловского, которыми зачитывалась тогда российская интеллигенция, размышлял над горькой судьбиной мужика, знакомился с иностранными авторами. Он был потрясен Достоевским. И, бродя по хмурым петербургским улицам, наблюдая толпы униженных и оскорбленных, угадывал: вот идет Мармеладов…
Интерес к социальным вопросам соперничал в его душе с любовью к морю. Одаренного ученика вскоре прозвали «магистром». У «магистра» был товарищ, которого он знал еще в детстве, – Миша Ставраки. В недавние годы они страстно увлекались мальчишескими играми, и милые воспоминания об одесских днях, о которых он, опасаясь сентиментальности, старались говорить в ироническом тоне, сближали их в сумрачно-строгом петербургском Училище. Но вскоре случилось так, что Петя Шмидт стал все больше времени и внимания уделять другому. Анекдоты и гардемаринские похождения Миши Ставраки уже не развлекали его.
Другого нового товарища Шмидта звали Шелгунов. Фамилия эта была хорошо известна русской интеллигенции во второй половине XIX века. Отец ученика Морского училища Н. В. Шелгунов, писатель-публицист, привлек внимание читателей к социальным вопросам, заставив задуматься, в частности, о роли пролетариата, который в то время начал быстро расти в России. Юный Шмидт бывал в семье Шелгуновых.
Гардемарины, блестящие кавалеры и завидные женихи, волновали сердца салонных барышень, влекли расчетливые взгляды мамаш и слегка тревожили начальство своими шалостями в местах приличных и не очень приличных. Но «магистр» Шмидт и два-три его товарища, забираясь в укромные уголки, читали и страстно спорили об общественных проблемах, социалистических учениях, о статье Михайловского, книге Милля. В помещении Морского училища друзья завели гектограф и размножали на нем некоторые достойные произведения, например «Исторические письма» Миртова.
Юный энтузиаст в морской форме, Шмидт с негодованием говорил о грубости, пошлости и развращенности среды, в которой ему приходится жить, ставил под сомнение пример отца, деспота даже в собственной семье. Намечтавшись о добром, чистом, справедливом, он так хотел сам сделать что-нибудь героическое, достойное этой мечты.
Получив первый офицерский чин, мичман Шмидт приехал в отпуск к семье в Бердянск. Здесь была похоронена мать. Окрестности этого южного городка были насыщены прелестью и покоем. Походы в море на лодке в поэтическом одиночестве и книги, книги, книги… Можно читать, не оглядываясь ни на какое начальство. И вдруг мичман Шмидт, гордость семьи, привел в замешательство отца, адмирала в отставке, и сестер странной фантазией: он решил поступить на местный завод сельскохозяйственных орудий. Помилуйте, зачем? Что делать? В каком качестве? Поработать. Рабочим. Зачем? Чтобы лучше познакомиться с рабочими.
Шмидт сбросил офицерский мундир и надел рабочую блузу. Возвращаясь вечером к нетерпеливо и тревожно ожидавшим его сестрам, усталый и возбужденный, он рассказывал о хороших людях и тяжелых условиях труда, о новом, что каждый день открывалось ему в убогих цехах маленького завода.
А осенью, уже в Петербурге, девятнадцатилетний мичман встретил на улице женщину. Она была миловидна, но почти неграмотна, молода, но уже в положении весьма двусмысленном. Вот случай. Разве не следует помочь человеку? Тем более женщине! С детских лет его окружала женская забота и ласка – матери, сестер. Под влиянием светлой памяти доброй, самоотверженной матери он создал культ женщины-друга. А это юное существо на петербургской улице! «Подойдем-ка мы к ней и расспросим, как дошла ты до жизни такой».
Вот подвиг! Надо поднять человека, просветить, пусть заиграют в нем лучшие стороны души. И подвиг совершен – мичман Шмидт женится на девице из мещан Доминикии Гавриловне Павловой.
Возможно, это было первым крушением иллюзий молодого Шмидта. Мещанка Доминикия обнаружила полное равнодушие к наукам и предельное презрение ко всем интересам и мечтам законного супруга, но зато проявила незаурядный интерес к деньгам. Она родила сына Евгения, и даже интерес к сыну оказался куда мельче страсти к тряпкам, деньгам и развлекавшим ее мелким и крупным пакостям.
Подвига не получилось, жертва оказалась напрасной. Шмидт ушел из военного флота в коммерческий и целые месяцы охотно проводил в дальних рейсах. Он давно заметил, что море и небо вносят в его душу мир и спокойствие. Возвращаясь домой, он находил не дом, а разоренное гнездо и полубеспризорного сына.
Семейная жизнь, такая чистая по замыслу, получилась отвратительной, безобразной на деле. Добрый и снисходительный, он мысленно наградил жену орденом «Черной души». Ему удалось добиться того, что сын, Женя, остался с ним: эта удивительная мать легко отказалась от сына. Наконец, он совсем разошелся с женой.
И вот теперь эта встреча в Киеве. Встреча, которая кажется ему ниспосланной провидением. На обратном пути из Керчи в Измаил он снова провел сутки в Киеве, мечтая о чуде новой встречи и боясь ее. Он снова пошел на бега. Однако чуда не произошло.
Он написал Зинаиде Ивановне из Киева, и с пути, и тотчас по приезде в Измаил. Он писал обо всем. О том, как мечтал о встрече, сознавая, что лучше ее избегать, и что снова пошел на бега, надеясь все-таки встретить Зинаиду Ивановну. И подписался: «Ваш дикий попутчик, П. Шмидт».
Зинаида Ивановна ответила. Так началась переписка, нашедшая отражение в поэмах, так началась необыкновенная любовь замечательного человека, кончившаяся так трагически.
Шмидт писал, доверчиво раскрывая все порывы истомленной одиночеством души. Болезненно пережитая неудача с женитьбой сначала оттолкнула его от людей. С тех пор прошло полтора десятилетия. Теперь, когда он был захвачен живым ощущением революционной бури, еще настоятельнее стала потребность в близком человеке, в друге.
Зинаиду Ивановну удивил внезапно обрушившийся на нее поток чувств, признаний, призывов. Что это: сентиментальность начитанного чиновника, которому хочется казаться влюбленным? Или банальное ухаживание ловеласа, пытающегося трескотней красивых слов оглушить молодую женщину? Не похоже. Байронически-печоринские позы были тогда в моде среди некоторых кругов интеллигенции. Но этот офицер… Он уже не первой молодости, бывалый моряк, потом… Что-то трудно уловимое в его словах, жестах, интонации говорило не только о культуре, но о чистоте и убежденности. О, если бы она не почувствовала этого, не было бы ни разговора в вагоне, ни обмена адресами. И все же… странный попутчик, странный корреспондент…
И Зинаида Ивановна отвечала с осторожной сдержанностью. На пять писем Шмидта ответом было одно. От неуверенных подозрений она перешла к нападкам, обвиняя Шмидта в том, что он подозрительно быстро обнаружил «сродство душ», что он, пожалуй, слишком сентиментален, а в своей попытке так быстро завоевать «душу» несколько самонадеян.
С чувством превосходства, которое подчас невольно обретают даже самые простодушные женщины, почувствовав силу своего воздействия на мужчину, Зинаида Ивановна писала Шмидту, что его тоска не слишком оригинальна, а красивые фразы шумны, но малосодержательны.
Эти обвинения сначала оскорбили Шмидта. Он жаловался Зинаиде Ивановне, что она лишена дара проникновения в чужую душу. Но душа самого Петра Петровича так жаждала дружбы, общения с милой умной женщиной, что обида чудесным образом переходила в радость.
«Рад от души, что вы написали мне несколько недобрых слов, я даже не знаю, было ли бы мне приятней, если бы вы умудрились влить не так много яда в такую маленькую записочку; простите меня, но, несмотря на ваш несправедливый гнев, ваша записочка вместо того, чтобы повергнуть меня в мрачное настроение несправедливо осужденного, привела меня в превосходное, радостное настроение. Я пожалел, что вы пользуетесь такими крохотными листками и не имеете места наговорить мне больше неприятностей, чем сказали. Ваш гнев показал мне, что вы больше женщина, чем я думал, и это открытие меня обрадовало. Мне приятно было вступить с вами в переписку, как с умной женщиной, а теперь я смотрю на вас, как на умную женщину в высшей степени».
Так иногда вызывают восхищение выходки ребенка, которые, может быть, и похожи на каприз и которые нельзя оставить без замечаний, но они трогают взрослых своей «детскостью», всегда неожиданной и непосредственной. Как противоречива Зинаида Ивановна в своих рассуждениях и поступках! Но разве это не чисто женское противоречие? Лев Толстой где-то сказал, что недостатки хорошенькой женщины только подчеркивают ее прелесть.
И восторженный Шмидт терпеливо и радостно разъяснял своей корреспондентке, что некоторая аналогия в условиях жизни не есть еще «родство душ», которого так испугалась Зинаида Ивановна и которое в данном случае, возможно, и в самом деле существует. А усталость, на которую он жаловался, – это вовсе не разочарование. В действительности он любит жизнь, и любовь напряженная, «неприличная», как говорил Иван Карамазов, – это основная черта его натуры.
Что же касается усталости, то он устал потому, что жизнь принесла ему много горя. Но он вовсе не хочет выглядеть «страдальцем». А если в его письма врываются «красивые фразы», то они, вероятно, ошибочны, но не самонадеянны. Честное слово, нет, этого упрека он не заслужил.
И нельзя ли просить ее – милую, полузнакомую, но чем-то очень, близкую Зинаиду Ивановну – не относиться к нему с предубеждением? Он идет к ней навстречу просто, искренно. Он готов сообщить ей о своей жизни все, но пока боится испугать ее своей навязчивостью. И потому просит ее писать, писать возможно чаще. Если б она знала, как ему тоскливо в этом Измаиле! И как хорошо беседовать с нею, хотя он видел ее так недолго, что теперь с трудом воспроизводит в памяти ее черты…
Как несправедлива она, дорогая, недобрая Зинаида Ивановна, обвиняя его в том, что больше всего на свете он любит самого себя! Что угодно – только не это. Недостатков у него много, он весь из недостатков, но пусть она не говорит, что он живет для себя и любит только себя. Это жестокая неправда. Он старается жить только общественными интересами. «Больно говорить, когда чувствуешь, что тебе не верят». И письма заполняются мольбами о доверии. Она узнает, она увидит.
И опять целительный поворот: недоверчивость Зинаиды Ивановны – только следствие драмы ее личной жизни. Но она поверит, должна поверить.








