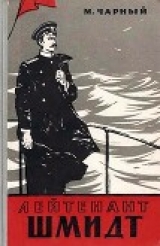
Текст книги "Лейтенант Шмидт"
Автор книги: Марк Чарный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Александр Ильич в общем разделял суждения Шмидта, хотя порой они казались ему слишком резкими. Он только удивлялся, почему же при такой оценке войны Шмидт просил о назначении в действующий флот. Так ведь?
Да, так. Он, Шмидт, моряк и патриот, не любитель отсиживаться в тылу. А его назначили на транспорт, где тяжело, грязно, утомительно и главное – силы применить негде. Когда Порт-Артур был осажден, он подал проект прорвать блокаду с особым отрядом кораблей и доставить голодающим припасы. Он предлагал сам возглавить этот отряд. Но проект остался проектом. Потом он просил назначить его на подводную лодку. Если воевать – так воевать новейшим и наиболее эффективным оружием. Но из этого тоже ничего не вышло.
– А что, по-твоему, надо сделать теперь, чтобы поправить дело, выветрить эту мертвечину? Дело не в одном флоте. По всей стране что делается…
– Вот-вот… что делается… – Шмидт снова вскочил. – Все, что умеет лгать, воровать и не думать, все это нагло лезет наверх и командует не только кораблями, но и всей страной. А тех, кто стремится к живой работе, кто мыслит и чувствует, тех считают полупреступными, даже преступными, и подавляют, подавляют. Они, эти властители, погубили сотни тысяч людей в войне с Японией, а теперь губят не меньше внутри страны.
Владимирко поморщился. Все это как будто правильно, но так страшно, что не хотелось верить. А Петр Петрович возбужденно продолжал говорить о выстраданном и передуманном:
– Стране тесно в старых одеждах, она задыхается в каменном мешке и молит: дайте хоть глоток свежего воздуха, я жить хочу… А сверху раздается: «Бессмысленные мечтанья», «Не допущу!», «Расстреляю!». О подлецы, подлецы…
– Хорошо, – сказал Владимирко и взял Шмидта за руку, – но давай спокойнее. Надо же найти средство…
– Средство? О, средство есть. Оно, правда, радикальное, и его не согласится принять разлагающийся режим. Нужна новая, молодая Россия! От гнилого корня не пойдут здоровые ростки…
– Понимаю, ты опять о конституции. Но дадут ли и какую?
Шмидт посмотрел на своего друга и в раздумье остановился. Потом глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду, и резко сказал:
– Кажется, теперь каждый школьник начинает понимать, что конституции не дарят, как конфетку, за благонравие и доверие к начальству… Народ отвоевывает свои права борьбой… да, тяжелой борьбой…
Александр Ильич взглянул на Шмидта с испугом. Что-то происходит с этим чудесным человеком, с его другом. Но его смутили не столько слова Шмидта, сколько интонация, решительная и неожиданно жесткая.
Легко сказать: «тяжелой борьбой»… Куда и как это повернется? При всем своем свободомыслии Александр Ильич не был подготовлен к борьбе.
VI. Любовь без деспотизма и рабства
Утро во флигельке на Соборной, 14. Несмотря на почти бессонную ночь, Шмидт встал в семь утра. Для этого есть сегодня причина: он отпустил своего Федора на сутки (приехала к парню родня погостить). Поднявшись, лейтенант начал с приборки комнат, потом заторопился с самоваром, с чисткой платья и сапог, своих и сына. Ведь сынишка встает в восемь и спешит в училище.
К утреннему чаю, как почти всегда, пришел Макс и принес с собой какой-то свежий, веселый ветерок. Макс – большой друг Жени, да и самого Петра Петровича. Этот одинокий еврейский мальчик стал в семействе Шмидтов своим, и Петр Петрович сам не понимал, как возникла эта взаимная нежность.
Петр Петрович накормил юношей, и они отправились в свою «реалку». Шмидт прислушался к тишине, которая сразу установилась в маленькой квартирке, особенная, утренняя тишина. Через открытые окна едва доносились снизу звуки проснувшегося города: торопливые шаги прохожих, звонкое цоканье копыт по каменной мостовой, далекие гудки пароходов.
Мягкая южная осень. Чистая и глубокая синева неба оттеняется легкими пятнами облаков. Хорошо дышится под этим высоким небом. Ясные солнечные дни только изредка нарушаются грозами с ветрами и ливнем. Моряк, привыкший уважать исполинскую силу ветра, Шмидт наслаждался спокойствием ясного дня.
Девять часов. Он перечитывает письма Зинаиды Ивановны, как делает это перед сном и еще несколько раз в день. Это единственный способ общения с нею, несущего радость высокого волнения, иногда боль, но и боль вдохновляющую.
Зинаида Ивановна продолжает свои испытания. Она испытывает и себя и его, своего «дикого попутчика», такого доверчивого и требующего доверия, склонного к экстазу и в то же время серьезного.
В последнем письме она задала ему вопрос: «Сильны ли вы?»
Естественно для умной женщины определять ценность человека, который стремится быть ей близким, учитывая силу его характера, воли, нравственного чувства. Но тут вопрос попал в самое чувствительное место. Разве он сам, Петр Петрович, тысячи раз не задумывался над свойствами своего характера, над тем, каким бы он хотел его воспитать, над его, увы, очевидными недостатками?
И с той беспощадной, требовательной честностью, которую он вынашивал в себе с детских лет, Шмидт отвечал:
«Нам приходится рассматривать теперь два вопроса, Чтобы ответить вам: 1) велика ли во мне сила убеждения и чувства (нравственная сила) и 2) вынослив ли я? На первый вопрос отвечу вам: да, силы убеждения и чувства во мне много, и я могу, я знаю, охватить ими толпу и повести ее за собой. На второе скажу вам: нет, я не вынослив, а потому все, что я делаю, это не глухая, упорная, тяжелая борьба, а это фейерверк, может быть способный осветить другим дорогу на время, но потухающий сам. И сознание это приносит мне много страданий, и бывают минуты, когда я готов казнить себя за то, что нет выносливости во мне.
Вообще все, о чем я пишу вам сегодня, самое мое копание в этих мучительных для меня вопросах, самое письмо это приносит мне боль».
Уже не раз в этой переписке его мучили сомнения: нужна ли эта откровенность? Зачем он пишет о своих терзаниях, о своей зависимости от ее писем? Разве не глупо идти на риск изображать самого себя этаким слезливым мужчиной? Зачем открывать свои слабости? Разве открывать слабости не значит усиливать их?
Может быть, ей смешно читать эта излияния? Может быть, в душе ее шевельнется презрение?
Да, но ему, Шмидту, нужна женщина чуткая, нежная, умная и, главное, доверяющая ему. Сильный, выносливый человек не ищет в любимой женщине опоры. Ему нужна только подруга, а в случае необходимости он и без нее пойдет по намеченному пути, веря в себя, поддерживая и укрепляя других. Шмидту нужна опора. Женщина, которая молча положит прохладные, нежные руки на его усталую, пылающую голову. И это участливое прикосновение вдохновит его, утроит его силы.
Так пусть же Зинаида Ивановна знает все его слабости. И пусть она любит его таким, каков он есть. «Не в силе бог, а в правде».
В литературе последних лет стало модно изображать любовь как идеализированное влечение полов. Разве это не ошибочно? Не только ошибочно – оскорбительно. Шмидт уверяет свою корреспондентку, что любовь к женщине есть чувство совершенно самостоятельное, интеллектуальное, не имеющее ничего общего с другими влечениями. Когда возникает гармоническая привязанность людей, свободная, взаимная, можно говорить о любви, любви без деспотизма и рабства.
Поглощенный своей любовью, Шмидт иногда ужасался: а не скрывается ли в этом счастье яд измены? Что такое счастье? Неужели изоляция двух, уединенный остров любви в океане жизни? Это было бы чудовищно.
Вот вчера милейший Владимирко привел к нему славную пару. Оба молодые люди. Он недавно кончил в университете, сейчас отбывает воинскую повинность. Прекрасно поют: он баритоном, она контральто. Молодость, здоровье, талант, взаимное доверие, даже нежность друг к другу. Но какая-то скука, апатия серой пеленой покрывала их лица, сковывала движения. Все как будто на месте, а счастья нет.
Шмидт испытующе смотрел на эту пару и, как опытный врач, определял данные для диагноза. Да, диагноз ясен: нет цели, нет великой цели, которая одухотворяет каждый день и дает смысл всей жизни.
У Шмидта эта цель есть. Но не может ли случиться так, что любовь его, безмерная и всепоглощающая, придет в столкновение с общественными идеалами, с долгом? И он торопился сказать Зинаиде Ивановне слова, которые звучали, как присяга:
«Представьте, что вы пожелали бы, чтобы я с завтрашнего дня изменил бы в корне свою жизнь, отвернулся бы от убеждений и деятельности, которая наполняет мою жизнь, и для большей безопасности превратился бы в самого благонамеренного обывателя. Требование, конечно, невозможное, и вы бы сразу упали бы с той высоты, на которой вы стоите, если бы пожелали этого, перестав быть человеком и сузившись до самой обыкновенной женщины. Требование, говорю я, несовместимо со всей вашей личностью, но представьте, что по щучьему велению вы поставили бы мне такое свое желание. Я бы ответил вам: нет, Зинаида Ивановна, я для вас этого не сделаю. Поймите: шкуру свою, здоровье, труд, заработок мой, все это отдать вам для меня большое счастье, но для вас я не поступлюсь ни одним своим убеждением, если вы мне не докажете, что вы, а не я владею истиной.
В этой области я навсегда останусь самостоятельным, и нет такой силы, которая могла бы изменить это. Молюсь вам, живу вами, верю вам, но это все преданность, и тут нет и тени рабства. В слепом же выполнении желаний есть одно недостойное человека рабство, и на это я не способен».
Но это только предупреждение на крайний случай, только отпор сомнениям, которые шевелятся в нем самом. Зинаида Ивановна не ставит никаких требований, не пугает никакими просьбами. До сих пор, во всяком случае.
Вот она прислала телеграмму, что идет в театр. Как это чутко с ее стороны, какая способность угадать, что ему нужно! Шмидт обладал тем редким даром воображения, которое при всех обстоятельствах наполняло его жизнь видениями, событиями, эмоциями. «Бесплотный дух» Зинаиды Ивановны он оживлял воображением. Он видел ее не только на киевской улице – он вводил ее к себе на Соборную, 14, брал за руку, показывал комнаты, отчетливо представлял, как она опускается на оттоманку, улыбку, с которой отвечает ему.
Но жизнь в воображении, сладостная и волнующая, изнуряла его. Поэтому письмо, телеграмма с сообщением о реальном факте жизни Зинаиды Ивановны, о том, где она бывает, с кем встречается, по каким улицам ходит, приводили его в восторг. Реальность поддерживала, питала воображение.
Он отвечал ей большими, доверчивыми письмами. Писал ежедневно, иногда несколько раз в день, обо всем, что делал, чем жил, что ощущал.
Осенняя южная ночь. Тишина, насыщенная запахами цветов, моря, отдыхающей от дневного зноя земли. Шмидт за письменным столом. Свет лампы падает на фотографии Зинаиды Ивановны. Раскрытая книга – биография Лассаля.
Верный своей манере, Шмидт отвечает Зинаиде Ивановне на ее телеграмму и пишет о Лассале. Он хорошо знает сочинения Лассаля по заграничным изданиям. А сейчас, в 1905 году, впервые разрешено русское издание. Петр Петрович выписал первый том из Одессы – в Севастополе не достать – и теперь с увлечением читает биографию Лассаля.
И вот мысль: он пошлет ей этот первый том, который стал ему так дорог. Пусть она, милая Зинаида Ивановна, сама переплетет его, и обязательно в переплет ярко-красного – революционного – цвета. Потом вернет его, а на первой странице напишет несколько слов и подпишется «Зинаида». Хорошо? Все книги у него в шкафу в черных переплетах, и эта, красная, лассалевская, будет выделяться. И на ней останутся следы рук и труда Зинаиды Ивановны.
В одном из писем Зинаида Ивановна скучающе писала, что не видит «цели». Шмидт ответил страстным письмом. Он бесконечно удивлялся, как может хороший, честный человек, живущий в таком культурном центре, как Киев, изолировать себя от жизни. Жизнь в ее широком объеме, народная жизнь, полна благородных задач, высоких страстей и борьбы. Неумно и нечестно отворачиваться от нее. Она может принести немало страданий, это верно, но даже страдания очищают душу, отказавшуюся от эгоистической личной жизни. Именно участие в общей жизни, сознание выполненного долга дает минуты самого высокого счастья, какое только доступно человеку.
Зинаида Ивановна нашла кружок, в котором многие интеллигентные женщины обучались разным ремеслам, в том числе переплетному делу. Это занятие вошло в круг интересов, объединявших ее со Шмидтом. Дама «из общества» хоть в этой скромной форме надеялась приобщиться к миру труда. Шмидт с восторгом писал, что завеса, скрывавшая от нее настоящую жизнь, теперь приподнялась, пусть чуть-чуть, но: «Вы уже охвачены ее светом и смыслом».
Все настойчивее втягивал он Зинаиду Ивановну в круг своих интересов и переживаний. Шмидт внимательно следил за еженедельной юридической газетой «Право». В крепостнической России вопросы права имели особую остроту. Читает ли Зинаида Ивановна «Право»? Нет? В таком случае он будет делать в газете отметки и посылать ей. Он хочет, чтобы ни одна мысль, которая волнует его, не проходила мимо Зинаиды. Он просит и ее делиться своими мыслями, давать ему советы. Она написала, что думает относительно женского влияния на общество, – хорошо, спасибо. «Нашептывайте еще, делайте меня умным и талантливым».
Обсуждались в письмах и политические проблемы. Царский министр Витте, хитрец, пытавшийся одно время сочетать либеральное красноречие с рабской преданностью самодержавию, произнес в октябре речь, наделавшую много шуму. В связи с этим Зинаида Ивановна послала Шмидту телеграмму.
Петр Петрович обрадовался беспредельно. Его ответное письмо было переполнено благодарными и ласковыми словами. Какая она умница, его Зинаида, Найда, Аида, Ида… Умеренно-либеральная речь Витте, разумеется, не представляет ничего особенного. Ни с точки зрения политики, ни с точки зрения ораторского искусства. Она служит только еще одним симптомом непобедимости освободительного движения. Витте, конечно, не думает о народе. Заботясь об укреплении власти царя, он спокойно шагает по трупам. А сейчас пытается играть в старую игру «и нашим и вашим».
Шмидт отчетливо видит преступность и безнадежность господствующего режима, он за свободу, за народ. Но как он относится к партиям? В одном из писем к Зинаиде Ивановне он объявляет себя социал-демократом, в другом – «в общем» склонен согласиться с новой программой эсэров и хотел бы договориться о связи с ними, в третьем – готов встретиться с вождем либеральной буржуазии Милюковым.
Последние десять лет Шмидт мало бывал не только в России, но и вообще на суше. Может быть, поэтому он не успел разобраться в борьбе русских партий и не представлял, что за программами разных партий скрываются разные пути будущей России. Склонный к благодушию, он мечтал о соединении всех стремящихся к свободе и к социализму в одну партию социалистических работников.
Предчувствуя близость надвигающейся революционной грозы, он просил Зинаиду Ивановну о встрече. Сколько можно жить, оживляя «бесплотный дух» воображением? Он просил позволения приехать в Киев, хотя бы на один день. «Переживаем мы дни тревожные, готовые разразиться грозой, и гроза эта не за горами. Я принимал до войны самое активное участие в подготовительных работах к тому положению, которое должно разразиться революцией. Она, конечно, поглотит меня целиком, и кто ведает, буду ли я к лету среди уцелевших или лягу со многими другими».
Но Зинаида Ивановна не разрешала. Она откладывала. Встреча после такой переписки, казалось ей, была втройне ответственной. Она не могла на нее решиться.
Шмидт недоумевал. Почему Зинаида Ивановна при такой чуткости, уме и доброте продолжает прятаться за броней холодной рассудочности? Не женщина – сфинкс, и он снова молил о доверии.
Необычным способом пытался он воздействовать на сфинкс. Ведь она, Зинаида Ивановна, совсем не видела его – на бегах не смотрела, а в вагоне было темно. Шмидт уверял ее, что он выглядит очень старым, лицо у него все в морщинах, которые незаметны на фотографических снимках. Многие дают ему сорок два, даже сорок пять лет. Но в действительности ему тридцать восемь. Шмидт усиленно подчеркивал, что он старше Зинаиды Ивановны на двенадцать лет. Разве это не основание для того, чтобы поскорее встретиться?
«Повидать вас, показать вам свои морщины, и тогда до лета я буду послушен и не буду соваться!.. Пожалейте, наконец, меня, Зинаида Ивановна, разрешите приехать в Киев… только на 40 минут, как тогда в вагоне; через 40 минут вы меня выгоните. Да? Можно?»
VII. Очаковцы и другие
Шмидт усиленно занимался рабочим вопросом. Он собрал все книги, какие мог достать по этому вопросу в Севастополе, некоторые выписал из Одессы и других городов. Прочитал брошюру А. Баха «Экономические очерки» и восторженно назвал ее блестящей популяризацией научного социализма. Шмидт тут же порекомендовал Зинаиде Ивановне прочесть «Очерки».
Потом он увлекся темой «влияние женщин на жизнь и развитие общества». Может быть, личный опыт, долгие размышления и переживания привели его к этой теме? Но, оттолкнувшись от частного случая, он перешел к проблеме большого значения, которая волновала широкие круги народа. Иногда Шмидту казалось, что он слышит голос Зинаиды Ивановны: женское влияние – жены, матери, сестры – сложный психологический процесс, в результате которого это влияние превращается в реальную общественную силу. Учтите.
Ему хотелось прочесть публичную лекцию на эту тему, а деньги – в пользу голодающих. Он перечитал огромное количество книг, около ста сорока. Сделал выписки из Канта, Энгельса, Шекспира, Мильтона, Карлейля, Спенсера, Милля. И с огорчением отметил, что почти все авторы говорят главным образом о женщинах Западной Европы или Америки, а о положении женщин в России – почти ничего.
Кроме того, Шмидт писал иногда для одной петербургской газеты статьи о флоте и ее людях, подписываясь по-английски «Old captain»[3]3
Старый капитан (англ.).
[Закрыть] и охраняя тайну псевдонима, потому что офицер-литератор, да еще автор критических статей, безусловно навлек бы на себя гнев начальства.
Увлекаясь, Шмидт проводил иногда за письменным столом шестнадцать часов в сутки. Вероятно, он и не замечал бы этого, если бы не давала себя знать жестокая мигрень. Тогда он вспоминал, как хороши в Севастополе прогулки.
Испытанный способ борьбы с головной болью – забраться в укромный уголок бухты и устроиться так, чтобы волны подкатывали к ногам. Есть какая-то особая, таинственная прелесть в этом ощущении себя на самой границе двух исполинских сил: тверди и моря. Легкий-бриз ласково шевелит волну, и она рябит под солнцем, мягко, безмятежно касаясь прибрежных камней.
Пройдет баркас, и море, словно недовольное нарушением покоя, лиловеет, но вскоре лиловая дорожка начинает таять и поглощаться невозмутимой синевой.
Постепенно бухта переходит в далекий рейд, в безбрежность, которая будит в душе сладкое томление, тревожный порыв в далекое и неизведанное.
У выхода из бухты через всю ее ширину, от берега до берега, тянется отчетливая пунктирная линия – боны заграждения как напоминание мечтателям, что еще не все пути доступны и свободны. А вдоль этой линии – белые точки, словно белые цветы на чуть колеблющемся синем бархате моря. Живые цветы – чайки.
Но Шмидт не мог долго отдаваться сладости безмятежного созерцания. Он вспомнил, что ровно пятьдесят лет назад, во время обороны Севастополя, именно здесь, где играют чайки, разыгралась трагедия. Русские корабли покончили массовым самоубийством – они пошли на дно, чтобы своими телами загородить врагу вход в бухту.
Пятьдесят лет назад… Какие-то комитеты во главе с великими князьями отмечают эту дату открытием часовен и медалями оставшимся в живых одиноким ветеранам. Извлечены ли уроки истории? Порыжевшие, расцвеченные красками осени холмы – не проступает ли это обильно пролитая здесь кровь?.. На Малаховом кургане батареей командовал отец Шмидта. Он был дважды ранен. Но доблесть русских воинов была сведена на нет крепостническим режимом. А сейчас, через пятьдесят лет?
Режим еще бездарнее, порядки еще преступнее. В японской войне многие царские адмиралы и генералы героической смерти предпочли позор японского плена.
Шмидт снова взглянул на живые белые цветы. Да, корабли добровольно шли на смерть. Иногда это имеет смысл. Не так ли бывает и с людьми? Смерть служит жизни, ее славе, ее достоинству. Но бывает и жизнь темнее смерти.
Вместе с сыном и Владимирко Шмидт ходил к Георгиевскому монастырю или предлагал заплыв через всю Северную бухту. Хорошо плыть, ощущая легкость и силу тела; хорошо отдыхать, ухватившись за буек, обросший бархатистыми водорослями. Потом бывал вдвойне приятен обед на открытой веранде приморского ресторана.
У этого города свое несравнимое очарование. Окруженный бесчисленными голубыми бухтами, он возвышается, как остров, со всех сторон омываемый ласковыми волнами. Внизу, у подножия холма, кольцами протянулись улицы – Екатерининская, Нахимовский проспект, Морская. Выше было второе кольцо, еще выше – третье. Эти кольца соединялись сквозными лестницами, каменными трапами, которые, стремительно сокращая городские расстояния, вместе с зеленью садов создавали удивительное ощущение уюта.
От центрального холма во все стороны разбегались по пригоркам веселые дома. Казалось, они, как путники, остановились на полдороге, чтобы с удовольствием оглянуться всеми своими окнами на сияющую синевой бесконечность моря.
Шмидт любил в одиночестве бродить по севастопольским улицам и заросшим зеленью уличкам-трапам, отыскивая старые дома, построенные еще заботами Ушакова и Лазарева. Эти славные адмиралы строили дома с большим вкусом. В благородных пропорциях окон, в стройности колонн и портиков Петр Петрович угадывал великие образцы античности, которым охотно следовали в старом Севастополе.
Иногда Шмидт садился в ялик и добирался до Херсонесского монастыря. Здесь он наслаждался волнующими душу памятниками античности. Земля Крыма хранила многочисленные остатки богатых древних цивилизаций разных народов, которые, сменяя друг друга, с незапамятных времен населяли эти благословенные берега. Под презрительным оком равнодушного начальства одинокие энтузиасты десятилетиями копались в земле Херсонеса и постепенно открыли целое государство, процветавшее за несколько веков до нашей эры.
С неутихающим чувством удивления и трепета перед живым ликом истории рассматривал Шмидт крепостные стены, остроумно сооруженные башни и ворота столицы Херсонесского государства. Части мраморных саркофагов. Глиняные лепные сосуды с изящным орнаментом, сосуды, расписанные черным и красным лаком. Как заманчиво таинственны эти женские фигуры в плащах и головы мраморных атлетов, глядящие из глубины тысячелетий!
Лекифы – кувшинчики-флаконы для благовоний и масел – так изящны, браслеты, серьги, кольца так похожи на современные, даже лучше, что становилось страшно.
Особенно долго стоял Шмидт у мраморной плиты, покрытой письменами. Древнегреческий текст перевели на русский язык. Он оказался присягой, которую две тысячи двести лет назад принимали граждане Херсонеса: «Клянусь Зевсом, Землей, Солнцем, Девой, богами и богинями Олимпийскими и героями, кои владеют городом и укреплениями херсонеситов: я буду единомыслен относительно благосостояния и свободы города и сограждан и не предам ни Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной гавани, ни прочих укреплений, ни прочих земель, которыми херсонеситы владеют или владели, ничего – никому – ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов. И не нарушу демократии и желающему предать Или нарушить не дозволю и не утаю вместе с ним, но заявлю городским демиургам».
Граждане Херсонесского государства клялись действовать только по законам, только в пользу общины херсонеситов и ее граждан, охранять демократию и свободу. Мраморная надпись заканчивалась следующими словами: «Зевс, и Земля, и Солнце, и Дева, и боги олимпийские, пребывающему мне в этом да будет благо и самому, и роду, и моим, а не пребывающему – зло и самому, и роду, и моим, и да не приносит мне плода ни земля, ни море, ни женщина, да не…»
Шмидт уезжал из Херсонеса встревоженный и счастливый, размышляя о сложных, извилистых путях истории.
Неужели после двух тысяч лет развития мы не достойны гражданской свободы? В рабовладельческом Херсонесском государстве демократия существовала только для свободных граждан, и то она сопровождалась таким искусством в ремеслах и постройках, такой лучезарной гармонией в искусстве, которые сейчас кажутся чудом.
Глядя на улицы Севастополя, террасами спускающиеся к морю, Шмидт думал о том, что этот естественный амфитеатр самой природой и историей создан для народных сборищ, для торжества демократии и свободы.
Попав на берег, подшкипер 2-й статья Василий Карнаухов улучил минутку и, оглянувшись по сторонам, постучался во флигелек на Соборной, 14.
Шмидт тотчас узнал матроса, с которым плавал еще на «Игоре», обрадовался ему, провел в кабинет, усадил на оттоманку и забросал вопросами, как и где жил он в последние годы.
Чувствуя себя легко и свободно с «учителем Петро», Карнаухов рассказал, что еще в 1903 году был призван на военную службу и назначен сначала в экипаж, а потом на крейсер «Очаков».
– Ну как твой «Очаков»? Говорят, последнее слово техники…
– Да, корпус и машины мощные… Будем делать узлов по двадцать пять. Шутка сказать, «Очаков» обошелся, говорят, почти в восемь миллионов рублей.
– Восемь миллионов… – задумчиво повторил Шмидт и зашагал по кабинету, приглаживая свои густые волосы. – Действительно, последнее слово техники казнокрадства. В Англии самый лучший дредноут стоит три миллиона.
Шмидт помолчал, потом вдруг живо спросил:
– Как ты думаешь, Василий, если б повторилось революционное выступление… Как на «Потемкине», да еще посерьезнее. Ведь теперь, после позорного поражения в войне, многим ясно, что руль государства не в тех руках… Много кораблей примкнуло бы?
Карнаухов замялся. Потом сказал, что надеяться можно, пожалуй на «Очаков», да еще, говорят, на «Пантелеймон», то есть на «Потемкин», и на некоторые миноносцы… А вообще трудно сказать.
– А не добавить ли к этому списку, – возбужденно проговорил Петр Петрович, поднимаясь с кресла, – «Трех святителей» и кое-какие номерные миноносцы?..
Карнаухов неуверенно возразил, что велик риск – связь между кораблями плохая.
Через несколько часов на «конспиративной квартире» в трюмном отсеке «Очакова» он взволнованно рассказывал товарищам о последней встрече с лейтенантом Шмидтом.
После восстания на «Потемкине» мысль о новых выступлениях стала всеобщей. Она была в умах, в сердцах, ею был насыщен воздух.
Матросы «Потемкина» прикрепили к трупу убитого офицером матроса Григория Вакуленчука записку, в которой призывали народ: «Отомстим кровожадным вампирам! Смерть угнетателям! Смерть кровопийцам! Да здравствует свобода!» Потом один из матросов добавил: «Один за всех – все за одного». Этот лозунг безымянного потемкинца передавали из уст в уста. Для тысяч матросов, сознание и чувство которых было потрясено, он становился священным заветом.
Многие матросы из рассказов и листовок уже знали, что такое социал-демократическая партия. Далеко не всем очаковцам было известно о революционных делах машиниста Саши Гладкова, но этого крепыша с энергичным, веснушчатым лицом и живыми черными глазами уже прозвали «Сашей-бунтарем».
Сын рабочего, Александр Григорьевич Гладков еще мальчиком начал работать у слесарного станка. Отец его интересовался революционной литературой и давал сыну читать запрещенные книжки. А когда Гладков стал машинистом на «Очакове», его командировали в Сормово для приемки машин корабля. Тут он вступил в социал-демократическую партию. Сормовский комитет был большевистским.
Разговаривая с матросами, Саша Гладков умел осторожно, но недвусмысленно намекнуть, что накапливаются силы для освобождения народа от тирании царя. И матросы начинали верить в эту силу, находя в карманах своих бушлатов листовки большевистской партии, наблюдая, как смелеют товарищи и озлобляется растерянное начальство.
Связанные с революционерами матросы знали, что существует Центральный флотский комитет РСДРП – «матросская Централка». Кто входил туда, где комитет собирался – хранилось под величайшим секретом, и даже на «Очакове» никто не подозревал, что машинист Гладков, который так редко сходил на берег, встречается в лесу за инкерманской дорогой с другими членами неуловимой, грозной «Централки».
Гораздо больше говорили о «товарище Михаиле» – матросе, кажется, с броненосца «Екатерина II». Михаил появлялся то на корабле, то в экипаже, то на массовке в Инкермане, и его пламенные речи зажигали огонь надежды и отвагу в сердцах матросов и рабочих.
Когда Василий Карнаухов закончил радостный рассказ о встрече с лейтенантом Шмидтом, все вдруг заметили, как мрачен Саша Гладков.
– Братцы, – сказал он, справившись с волнением, – товарища Михаила больше нет. На днях его расстреляли. На рассвете, между Константиновской и Михайловской батареей.
И он рассказал о том, что еще несколько дней назад было строжайшей тайной. Товарищ Михаил – это матрос Александр Петров, социал-демократ, большевик, член «Централки».
Выросший в семье революционера, Александр Петров восемнадцати лет вступил в социал-демократическую организацию города Владимира. Во флот он пришел уже испытанным большевиком, хорошо знакомым с ленинской «Искрой». Это он составил листовку «Требования матросов «Екатерины II», изданную севастопольским комитетом РСДРП и распространявшуюся на всех кораблях, в том числе на «Очакове».
Сокращение срока службы во флоте, точное определение рабочего дня матроса, назначение достаточного жалованья, обеспечение при несчастных случаях и болезни, контроль над средствами, отпускаемыми на питание матросам, покупка продуктов самими матросами – вот основные требования Петрова и его товарищей. Требования были элементарные, но они отражали тяжелую жизнь матроса-рабочего, обкрадываемого бесчисленными интендантами и подрядчиками. На кораблях эта листовка вызвала бурю восторга.
Чухнин ответил тем, что подозрительных матросов стали списывать с кораблей. Списали и Петрова, который оказался на учебном судне «Прут».
«Матросская Централка» готовила единое, согласованное выступление команд если не всех судов эскадры, то по крайней мере основных. Внезапное восстание на «Потемкине» нарушило эти, планы. Отсутствие связи между революционно настроенными командами судов, которые командование намеренно разъединяло, посылая в разные концы Черного моря, привело к тому, что восстание на «Пруте» тоже оказалось изолированным.
Руководил восстанием Петров. Он не допустил расправы с офицерами, а когда увидел, что кровопролитие бесполезно, освободил арестованных и позволил увести судно, окруженное миноносцами. Офицеры обещали прутовцам предать забвению случившееся. Даже Чухнин, опасаясь осложнений, согласился с ними.








