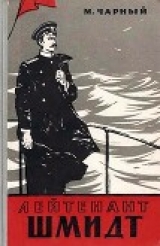
Текст книги "Лейтенант Шмидт"
Автор книги: Марк Чарный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
III. Неспокойный Севастополь
Прекрасны, несравненны, неповторимы севастопольские бухты. Сочетание уюта и простора. Ласковые краски южного моря и щедрая зелень земли. Естественные гавани, как укромные домашние углы. Не зря уже тысячи лет назад эти благословенные берега заселяли люди.
В бухтах и на рейде оживленно. Стоят могучие броненосцы, крейсеры, их легкие изящные собратья – миноносцы, канонерки, множество других кораблей большого Черноморского флота. Вот «Ростислав», а там «Три святителя». В стороне молодой богатырь трехтрубный «Очаков». Невдалеке «Пантелеймон». Ежеминутно отчаливая от кораблей и Графской пристани, бухту во всех направлениях деловито бороздят юркие катера, сверкающие на солнце.
Чудесный осенний день, в голубом небе ни облачка, но неспокойно в Севастополе. Тревога охватила души людей, тревога отражается на всех лицах, тревога чувствуется в самом воздухе города.
Повиснув в люльке высоко над морем, матрос надраивает на туловище громадины броненосца большие латунные буквы: «С-в-я-т-о-й П-а-н-т-е-л-е-й-м-о-н». Но даже с берега можно рассмотреть на нем темные следы прежнего названия – «Князь Потемкин Таврический», тот «Потемкин», самый сильный и быстрый броненосец, который в июне поднял красное знамя восстания и, бороздя Черное море, наводил ужас на власти прибрежных городов, а оставшись без угля и поддержки, вынужден был уйти в Румынию. Часть команды сошла на чужой берег, и корабль вскоре был передан Румынией царской России.
Чтобы стереть все следы крамолы, царь приказал переименовать корабль, предать забвению само имя Потемкина, которое отныне приобрело в русской истории новый, грозный смысл. Но, кажется, и святому Пантелеймону не удалось вдохнуть в мятежное судно дух смирения и покорности. Из оставшихся на корабле потемкинцев многие были арестованы и упрятаны в плавучую тюрьму «Прут».
На восстание «Потемкина» и волнения среди команд других кораблей вице-адмирал Чухнин, главный командир Черноморского флота и портов Черного моря, ответил жестокими репрессиями. Только и слышно было: вчера расстреливали матросов вблизи Херсонесского монастыря, третьего дня – в Камышовой бухте. Без суда. Скорострельная юстиция военно-морского сатрапа.
Вице-адмирал Чухнин был назначен главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря еще в 1904 году вместо вице-адмирала Скрыдлова, который считался «либералом». О Чухнине уже давно шла слава как о сухом и черством формалисте, держиморде первого ранга. Среди моряков рассказывали, что, командуя кораблем, Чухнин за пустяковые проступки вешал матросов на концах рей, и те висели на поясах по нескольку часов. Говорили даже, будто иногда вешал не за пояс, а за шею и входил в иностранные порты с висящими на реях трупами, как с флагами расцвечивания.
Появившись в Севастополе, Чухнин счел необходимым продемонстрировать твердость и пошел наводить порядок, награждая направо и налево офицеров – гауптвахтой, матросов – дисциплинарным батальоном и плавучей тюрьмой. Всем своим поведением, самой манерой держаться, надменной и высокомерно-брезгливой, он старался показать, что скрутит этих «курортных моряков» в бараний рог. Вместо прежнего обычного приветствия: «Здорово, славные черноморцы», матросы слышали теперь только невнятное мычание: «Зда… о-о…»
Матросы стали редко сходить на берег – боялись встретиться на улице с приспешниками Чухнина, а то и с ним самим, что всегда грозило неожиданными осложнениями. У ворот Приморского бульвара стояли патрули, подчеркивая значительность вывешенных черных досок-объявлений. На них большими белыми буквами было начертано: «Вход в сад нижним чинам, чернорабочим, лицам в нетрезвом виде и с собаками воспрещается».
Не видно было матросов на бульваре, зато все чаще пробирались они на Малахов курган, в катакомбы и в инкерманские пещеры – на сходки. Смелые ребята вели свободные разговоры, читали революционные листки и книжки.
Чтобы совсем отрезать матросов от берега, Чухнин приказал прекратить выдачу им пропусков по личным делам. Все матросы оказались на положении арестованных. А занимать их делом Чухнин находил немало способов. Ежедневно объявлялись всевозможные тревоги: боевые, минные, пожарные, подводные. Это не столько тренировало команды, сколько изнуряло людей до такой степени, что они не могли думать ни о чем, кроме своих измочаленных мускулов.
Три-четыре раза в день матросам приходилось переодеваться. То «черные брюки, белая форменка», то «белые брюки, суконные фланелевки», то «все белое» или «все черное».
Большой был щеголь вице-адмирал Чухнин.
Негодование матросов прорывалось то тут, то там. Иногда в самой неожиданной форме. Так, шестого октября 1904 года в казармах некоторых экипажей, особенно в 31-м и 32-м, матросы принялись ломать и бить все, что находилось в помещениях: столы, шкафы, стекла, железные кровати и те погнули, изломали, изуродовали. Выдрали оконные рамы, привели в негодность трубы парового отопления и водопровод. Вода начала заливать помещения.
И все это происходило без единого крика – спокойно, сосредоточенно, в угрожающей тишине.
Для подавления «бунта» были вызваны два полка солдат – Брест-Литовский и Белостокский – с винтовками и пулеметами. Начался обстрел. Безоружные матросы прятались за колоннами, стенами, под окнами. Были убитые и раненые.
Восстание на «Потемкине» было чрезвычайным событием, и Чухнина вызвали к царю. Царь Николай II был жалок, как всегда. Вероятно, он плохо представлял себе положение на флоте и в стране. Царь морщился, словно ему не давала покоя надоедливая муха, делал маленькие шажки, мямлил и глядел на Чухнина не столько гневно и властно, сколько недоуменно и вопросительно. Весть о восстании лучшего на Черном море броненосца ошеломила царя. Деревянным голосом он вяло говорил о беспощадности к бунтовщикам: «Офицеров крепко наказать, с мятежниками матросами расправиться беспощадно».
Чухнин, сжавшись, стоял перед царем, как стоит матрос перед боцманом с тяжелой рукой. Он видел перед собой не маленького, жалкого и растерянного царя, а того всемогущего самодержца, каким, в усердии ревностного служаки, он привык воображать себе императора всея Руси, на преданности которому строил свою карьеру и благополучие. И мог ли он ждать от этого царя иных слов, кроме «наказать, расправиться беспощадно…»
Чухнин вышел от царя и, вздохнув, вытер обильный пот, покрывший его вдавленный лоб. Под густыми, будто наклеенными бровями глубоко прятались бесцветные, мутные глаза. Низко опущенные моржовые усы и бородка были точно такие, как у Николая II.
Положение было тревожное и постыдное, но Чухнин считал, что его вряд ли могут винить, так как в Черноморский флот он назначен сравнительно недавно и о распущенности команд неоднократно доносил в рапортах. Сам факт аудиенции у царя он рассматривал как приближение к «сферам», сулящее приятные неожиданности. Поэтому настроение у командующего отнюдь не было удрученным.
Тут же, из Петербурга, Чухнин послал в Севастополь приказ начальнику эскадры: немедленно выйти в Одессу со всеми броненосцами и предложить «Потемкину» покориться, а если откажется, то потопить с миноносцев. При попытке команды оказать сопротивление или спастись бегством – расстреливать.
Вернувшись в Севастополь, он узнал, что мятежный «Потемкин» не покорен. Корабли эскадры упустили броненосец, не выполнили приказа. Вице-адмирал рассвирепел и начал приводить флот в порядок. В ночь с 18 на 19 июня была арестована почти четверть всего матросского состава. Посыпались телесные наказания. Заковывание в кандалы и другие меры чухнинско-воспитательного воздействия применялись в неслыханных масштабах.
На «Очакове» еще оставались следы строительных работ. Заложенный в 1901 году могучий красавец длиною в сто тридцать четыре метра, он достраивался всю первую половину 1905 года. Кое-какие недоделки устранялись и во второй половине года.
Как ни подозрительно относилось начальство к рабочим, как ни старался Чухнин изолировать матросов от гражданского населения и прежде всего от рабочих, обойтись без них оказалось невозможно. Адмиралы приказывали стрелять из пушек, но устанавливать орудия могли только рабочие. Рабочие создавали пушки на заводах, и только они могли правильно установить их на корабле. Рабочие строили на верфях корабли, клепали на заводах котлы и собирали машины. И чухнины, ненавидя рабочих, как основной источник беспокойства, смуты и крамолы, вынуждены были обращаться к ним, привозить их работать на корабли и даже посылать матросов в командировки на заводы.
В 1905 году на «Очакове» работало около двухсот квалифицированных петербургских и севастопольских рабочих. И, может быть, поэтому очаковские матросы лучше других знали о том, что происходит в стране.
…Из люка высунулась голова. Круглое молодое лицо с энергичным ртом и упрямыми глазами под дугами густых бровей, со следами машинного масла. Это машинист 2-й статьи Гладков. Он похож на слесаря или токаря. И действительно, до призыва во флот он работал токарем.
Окинув взглядом палубу, он увидел ладную фигуру Антоненко и открыл было рот, чтобы крикнуть: «Самсон!», но тут заметил боцмана Каранфилова. Каранфилов, трехаршинного роста, восьми пудов весу, славился кулаками, как говорили матросы, не меньше десяти фунтов в каждом. Еще говорили, что этот гигант съедал по пяти фунтов хлеба в день. В гражданской жизни он выше подпаска в имении известного на юге немца-помещика не мог дослужиться, но во флоте был быстро оценен: начальство решило, что с таким кулаком пропадать человеку негоже. Каранфилов молниеносно сделал карьеру – стал боцманом.
Десятифунтовый кулак нашел широкое применение. Боцман обнаружил собачий нюх, выискивая всевозможные запрещенные листки и прокламации. Когда он уходил из кубрика, перерыв матросские сундучки, перетряхнув нехитрое бельишко, письма от родных и карточки невест, матросы говорили: ну вот, еще один каранфиловский погром.
Кроме того, Каранфилов был мастер «зажимать», то есть при всяком удобном и неудобном случае выжимать из матроса деньгу. Правда, в этом он не был оригинален. Казначеи, интенданты, ревизоры и прочие начальствующие лица строили в лучшей части города собственные дома, хотя до службы не имели никаких капиталов. Да и более мелкие сошки проявляли немало предприимчивости. Каждый раз, обращаясь с какой-нибудь просьбой к старшему писарю, фельдфебелю или боцману, матрос должен был преподносить им некую мзду.
Когда Гладков через некоторое время снова выглянул из люка, боцмана уже не было, и, поискав глазами Антоненко, он окликнул друга: «Самсон!». Не добавив больше ни слова, он так выразительно показал глазами вниз, что тот все понял.
Вскоре в одном из трюмных отсеков собралась группа матросов. Здесь были Гладков, Антоненко, Карнаухов, Частник, еще два-три человека. Саша Гладков, еще до флота связанный с социал-демократической организацией, как-то назвал этот отсек конспиративной квартирой, находящейся на пятнадцати футах ниже уровня моря.
– И чого ж вы, хлопцы, мэнэ сюда затягнулы, – посмеиваясь добродушными глазами, сказал Антоненко. – Я ж мужик, мое дило хозяйнуваты на хутори, волам хвосты крутыть…
Товарищи знали манеру Антоненко подшучивать над самим собой, манеру, которая вызывалась, по-видимому, невероятной силой этого человека. В силе он не уступал боцману Каранфилову, и товарищи прозвали комендора Самсоном. Восьмидюймовое орудие он один поворачивал вручную. Никита Петрович Антоненко был не только силен, но и красив – высокий шатен с бархатными глазами, с черными, загнутыми, как у девушки, ресницами. Поэтому офицеры «Очакова» дали ему другое прозвище, ничего не говорившее сердцу матросов, – «Аполлон».
Матросы «Очакова» считали, что красота Никиты немало навредила ему. Девчата засматривались на него, когда он был еще мальцом, и отец Никиты, екатеринославский хлебороб, поторопился, от греха подальше, женить восемнадцатилетнего сына. И вот, призванный на военную службу, Антоненко должен был покинуть не только молодую жену, но и двоих сыновей, к которым успел привязаться.
Матросы любили Антоненко и за его отцовскую грусть, и за добрую богатырскую силу, которой он пользовался всегда в защиту справедливости, и за искорки украинского юмора.
Да и над мужицкой своей темнотой Самсон напрасно подшучивал. За три года службы во флоте сильно изменился украинский хлопец. Окончив школу комендоров, он помогал устанавливать на «Очакове» дальнобойные орудия. Специально для этого выписали в Севастополь мастеров с Путиловского завода. Знакомство с рабочими, да еще какими – из самого Петербурга! – перевернуло душу Самсона. Путиловские специалисты внушали ему глубокое уважение знаниями и умной силой, которая позволяла им создавать такие чудовища, как дальнобойная пушка, и управлять ими.
Путиловцы охотно просвещали любознательного матроса, рассказывая не только о механике, но и о жизни. Дружба и взаимное доверие так выросли, что путиловцы частенько приносили ему прокламации, от которых в голове гудело, а сердце восторженно сжималось. Забираясь потихоньку в орудийную башню или в снарядное отделение, матросы читали революционную литературу.
Хотя все знали склонность Антоненко к шуткам, Карнаухов подхватил этот излюбленный у моряков тон:
– Брось травить!.. Волы… при чем тут волы? Сегодня суббота, и ты замечтался сходить на берег навестить какую ни на есть кухонную администрацию…
Кто-то фыркнул, а Самсон слегка смутился и стал оправдываться:
– Ни, я, братцы, женатый. А що до берега, так цэ ж воля Чухны. Теперь вин нас почухае… Мы знаемо, як вин чухав матросив в Балтийском море.
Гладков остановил разошедшихся ребят и приступил к делу. Откуда-то из тайников отсека он извлек листок и начал читать, медленно, тихо, почти по складам:
– «Во всех концах России рабочие восстали на борьбу. В Москве и Варшаве, в Саратове и Риге, в Ревеле и Вильно, в Екатеринославе и Ковно, в Гомеле и Юзовке и других городах рабочие тысячами бросали работы, заявляли о своем сочувствии петербургским рабочим, о своей готовности к решительной, энергичной борьбе… Неустанно, не покладая рук, должны мы готовиться ко дню окончательной схватки с самодержавием. Только народная республика даст возможность свободно вздохнуть русскому народу».
Гладков прочитывал фразу, потом поднимал глаза на товарищей, как бы спрашивая: видите, братцы, до чего дело дошло?.. И каждый из присутствовавших отвечал ему взглядом молчаливого одобрения, которое могло означать только одно: ничего, браток, и мы быстро подведем пластырь под пробоину, за нами дело не станет.
Тогда Саша Гладков еще медленнее и торжественнее прочитал последнюю строку заветного листка: «Российская социал-демократическая рабочая партия. Крымский союз».
IV. «Бронированная» женщина
Везет. Клево, как говорят матросы. Переводят в Севастополь. В резерв. Шмидт обрадовался переводу. Во-первых, он будет рядом с сыном, Женей, который учится в севастопольском реальном училище. Бедный мальчик, лишенный матери… Не слишком ли жестоко оставлять его и без отца? Потом – библиотеки, знакомые, кипучая жизнь столицы Черноморского флота.
С сыном и денщиком Федором Петр Петрович поселился в маленькой квартирке на Соборной, 14. Скромный флигелек во дворе, снятый за сравнительно недорогую цену, имел много преимуществ. Стоял он на горе. Внизу со всех сторон море, бухты, далекий рейд, сливающийся с небом. Тихо, никаких магазинов, никакой суеты. А через несколько минут ходьбы – Графская пристань, и Морское собрание с библиотекой, и севастопольский центр.
Особую ценность для Шмидта представляла библиотека. В Измаиле его раздражала оторванность от книг, газет, от всего, что волнует страну. Забастовки, волна за волной прокатывавшиеся по российским просторам, снова привлекли его внимание к рабочему классу. Никогда еще не проявлялась так наглядно роль этого класса в общественной жизни. Центральная, ведущая ось, больше того – мотор. Останавливается мотор – замирает жизнь. И все эти громоздкие и пышные надстройки власти и общества – всевозможные институты, департаменты, министерства, как будто незыблемые и существовавшие извечно, – все они оказывались до смешного беспомощными, эфемерными, стоило рабочим прекратить работу.
Петр Петрович набрал кучу книг и новейших журналов по рабочему вопросу и засел за них. Делал выписки, конспекты, записывал возникающие при чтении мысли.
В Собрании много знакомых. Вот инженер-механик Владимирко, призванный во флот в связи с войной, милый человек с умными, смеющимися глазами. Придерживаясь либеральных взглядов, он чувствовал себя неловко в офицерской среде и ходил по Собранию бочком, словно боясь кого-то задеть или опрокинуть стул. Происходило это оттого, что скрывать свои взгляды он считал недостойным, а высказывать – только гусей дразнить.
В первый же день встретил Шмидт и Михаила Ставраки. Есть что-то радостное, бодрящее во встречах с друзьями детства и юности, не омрачаемое неизбежно-грустным: «А сколько лет прошло!» Восклицание о прошедших годах только формальная дань арифметике, и вы радостно отдаетесь воспоминаниям о милом, давно исчезнувшем времени.
От Ставраки веяло сытостью и благополучием. Полное холеное лицо с тщательно расчесанной бородой под Александра III. Эполеты на круглых женских плечах. Свободный воротник, крупный, как кулак, узел черного галстука. Аксельбанты, напоминавшие, что лейтенант Ставраки является флаг-офицером самого главного командира вице-адмирала Чухнина.
– Ну как ты? Как жилось до войны?.. Купец, купец, слышал… Известный капитан торгового флота… – он тряс Шмидта за плечо и внимательно вглядывался в его желтоватое, усталое лицо. – Но хоть денег много. Говорят, на коммерческом флоте капитан тысяч до шести в год получает…
– У меня ни гроша, – рассмеялся Шмидт. – Но зато поплавал. Сколько миль наплавал – и счет потерял. Не то что ваш брат военный. Иной годами командует в Севастопольской бухте спуском трапов и сушкой командных подштанников.
Ставраки состроил мину оскорбленного достоинства:
– Вот так так, учудил магистр! А кто воевал?
– Как воевали – лучше не будем говорить, стыдно.
– Ну-ну, полегче! Сам военную службу бросил…
– Потому и бросил, что хотел остаться моряком, а не поклоняться блеску судовых медяшек.
Ставраки сокрушенно покачал головой, глядя на желтоватую кожу Шмидта. Вероятно, он не догадывался, что это след долгих скитаний под тропическим солнцем. Ему вспомнились пламенные споры в Морском училище, взволнованные речи «магистра». И он заговорил на более нейтральную тему – о давних годах и товарищах по Училищу.
О да, одного из них Шмидт как-то встретил, никогда не забыть. После нескольких лет отсутствия в столице и двух месяцев плавания попал он в Петербург – привез из Китая чай. Вдали от суши, от обычных тревог и городской сутолоки у Шмидта всегда появлялось настроение, которое он сам называл близким к нирване. Прикосновение к родным берегам вызывало пробуждение.
И вот Петербург! Отчего многие русские не любят Петербурга, считают его холодным и неприветливым? Сейчас все казалось Шмидту милым и славным, начиная от сутулого извозчика, вяло понукающего свою лошаденку. Все мужчины – молодцы, все женщины – красавицы. Доехали до Невского. Остановив извозчика, он пошел пешком, наслаждаясь встречей с каждым знакомым мостиком, с каждой витриной, пробуждавшими дорогие сердцу воспоминания.
И вдруг – ба! – знакомое лицо. Прошло восемнадцать лет, но это Добровский, кто же иной! Однако почему он в элегантном штатском платье?
Добровский изумленно прикоснулся к цилиндру. А, тоже узнал, наконец. Узнал! Слышал, что «магистр» ушел в торговый флот, но – разве это так выгодно?
Боже, от кого он слышит эти слова? Неужели от Добровского, одного из самых ревностных участников кружка гардемаринов, совладельца гектографа, горячего пропагандиста общественных благ для всего народа?
Добровский поморщился:
– Да, mon cher[1]1
Мой дорогой (франц.).
[Закрыть], юность – всегда юность. Мы жили не на земле, а в облаках. Это забавно, но… надо же считаться и с реальной жизнью. Я оставил флот, перешел в министерство иностранных дел – у меня там связи, если помнишь, – можно продвигаться…
Шмидт уставился на идеальный цилиндр бывшего товарища по мечтам и подвигам, взглянул в его по-прежнему острые глаза, и ему стало жутко. Вот он, родной берег… Не лучше ли снова в море?
Теперь он рассказывал об этой встрече Ставраки легко, уже перестрадав тогдашнее впечатление. Ставраки убежденно ответил:
– А что? Действительно, надо же считаться с жизнью!
Он смотрел на изжелта-бледное лицо Шмидта с недоумением, смешанным с каплей презрения. Подумать только – морской офицер, сын адмирала! А мать, мать чуть ли не гедиминовского рода, из князей Сквирских – ветвь древнего дерева польских королей и литовских великих князей! Потомок же их Пьер, подававший такие надежды, из-за какой-то блажи отказывается от большой карьеры и доходит в своих умствованиях до того, что вынужден ютиться в чужом флигельке где-то на заднем дворе…
У него, Ставраки, на той же Соборной улице, в нескольких минутах ходьбы от дома номер 14, – собственный трехэтажный особняк из массивных каменных плит. Просторные окна, балконы, сад, спускающийся террасами. А шмидтовская ученость… Ах, этот либ-берализм… дем-мократизм и прочие модные словечки! Карьера погублена, карьера, которая имела все шансы быть блистательной!..
Ставраки хотел сказать об этом Шмидту прямо и дерзко, как когда-то в детстве, но инстинкт осторожности удержал его.
Впрочем, нет, не только осторожность – Ставраки невольно испытывал привычное уважение к «магистру», прежде так выделявшемуся своими способностями. И даже самая блажь Шмидта, его идеализм и бескорыстие вызывали у Ставраки чувства, в которых он не мог разобраться, – смесь удивления, уважения и зависти. Чем меньше сам он был способен на бескорыстие, тем с большим удивлением ценил его в Шмидте.
И все-таки он не без самодовольства сказал:
– Приходи, Петя, ко мне, посмотришь мой дом. Да и вина у меня вполне comme il faut[2]2
Отличные (с франц., буквально – «как надо»).
[Закрыть].
После целого дня хлопот Шмидт вернулся домой усталый и решил вечером больше не работать. Но ему не спалось. В два часа ночи он осторожно встал, чтоб не разбудить спавшего в соседней комнате сына, зажег свет и сел за очередное письмо к Зинаиде Ивановне.
Эта переписка стала необходимостью для Шмидта, первейшей душевной потребностью. Такой же возвышающей и облагораживающей была она и для молодой киевлянки.
Первый же проблеск доверия вызвал у Шмидта взрыв бурной радости. Впрочем, не требовалось особой догадливости, чтобы понять, чем диктовалась сдержанность молодой женщины. Петр Петрович с восторгом и нежностью принял объяснение. «Разве вы не поняли, Зинаида Ивановна, что мой упрек в том, что вы злая, – это ласковый упрек человека, который хочет стать ближе к вам и которому больно, что вы его отстраняете».
Чтобы «бесплотный дух» – как Шмидт назвал в одном из писем свою корреспондентку – несколько материализовался, Петр Петрович попросил Зинаиду Ивановну прислать ему фотокарточку. Разговоры о карточке перемежались с обсуждением политических проблем. Зинаида Ивановна поинтересовалась его политическими убеждениями. Шмидт ответил: «Докладываю вам, сударыня, что я не монархист, а принадлежу с юных лет к крайней левой нашего грядущего парламента, так как я социал-демократ и всю жизнь посвятил пропаганде идей научного социализма. Вследствие этого я, выйдя в офицеры, не оставался на военной службе, а перешел по вольному найму в торговый флот, войдя таким образом в ряды рабочего пролетариата, жил и живу интересами рабочего сословия. Таким образом, я очень мало прикасался к земле, так как, например, последние десять лет плавал только на океанских линиях, и в году набиралось не больше 60 дней стоянки в разных портах урывками, а остальное время обретался между небом и океаном. Последние пять лет был капитаном больших океанских пароходов. Теперь призван на время войны на действительную службу и жду, чтоб меня уволили, так как опять уйду в торговый флот».
Шмидт писал Зинаиде Ивановне обо всем, чем жил, что занимало и волновало его, – о политических событиях, о сыне Жене и его товарищах, о служебных делах и денежных неприятностях и прежде всего о том, как ему близка далекая, почти незнакомая Зинаида Ивановна.
Отвечая на настойчивые расспросы Петра Петровича, Зинаида Ивановна сообщала ему о том, как она проводит день, что слышала в концерте, о своих родных и знакомых, а также о денежных делах, которые и у нее были не блестящи. («Я не допускаю, чтобы такая дрянь, как деньги, могла портить вашу и без того тяжелую жизнь», – писал Шмидт, мечтая с возвращением в торговый флот поправить дела и свои и своей подруги).
Эти детали быта, о которых она сообщала, помогали Шмидту ежедневно, ежечасно видеть и чувствовать далекого друга.
Пришли, наконец, фотоснимки. Боже, она ли это? Петр Петрович не находит почти никакого сходства – не с той, которую он видел мельком на киевских бегах и в полумраке вагона, а с той, которая все эти месяцы жила в его сердце. Нет, сходство все-таки есть – в глазах, зовущих и сдержанно-печальных… Она красива, пожалуй теперь даже лучше, чем тогда.
Карточек несколько. Зинаида Ивановна в большой шляпе с зонтом на коленях. Дома в кресле, глаза опущены, задумавшись, она что-то рассматривает… На этой карточке в лице ее чувствуется некоторое самолюбование, ощущение своего женского обаяния. А вот она с книгой. И все это… не она, а они! Потому что лица разные, выражения разные.
Шмидт с болью думает об этой разности. Что это: произвол фотографа или богатство, выражений одного лица? И как согласовать это многообразие с той единственной Зинаидой Ивановной, к которой он уже так привык?
Вот он видит ее. Стройная фигура в осеннем дарницком лесу. И этот легкий поворот головы. И книга в руках. Что за книга? А, томик Гейне. Как бы хотелось ему очутиться около нее, говорить обо всем – о жизни, о себе, о России… Почему Гейне? Он любит и ценит его, но до лирических ли теперь стихов? Другим живет сейчас Россия.
И Шмидт писал: «Я хочу взять вас за руку и идти вместе с вами к одной общей нам обоим высокой цели. Ну, до свидания, хорошая моя Зинаида Ивановна, целую вашу руку, жду с нетерпением писем от вас. Много, много о вас думаю. Преданный вам П. Шмидт».
Доверие установлено. Не могла не подействовать сила его открытого добросердечия, тоска по любви, которыми были насыщены его письма. Доверие установлено. По крайней мере, так ему казалось. В одном письме Зинаида Ивановна обронила слова, что потерять Шмидта было бы для нее несчастьем.
Но и счастье это было трудное. Осторожность или женский инстинкт заставляли Зинаиду Ивановну всегда быть готовой к отступлению. Ее признания обычно сопровождались оговорками: «отношусь я к вам хорошо, насколько знаю по письмам».
Как завоевать расположение этой «бронированной» женщины? Как поколебать ее ужасную уравновешенность?
Он понимает, он согласен – женщина, не знающая строгого контроля рассудка, может попасть в тяжелое положение. Зинаида Ивановна обожглась однажды. Но ужасно, когда рассудочность убивает самую возможность чувства. Где тот высший закон, который, оставляя свободу рассудку, не накладывает цепей рабства на чувство?
Сам Шмидт обжегся уже не раз, но не желал из-за этого избегать огня. Что за жизнь без горения, борьбы, чувств? И он писал Зинаиде Ивановне:
«Пусть вас жизнь больше не обманет, пусть вы больше не обожжетесь, застраховав себя в надежном «рассудке», а я желаю остаться незастрахованным, понимаете? Незастрахованным был, есть и буду. Это страховое общество «Рассудка» налагает на меня такие суровые правила, так стесняет мою жизнь, я говорю о моей частной, личной жизни, что я предпочитаю остаться при риске погореть, но с ним вечного контракта не заключаю. Слишком дорого это спокойствие не погореть обходится. Помилуйте! Уж одно требование не жить на 10-м этаже, а никак не выше 5-го, 6-го, да еще непременно с каменной лестницей, которая могла бы меня со всем моим скарбом во всякий момент вывести на землю в безопасное место. А я желаю не только на 10-м, а в 100-м этаже обитать, и на землю желаю не по каменной лестнице осторожненько спускаться, а прямо, может быть, мне любо будет с 100-го этажа вниз головой на каменную мостовую выкинуться! И выкинусь, и разобьюсь, а все же страховое ваше общество мне не указ! Не нужна мне рекомендуемая вами «гарантия к дальнейшему спокойствию». Гарантию не принимаю, так как от самого спокойствия отказываюсь. Не имел я его никогда, не имею и иметь не желаю! Вы довольны, что научились давать всему определение, ясную, точную оценку. Голубчик! Умоляю вас, ради всего святого, не давайте мне никакой оценки, а оставьте меня, как не подлежащего определению, в стороне».
Иногда полемика с «бронированной» женщиной причиняет ему боль, но он признается себе, что и в этом находит подлинное счастье. В полемике они раскрывают себя друг другу, и разве она не заговорила с ним, как близкий, родной человек? Даже все ее противоречия и несообразности кажутся, в конце концов, очень милыми. Разве они существуют не для того, чтобы он мог дружески, любя раскрывать и опровергать их?
Переписка – это дуэт. Они поют разными голосами, дополняя друг друга. Даже если замкнутость и сдержанность подруги порой вносит в их дуэт диссонанс, он все равно уверен, что скоро их голоса сольются в гармоническое созвучие.
Почтальон приходил на Соборную, 14, к вечеру. Это был солидный человек с большими, через всю щеку, тщательно подкрученными усами, которые придавали ему вид чиновника. Шмидт давно подметил, что у почтальона, усталое, грустное лицо человека, выполняющего непосильную для него работу. Петр Петрович как-то заговорил с ним. Так и есть: с больным сердцем трудно таскаться по севастопольским горам, но большая семья… Петр Петрович удвоил чаевые. Он полюбил этого славного человека, который приносил ему газеты, журналы, письма, главное – письма Зинаиды Ивановны.
Но иногда несчастный почтальон начинал раздражать Шмидта. Раздражали его голос, его услужливость, разбухшая сумка, отекшее лицо. Это случалось в те дни, когда писем от Зинаиды Ивановны не было.
Почему она молчит? Кажется, чего бы он только не сделал ради этой женщины, ради ее счастья! А она забывает регулярно отвечать на письма! Или она заболела? Но почему же тогда нет телеграммы? Подождем до утра. Если и утром не будет телеграммы, придется телеграфировать ее сестре. Работа валится из рук.
Наступает утро. Ах, вот, наконец, и телеграмма! Ничего не случилось, просто незначительная простуда. По-видимому, все дело в разнице характеров, темпераментов, отношения друг к другу. Иногда ему кажется, что для Зинаиды Ивановны эта переписка – просто развлечение. Есть письма – хорошо, нет – невелика беда. Эта мысль жжет его, как оскорбление.








