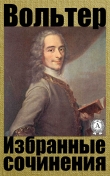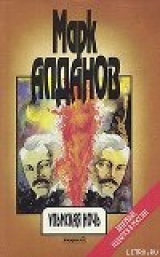
Текст книги "Ульмская ночь (философия случая)"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Л. – Согласитесь, однако, что довольно странно, обсуждая переворот, произведенный Лениным, Троцким, Сталиным, посрамлять их философско-историческими принципами, к которым они могут относиться только с ненавистью и презрением. Какое им дело до Мальбранша, Толстого, Бокля, Дильтея и даже до их сомнительного «двоюродного деда»!
А. – Я и в мыслях не имею «посрамлять» их. Уж скорее заслуживали бы «посрамления» создатели перечисленных мною философско-исторических систем: «вот ведь произошло великое событие, вполне противоречащее всему тому, что вы утверждали». Октябрьский переворот представляет собой реальность, независимую от того, как его толкуют коммунисты. Я только сказал, что к этому перевороту неприложимы и другие системы философии истории. Всего же менее приложима, повторяю, их собственная. Троцкий начинает предисловие ко второму тому своей «Октябрьской революции» словами: «Россия так поздно произвела у себя буржуазную революцию, что она оказалась вынужденной превратить ее в революцию пролетарскую. Иначе говоря: Россия настолько отстала от других, что ей пришлось их перегнать по крайней мере в некоторых областях. Это кажется абсурдным. Однако, история полна таких парадоксов. Капиталистическая Англия настолько опередила другие страны, что была вынуждена замедлить шаг»(137).
Л. – Пример Англии во всяком случае ложен.
А. – Разумеется. Эта книга Троцкого написана умно, искусно и талантливо, но приведенное мною место просто галиматья. Оно не «кажется абсурдным», а действительно представляет собой абсурд. В нем Троцкий сжал содержание многих страниц, в которых он доказывает, что в России 1917 года именно и должна была произойти социальная революция. Эта самые слабые и очень скучные страницы его книги. Изъяв из марксизма его основную аксиому, он пользуется для доказательства своего положения всеми фокусами марксистской диалектики. Фокусы эти очень нетрудны. Турецкий или персидский Троцкий при помощи сходных доводов мог бы легко доказать, что в Турции или Персии тоже буржуазная революция произошла слишком поздно и что поэтому ее «приходится» превратить в социальную. Недавно египтяне выгнали короля Фарука, и, я уверен, было бы легко доказать, с ученейшими ссылками на статистику, на экономическое положение феллахов, что именно пришло время для коммунистической революции в Египте. В Германии в 1918 году сходное положение можно было бы доказывать с гораздо большим правом, с гораздо меньшими отступлениями от марксистских «законов истории», да его там многие и доказывали; но у немцев законы истории почему-то застопорились, и вышла сначала буржуазная демократия, а затем уж совсем не предусмотренная законами истории гитлеровщина. Троцкому, по его натуре, необходимо было доказать миру, что он «всегда так думал», и притом первый: будет в России именно социалистическая революция. Враги Троцкого еще в ту пору, когда он был у власти, доказывали, что он никогда так не думал, что и теория «перманентной революции», вдобавок им заимствованная, была совсем не то. Раскопали его литературное прошлое, ссылались на его старые статьи, в частности, на одну из них, написанную в 1909 году для польского журнала Розы Люксембург и действительно не очень для него удобную, – он отвечал со своей обычной наглой самоуверенностью, но как будто не без внутреннего смущения. Нас это мало интересует, мы с вами не начетчики. Что же касается Ленина, то он, по-видимому, действительно порою так думал давно. Однако, именно он на этом «I told you so», (если не ошибаюсь), настаивал очень мало. По натуре эти два человека очень мало походили друг на друга. Ленин был преимущественно экспериментатор, Троцкий преимущественно честолюбец. Тем не менее, в их личных «цепях причинности» есть немалое сходство. Обоим без социальной революции в 1917-ом году было бы нечего делать. Едва ли нужно говорить, что ни малейшей любви к человечеству у них не было, – ни к «ближнему», ни к «дальнему». Оба они не любили людей. Они даже не очень врали, как Фуше, о «всеобщем счастьи потомства». Предполагалось, что это самой собой, что это где-то как-то вынесено в их жизни за общие скобки. Прежде, до падения царского строя, у них было дело, конспирация, агитация, устройство ячеек, посылка в Россию пропагандной литературы. Но что было бы делать Троцкому в российской демократической республике? Если б он пошел на идейные уступки, он мог бы в лучшем случае стать одним из бесчисленных министров веймарского типа, – их имен история и не сохранила. Кроме того, как ни насыщен он был честолюбием, Троцкий хамелеоном никогда не был: он на такие уступки не пошел бы. В историческом смысле он без октября оказался бы безработным. О Ленине и говорить нечего. Оба они были очень выдающиеся люди. С риском вызвать насмешки у социологов, скажу: без Ленина октябрьской революции наверное не было бы. К несчастью, новейшая история России тесно связана с датами его жизни. Никаких собственных теоретических идей у него не было, но своей проницательностью он превосходил Маркса. Тот долго считал Бисмарка «простым орудием в руках петербургского кабинета», в семидесятых годах прошлого века предвидел гигантские катастрофы в Соединенных Штатах и чуть ли не всю жизнь со дня на день предсказывал близкое падение царского строя, который его пережил на тридцать четыре года. Как организатор, как практический политик, Ленин тоже был выше, чем Маркс. Автор «Капитала» слишком презирал и ненавидел своих соперников. Если б он пришел к власти при жизни Лассаля (не говорю уже о Бакунине), он едва ли бы его пригласил в свой кабинет. Ленин пригласил Троцкого и левых социалистов-революционеров, – все пригодятся. Вероятно, и политическое завещание Маркс составил бы не в том снисходительном отеческом тоне, в каком Ленин в своем завещании отзывался о своих товарищах (за одним знаменитым исключением). Во всяком случае Ленин первый в 1917 году, вопреки мнению всего мира, объявил, что большевики захватят и удержат государственную власть...
Л. – Он же, однако, несколько позднее изумлялся тому, как их не свергли. Кажется, удивлялся этому и Троцкий.
А. – Без Троцкого революция была бы, но прошла бы, вероятно, много менее удачно для большевиков. Работа, которую эти два человека развили в 1917 году, всегда будет вызывать удивление историков. Я жил тогда в Петербурге и видел это со стороны. Другие это видели вблизи и описали. Первый случай в октябрьской революции это то, что у нее оказались два таких человека. Второй и третий случай: им обоим удалось приехать в Россию. Британское правительство, как вы знаете, задержало Троцкого в Англии и выпустило его по ходатайству русских министров. Оно нисколько не было обязано удовлетворять такое ходатайство, и легко было бы догадаться, что Временное правительство не будет очень огорчено отказом. Если б первым министром Англии тогда был Черчилль, он наверное ходатайства не удовлетворил бы. Германское правительство Ленина пропустило, но могло и не пропустить: Людендорф впоследствии о пропуске сожалел; при другом его решении, глава большевистской партии, вероятно, пробыл бы до конца войны в Швейцарии, и русская история пошла бы по другому пути. Ленин благополучно проезжает через Германию и начинает свою работу. Очень скоро он вызывает к себе почти всеобщую лютую ненависть: ведь большевистские вожди не имели тогда монополии на агитацию. Террористам, если б таковые нашлись, было бы очень легко их убить: они ведь появлялись открыто на бесчисленных собраниях. Это можно было бы сделать даже почти без риска. Правда, на митинге толпа могла бы разорвать убийцу, но на улице они большой опасности не подвергались бы и имели бы все шансы на оправдание в суде присяжных. Опять случай: их не убивают. До приезда Ленина в Петербург никто решительно из большевиков не собирался устраивать социальную революцию. Напомню вам факты, впрочем всем известные, 3-го апреля глава большевистской партии приезжает на Финляндский вокзал. По его собственным словам, он был уверен, что его тут же на вокзале арестуют по приказу Временного правительства: он плохо знал и обстановку, и правителей. На самом деле его восторженно встречают друзья – и не только друзья. Чхеидзе произносит приветственную речь. Ленин, даже не глядя на него, обращаясь не к нему, а к воинской части, тоже прибывшей на вокзал, кратко, но довольно ясно излагает им предстоящую задачу. «Близок час, когда, по призыву нашего товарища Карла Либкнехта, народы повернут оружие против эксплоататоров капиталистов. Совершенная вами русская революция открыла новую эпоху. Да здравствует мировая социалистическая революция!». Оглядываюсь на этот роковой день и спрашиваю себя, что надо было делать? Можно – не без труда вообразить в сходной обстановке Наполеона во главе правительства. Он, вероятно, тотчас под конвоем отправил бы Ленина до конца войны куда-либо подальше. Какой-нибудь Цезарь Борджиа подослал бы к Ленину убийц, которые за чашкой чаю подсыпали бы ему яда. Покойный князь Львов ни в каком отношении не походил ни на Наполеона, ни на Борджиа...
Л. – Мы даже смело можем отставить в стороне гипотезу о Наполеонах и Цезарях Борджиа во главе Временного правительства.
А. – Вдобавок, «состава преступления» тогда еще в действиях Ленина не было. Кроме того, вспомните политическую обстановку и психологическую атмосферу тех дней: если б Временное правительство посмело тогда за речь арестовать вождя революционной партии, на наших министров обрушились бы и Совет, и все социалисты, – быть может, не только социалисты России, но и всего мира. Временному правительству пришлось бы тот-час Ленина освободить, или выйти в отставку, или пойти на государственный переворот. И, наконец, оно не придавало большого значения тому, что говорит и будет говорить какой-то эмигрант, в ту пору еще и не очень известный. Быть может, некоторые министры тогда впервые в жизни услышали его имя. Чудо было не в том, что Временное правительство ничего не сделало. Чудо было в том, что в этот самый вечер 3-го апреля сделал Ленин. В доме Кшесинской собираются столпы большевистской партии. Среди них один не совсем званый и получужой гость, благодаря которому сохранилась картина вечера. Произносились приветственные речи в честь Ленина. «Приветствия-доклады наконец кончились, – рассказывает Суханов. – И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, – носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников»(138). Ленин говорил часа два. «Он потряс не только ораторским воздействием, но и неслыханным содержанием своей ответно-приветственной речи, – не только меня, но и всю собственную большевистскую аудиторию»(139). Результаты общеизвестны: Ленин представляет свои тезисы, – надо покончить с войной и начать мировую социальную революцию. Эти тезисы мало-помалу усваивают, за редкими .исключениями, другие вожди партии, – одни тотчас, другие скоро, третьи не торопясь. Все их собственные планы сметены. За несколько дней до того Сталин «с полной симпатией» отнесся к предложению Церетели об объединении большевиков с меньшевиками. Теперь программа Ленина становится программой партии. Я и по сей день не могу понять, почему это так случилось.
Л. – Случая во всяком случае тут не было.
А. – Он был постольку, поскольку личная цепь причинности очень сильного волевого человека столкнулась с гигантской совокупностью цепей причинности русской революции. Повторяю, Ленина ведь могло и не быть. Тогда, вероятно, даже не поднялся бы вопрос об устройстве социальной революции. Кто его поднял бы, когда Каменев, Зиновьев были решительно против нее, а Сталин и все другие вожди просто о ней не думали? Приехавший позднее Троцкий ни малейшего влияния среди большевиков не имел, для них он был чужой человек, почти все они его терпеть не могли, и считали политическим врагом: ведь он, по его собственным словам, «шел к Ленину с боями». Если б его программа не совпала с программой Ленина, большевики его и в партию не приняли бы. Может быть, и программа Троцкого так совпала с Ленинской отчасти именно потому, что этот честолюбец не мог и не хотел оставаться историческим безработным с небольшим пособием от будущих историков в виде двух-трех страничек в их книгах (без русской революции он и даже Ленин не удостоились бы и одной странички). Добавлю, что доводы Ленина были нисколько не убедительны; теоретически, по Марксу, Каменев и Зиновьев были совершенно правы. Если б я очень верил в гипнотизм, я сказал бы, что Ленин «загипнотизировал» свою партию, – и это тем более удивительно, что для нее он не был внезапно свалившимся с неба божеством с присущим божествам ореолом: очень многие из ее столпов давно и хорошо знали громовержца, пили с ним пиво в Кафе де ла Ротонд и в женевском Каруже, знали мелочи его личной жизни, шутили над его слабостями, обсуждали с ним, где бы достать пятьдесят франков, чтобы дождаться ближайшей получки. Все это, не в теории, а в житейской практике, обычно ореолу не способствует. Не имел он над ними и власти, вроде позднейшей безграничной власти Сталина. Ленин мог грозить и грозил только тем, что выйдет из Центрального Комитета. Но на всем этом я особенно не настаиваю. Главное и случайное оказалось в том, что все его предпосылки, все соображения, принадлежавшие уже не к теоретической политике, а к практической, оказались совершенно ложными.
Л. – Каким образом?
А. – Троцкий уделил не одну страницу доказательству того, что октябрьский переворот вышел из идей Маркса, а отнюдь не из идей Бланки. Думаю, что, при всей своей спешно приобретенной на Принкипо начитанности в истории, он и не заглядывал в немногочисленные статьи и речи знаменитого французского революционера. Их ему и достать было бы очень трудно, вдали от главных книгохранилищ мира. Если не ошибаюсь, он в своих писаниях Бланки нигде прямо не цитирует. Знал о нем больше понаслышке, из упоминаний в марксистской литературе. По его словам, Бланки думал, что победу в революции может обеспечить одно соблюдение правил тактики восстания. В такой форме это толкование Бланки неверно. Та же доля правды, которая в нем есть, подтверждается и опытом 25-го октября: тактика этого переворота была не слишком изумительной, но она была лучше большевистской же тактики в день восстания 4-го июля. Ей обеспечило победу в день октябрьского переворота полное отсутствие тактики у военных властей Временного правительства и совершенное заблуждение этого правительства относительно вооруженных сил, которыми оно располагало. Все же глубокомысленные соображения Троцкого о классовой борьбе, о разнице между восстанием и революцией были хорошо известны и Бланки. Несмотря на хлесткость диалектики автора «Истории русской революции», эти соображения элементарны и не содержат в себе ни одной новой идеи по сравнению с «Гражданской войной во Франции» Карла Маркса, даже по сравнению с писаниями Энгельса и многочисленных эпигонов. Троцкий доказывал, что у них был не бланкизм, – в результате же все-таки выходит, что былл именно бланкизм, прикрытый псевдонимами Маркса и, разумеется, самого Троцкого. Мне, кстати, всегда было не совсем понятно, почему, по каким психологическим соображениям, большевики (менее других сам Ленин) так упорно от Бланки открещивались. Разве только, что «по Марксу» выходит гораздо солиднее. Французский революционер писал так мало и так не «научно» (хотя был человеком большой и разносторонней учености, не столь уж уступавшей огромной учености Маркса). Или же было психологически тяжело отказаться от старой, знаменитой фирмы, в которой все они прослужили всю жизнь? Однако Ленин в апреле 1917-го года, предложив партии называться коммунистической, отказался от другой своей старой фирмы, от социал-демократии, – и отказался без малейшей сантиментальности: назвал ее «грязным бельем», сказал, что необходимо «снять грязную рубашку и надеть чистую». В более учтивой и почтительной форме большевики могли отказаться и от фирмы Маркса. Им даже незачем было себя назвать бланкистами; у них ведь Бланки всегда считался как бы бедным родственником, хотя и симпатичным. Они могли просто назвать себя ленинистами, – и это совершенно соответствовало бы действительности. Троцкий, конечно, был бы против этого. Вся длиннейшая его книга написана для того, чтобы доказать положение, нелепое и a priori, и a posteriori: революция 1917 года, с некоторыми неизбежными небольшими отклонениями, развивалась по строгой логике диалектического материализма и собственно даже по плану, созданному – разумеется, лишь в общих чертах – им, Троцким, правда, при очень серьезноой, независимой от него, помощи со стороны Ленина. Говоря о том, что в начале революции у большевиков не было ее общей концепции, он добавляет, что эта общая концепция и не могла быть выработана в глуши, в тех отдаленных местах, где находились Сталин, Молотов, Рыков, «в Сибири, в Москве, даже в Петербурге». Она могла быть выработана «только на перекрестке мировых исторических дорог», т. е. там, где находился он, Троцкий. Не совсем понятно, почему тогдашний Петербург был в этом отношении хуже Нью-Йорка, Вены или других западных столиц, но Троцкий великодушно нашел для врагов это смягчающее обстоятельство (попутно тем самым давая и маленькую апологию русской эмиграции вообще). Конечно, до его приезда в Петербург из дальних стран, революционный процесс строго-логически развивался без его прямых директив. Однако Троцкий неоднократно упоминает, что Совет рабочих и солдатских депутатов в своих действиях с самого начала революции сознательно или бессознательно руководился традицией Совета 1905 года. Как известно, этот Совет был первым бенефисом Троцкого. Для полного подтверждения строгой логики диалектического материализма автору «Истории русской революции» понадобилось несколько свободное обращение с фактами. Так, Февральская революция оказалась делом рабочих. Это следовало и по известному предсказанию Плеханова: русская революция восторжествует как революция рабочего класса или совсем не восторжествует. Предсказание, правда, совершенно не сбылось. Только люди, не видевшие событий в Петербурге или ослепленные пристрастием к схемам, могут, как Троцкий, доказывать, что революцию в феврале совершили рабочие, а «солдаты к ним примкнули на пятый день». На самом деле без восстания петербургского гарнизона февральские рабочие беспорядки были бы очень легко прекращены даже потрясающим по слабости последним правительством императорской эпохи. Да и вообще в течение всего 1917 года и в самые дни переворота роль рабочих, конечно, уступила роли солдат (как принято было говорить, «вооруженных крестьян», хотя психология солдата все-таки отличается от психологии крестьянина). Сам Троцкий говорит о 25-ом октября: «Трудно определить силы, принимавшие участие в захвате столицы ночью: не только потому, что их никто не считал и не записал, но и по причине самого характера операций. Резервы второй и третьей линии составляли почти весь гарнизон. Но к резервам можно было прибегать только эпизодически. Несколько тысяч красногвардейцев, две-три тысячи матросов, – на следующий день, с приходом подкреплениий из Кронштадта и Гельсинфорса, их число приблизительно утроилось – десятка два рот и отрядов пехоты, вот силы первой и второй линии, при помощи которой повстанцы заняли столицу». О рабочих, как видите, тут он не очень распространяется.
Л. – Я видел однако и 25-го октября, и 4-го июля на улицах Петербурга в лагере большевиков множество людей в штатском платье, плохо вооруженных и не имевших военной выправки.
А. – Конечно, их было много. Среди них, вероятно, преобладали рабочие, но были и интеллигенты, и полуинтеллигенты. Роль полуинтеллигентов в октябрьской революции была особенно велика, как и во всех революциях, говорю это, разумеется, никак им не в укоор. Из полуинтеллигентов состоял в большинстве и большевистский главный штаб. Но решающую роль в восстании сыграли, конечно, войска. Над революцией с самого начала повис рок: не желавший больше воевать петербургский гарнизон. И, оглядываясь назад, я и теперь не вижу, как могло бы Временное правительство успешно бороться с этим роком. Послать столичный гарнизон на фронт было почти невозможно: какая сила могла бы его заставить исполнить такой приказ? Это только ускорило бы вооруженное восстание, так как для каждого солдата риск на фронте был много больше риска при восстании в Петербурге. К тому же, так называемые надежные воинские части, если б даже их можно было вызвать с фронта для усмирения петербургского гарнизона, должны были бы, очевидно, заменить его в столице, и тогда они очень скоро бы из надежных превратились, вероятно, в ненадежные, в такой же точно гарнизон, желающий во что бы то ни стало остаться в тылу. Демобилизация разложенных пропагандой воинских частей? Ее они, наверное, приняли бы с восторгом, но каким соблазном это было бы для фронта! Сколько сотен тысяч других солдат пожелали бы подвергнуться такому же наказанию и сделали бы для этого все необходимое! Думаю теперь, что, быть может, наименее плохим, хотя тоже очень плохим, выходом была бы отправка петербургского гарнизона в глубокий, вполне безопасный тыл, под предлогом, скажем, обороны китайской границы. Да и то солдаты верно предпочли бы развеселую петербургскую жизнь с «концертами-митингами» и «танцульками».
Л. – Не могу сказать, чтобы ваше толкование событий 1917 года отличалось особенным идеализмом. Все-таки и 4-го июля, и 25-го октября люди умирали за идею.
А. – Да, 4-го июля большевики потеряли убитыми пятнадцать человек, а 25-го октября несколько больше.
Л. – Если б все было так, как вы говорите, то, значит, политической необходимостью, единственным спасением был бы для нас сепаратный мир с Германией.
А. – То, что было политической необходимостью, было психологической невозможностью. Вековая совокупность многого множества цепей причинности создала русскую интеллигенцию 19-го и 20-го веков, – явление, в некоторых отношениях удивительное, не повторявшееся и неповторимое. У нее были великие качества, к которым я и теперь, когда ее больше нет и, вероятно, никогда не будет, отношусь с глубоким уважением, – горжусь тем, что в ее среде прожил свою жизнь. Были у нее и громадные недостатки. Но это не входит в тему нашего разговора. Такая, какая она была, – русская интеллигенция, ее правившая страной верхушка, просто не могла заключить сепаратный мир, не могла сделать то, что позднее очень легко и грациозно, без больших угрызений совести, сделали правители других стран. Настоящий «государственный человек» нашел бы еще лучший выход: сепаратный мир можно было заключить временно, с догадкой о будущем, сохранив за собой, конечно, не право (право тут ни при чем), а фактическую возможность в последней стадии войны без больших потерь примкнуть к лагерю победителей...
Л. – Так поступили и не имея настоящих «государственных людей» румыны в 1918 году. Можно было бы назвать и другие примеры. Вы, однако, в этом третьем вашем разделе беседы несколько отошли от темы случая.
А. – Вы упомянули о восстании 4-го июля. Оно кончилось поражением большевиков. Между тем по существу оно ничем не отличалось от восстания 25-го октября, кончившегося их победой. Троцкий пространно доказывал, что большевики 4-го июля еще не собирались захватить государственную власть, считая это невозможным, и что в этот день никакого восстания не было, а была только «вооруженная демонстрация». Он даже намекает, что правительство или какие-то люди, близкие к правительству и к английскому послу Бьюкенену, провоцировали рабочих в целях установления твердой власти в России. Приводит «доказательства», вроде того, что у одного (не названного им) генерала были, по свидетельству рабочего Метелева, найдены в квартире при обыске два пулемета с лентами! Доказательство, разумеется, бесспорное. Разве только улыбку может вызвать самая мысль о провокации со стороны русских министров того времени или со стороны английского посла. Из Джорджа Бьюкенена и правые, тогда и позднее, пытались сделать демоническую фигуру тайного руководителя русской революции. На самом деле этот усталый старик вообще плохо разбирался в русских делах и заботился преимущественно о том, как бы ни с кем не поссориться. Разумеется, Троцкому надо было доказывать, что большевики в мыслях не имели в июле захватывать власть: «вооруженная демонстрация» была самым большим их поражением в 1917 году; главная ответственность, что бы он ни говорил, падала перед историей на него, как на вторую по размерам фигуру в большевистском лагере (тем более, что Ленин, первая фигура, тогда был болен)(140), – как же он, Троцкий, Наполеон революции, мог потерпеть поражение! И как было бы это примирить со стройным планом, выработанным им на перекрестке мировых исторических дорог? Доказательства Троцкого вдобавок, в высшей степени противоречивы. С одной стороны, «рабочие» проявили в июле такой бешеный энтузиазм, что удержать их от «демонстрации» оказалось для вождей невозможным; с другой же стороны, в июле «даже у петербургских рабочих не было такой готовности к бесстрашной борьбе», какая появилась в октябре. С одной стороны, у правительства в июле еще было достаточно вооруженных сил, чтобы справиться с большевиками: «Надежные воинские части, предназначенные для того, чтобы раздавить Петербург, были взяты правительством из войск, находившихся наиболее близко к столице, без активного сопротивления со стороны других частей, и были привезены эшелонами без какого бы то ни было сопротивления со стороны железнодорожных рабочих»; с другой же стороны, «захват власти не представлял бы для большевиков никакой трудности» и т. д. Впрочем, на всякий случай, для истории, Троцкий добавляет (тут ссылаясь на Милюкова), что дело 4-го июля все-таки оказалось для большевиков выгодным, так как оно им выяснило, «с какими элементами надо иметь дело, как надо организовать эти элементы, наконец, какое сопротивление могут оказать правительство, совет и воинские части». Однако, по словам Милюкова, именно Троцкий вечером 3 июля в Таврическом дворце заявил: «Теперь настал момент, когда власть должна перейти к советам»(141). – Разумеется, если б дело 4 июля удалось, Троцкий вспомнил бы об этой своей фразе. Он оказался бы Наполеоном революции в обоих случаях. Так как дело не удалось, то пришлось занять несколько иную позицию: собственно говоря, и 4-ое июля было тоже заранее предусмотренным мастерским ходом, – это было, так сказать, сражение при Прейсиш-Эйлау в ожидании полной победы под Фридландом. На самом деле, разумеется, день 4-го июля оказался для большевиков чрезвычайно вредным. Опыт могло приобрести и правительство, а неудача первой попытки всегда вредит второй. «Вооруженная демонстрация» под лозунгом «Долой министров-капиталистов!», конечно, имела целью захват власти. Ленин, не любовавшийся собой в зеркале истории и нисколько не боявшийся признавать свои поражения, откровенно писал: «Нельзя теперь говорить о вооруженной манифестации без желания произвести новую революцию». «Формально наиболее точное описание событий (4-го июля) – это антиправительственная манифестация. ННо существо дела в том, что у нас была не обыкновенная манифестация: это гораздо больше, чем манифестация, и это меньше, чем революция». В действительности, была именно неудачная попытка сделать в июле то, что с успехом было сделано в октябре. Попытка 4-го июля могла удаться, как могло бы не удаться восстание 25-го октября. Одни обстоятельства в июле складывались для большевиков менее благоприятно, чем в октябре, другие более благоприятно. Не буду их перечислять вам, как не буду перечислять чистых случайностей в оба эти дня; это было бы слишком долго и напоминало бы то, что я говорил о 9-ом Термидора. Последняя случайность была опять метеорологической: ливень, закончивший день 4-го июля. Солдаты, знавшие по долгой привычке, что из строя выходить нельзя, какова бы ни была погода, остались на улице, а разношерстные люди в штатском, не очень хорошо вдобавок понимавшие, чей приказ они выполняют и чего собственно хотят, стали расходиться по домам. Метеорологическая цепь причинности снова толкнула и надорвала политическую, большевистскую... Не вздумайте приписать мне мысль, будто я объясняю ливнем неудачу июльского восстания. Он был лишь одной случайностью из великого множества. Коллективной цепью причинности неудачи было то, что в июле война еще не стала столь отвратительной и невыносимой для русских солдат, как в октябре. Точнее, они прежде не были уверены, что могут от войны отказаться. А кроме того, было больше надежды, что война кончится скоро, что наступление союзников повлечет за собой победу на западе, что в Германии начнется революция. Но я своими глазами видел оба восстания. Картина была одинаковая в обоих случаях: те же восторженно-растерянные люди, такой же «хаос в порядке», то же вечное, страшное fifty-fifty всех революционных и сходных с ними событий. Эту коммунистическую манифестацию очень подробно и, разумеется, беззастенчиво-тенденциозно описал ее участник, большевик Флеровский. По его словам, она была необычайно величественной и грандиозной. Будто бы толпы людей тянулись от Каменноостровского до Кирочной. По моим воспоминаниям очевидца, демонстрация была гораздо скромнее. Однако и Флеровский признает, что «немного было знамен, скупо играли оркестры, не было легкого радостного оживления». Действительно, легкого радостного оживления никак не было; насколько могу судить со стороны, было даже нечто прямо-противоположное: полная, если не общая, готовность удрать при первом выстреле. Вскользь и сам Флеровский пишет: "В голове невольно шевелились тревожные мысли – «а что как бабахнет по демонстрации какая-нибудь сволочь»(142). В самом деле «сволочь» могла бабахнуть гораздо сильнее, чем бабахнула. Тем не менее, было вполне возможно и поражение Временного правительства. Если б кронштадский флот в июле вошел в Неву и начал бомбардировку Зимнего дворца и Петербурга, то большевики могли бы прийти к власти в июле. Если б Керенскому удалось в октябре найти на фронте несколько надежных частей, то октябрьское восстание могло бы быть подавлено. Кстати, Троцкий в другом месте своей книги насмехается над этой формулой: «Нехватало лишь одного или двух полков». Замените слово «полк» словом «дивизия», и формула окажется приложимой не только к 1917-ому году, но и к следующим годам. Черчилль знал в пору гражданской войны в России, что присылка десяти союзных дивизий обеспечит победу генералу Деникину. А его вы не упрекнете в фантазерстве и в непонимании «соотношения сил».