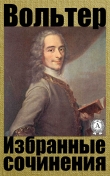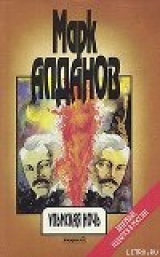
Текст книги "Ульмская ночь (философия случая)"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Л. – Вы не нашли определения красоты у древних, но свет не сошелся на них клином. Ведь кое-что было и между Платоном и участниками Лундского конгресса. В частности же, определений было бы довольно естественно искать у трех великих философов 17-го столетия. До их времени создалось несравненное искусство Возрождения, – было о чем судить. Декарт и Лейбниц были вдобавок «обязаны» дать определения, как математики, а Спиноза, как создатель системы, строившейся по образцу геометрии Эвклида, при помощи определении и теорем.
А. – У них, однако, нет и того, что дали греки. По случайности, эти три мыслителя, в особенности второй и третий, были не очень восприимчивы к искусству. У Декарта идея красоты, без определений, проскальзывает именно в его чисто-научных трудах. Спинозе и Лейбницу она чужда. Впрочем, в «Этике» есть, пожалуй, и определение, – странное, почти «физиологическое»: «Если представляющиеся нашим глазам предметы вызывают в нервах движение, способствующее здоровью, мы называем их красивыми, а в случае обратного безобразными». Он говорит там же: «Люди предпочитают порядок беспорядку, как если бы порядок соответствовал чему-либо реальному в природе. Поэтому они говорят, что Бог создал вещи в порядке. Тем самым они, сами того не замечая, приписывают Богу воображение, – если только, по случайности, они не утверждают, что Бог, предвидя воображение людей, расположил все так, чтобы они могли бы все вообразить с наибольшей легкостью. Их, конечно, не остановит тот факт, что бесконечное число вещей далеко превосходит наше воображение и что великое их множество его подавляет, вследствие его слабости». Кажется, единственный раз в жизни Спиноза тут добавляет слова, его стилю вообще не свойственные: «Но довольно об этом предмете»(156). Жаль, что довольно: мы послушали бы еще! Гуго Боксель в письме к Спинозе высказался за существование привидений, «так как их существование нужно для красоты и совершенства мира». Довод был во всяком случае изобретательный. Однако, Спинозе он, по-видимому, показался просто глупым. Он ответил, что привидения едва ли очень увеличили бы красоты мира, – чем они были бы лучше разных выдуманных чудовищ, центавров, сатиров, грифонов? Но тут же – опять неожиданно – Спиноза добавил несколько слов о красоте вообще: «Самая прекрасная рука покажется отвратительной, если на нее посмотреть через микроскоп. Некоторые предметы на расстоянии прекрасны, а вблизи уродливы. Сами же по себе и в отношении к Богу, вещи не уродливы и не прекрасны. Поэтому тот, кто говорит, что Бог сотворил мир для того, чтобы он был прекрасным, должен признать одно из двух: либо Бог создал мир ради удовольствия и зрительных свойств людей, либо Он создал удовольствие и зрительные свойства людей ради мира»(157). В другом месте, в своей мрачной 39-ой теореме третьей книги, в теореме о ненависти, он чуть ли не из нее, из ненависти, выводит и понятие добра: «Тот, кто кого-либо ненавидит, старается сделать ему зло, если только не опасается, что от этого произойдет большее зло для него самого. Наоборот, если кто кого любит, он старается сделать тому добро под тем же условием»...
Л. – Ваш вывод несколько смел: эти слова никак не означают, что Спиноза из ненависти выводил добро.
А. – Он во всяком случае выводил его из наших ощущений: «Под добром я разумею тут все роды радости и то, что им способствует, а в особенности то, что умиротворяет сожаление, каково бы оно ни было»... «Мы ничего не желаем потому, что считаем желаемое добром: напротив, мы называем добром то, чего мы желаем»... Нет, у Спинозы не приходится искать учения о Красоте-Добре. Вы спрашиваете еще о Лейбнице. Хотя это не имеет тесного отношения к занимающему нас вопросу, но какого Лейбница вы имеете в виду? Классического, конформистского автора «Монадологии» и «Опыта о доброте Господней и о свободе человека», друга пяти или шести монархов, в том числе и Петра Великого, или недавно раскрытого и изученного, другого, неожиданного Лейбница, автора произведений, которых он при жизни никому не показывал и которые пролежали двести лет под спудом в рукописях; только одно из них он показал янсенисту Арно и больше не спешил никому показывать, когда Арно пришел в ужас. Не хочу поднимать старого вопроса о том, был ли Лейбниц спинозистом(158), но первый Лейбниц отрекался от не конформистского Спинозы, называл «Этику» слабой до удивления книгой и даже утверждал, что видел ее автора всего раз в жизни, при чем Спиноза рассказал ему «несколько хороших анекдотов». Автор «Этики» в качестве анекдотиста был бы, конечно, фигурой довольно неожиданной. Однако, позднее было установлено, что Лейбниц встречался со Спинозой беспрестанно в течение целого месяца и вел с ним длинные философские и ученые разговоры. Скрывать это было собственно ни к чему даже в то время, и, разумеется, весьма .досадно, что разговоры этих двух столь необыкновенных людей до нас не дошли. Профессор Людвиг Штейн, написавший об этой странной истории очень интересную книгу(159), допускает разные объяснения: быть может, у Лейбница была плохая память, – объяснение тоже неожиданное, если принять во внимание колоссальные, всеобъемлющие познания этого человека; быть может, он боялся себя скомпрометировать знакомством с проклятым пантеистом, каким влиятельные люди считали Спинозу, – объяснение гораздо более правдоподобное; скорее же всего он для себя ставил вопрос так: либо Спиноза, либо я, – если прав Спиноза, то моя система не существует. Как бы то ни было, через много лет после смерти Спинозы Лейбниц уклончиво и неодобрительно называл его: «некоторый, слишком известный Новатор» («un certain Novateur trop connu»). В девятнадцатом столетии профессор Шульце напечатал рукописные замечания, сделанные Лейбницем на экземпляре книги Спинозы, сохранившемся в Ганноверской библиотеке. Появилась в печати и так называемая Вахтеровская рукопись Лейбница. Бертран Рессел, глубокий знаток произведений германского философа-математика, пришел к печальной мысли, что Лейбниц был в каком-то смысле человеком двойной умственной жизни(160). Вдобавок, уже после работ Рессела, совсем недавно появилась в печати новая Лейбницева рукопись. К некоторому стыду нашей петербургской Публичной Библиотеки, она пролежала там под спудом без малого полтораста лет: это была рукопись из богатейшей библиотеки графа Залусского, отошедшей к России после третьего раздела Польши и возвращенной польскому правительству после первой мировой войны. Сама по себе она не очень важна, но в ней есть отрывочные записи Лейбница на его немецко-французско-латинском языке, довольно циничные по существу, и по-моему, вполне подтвердившие общий взгляд Рессела(161).
Л. – Действительно, книги, напечатанные Лейбницем при жизни, были очень удобны для людей его времени и в особенности для людей власть имущих, которые, впрочем, едва ли его читали и в большинстве знали об его идеях лишь по наслышке. Но я не охотник до «развенчивании» в стиле Рессела и других, да не очень он Лейбница и развенчал...
А. – Он, конечно, и в мыслях этого не имел; как математик, Лейбниц во всяком случае бессмертен, и кому же, как не Ресселу, это ценить? Если не ошибаюсь, он и в вековом споре о приоритете по изобретению дифференциольного исчисления не так уж целиком принял сторону Ньютона против Лейбница, во всяком случае принял менее горячо, чем некоторые английские и даже французские(162) исследователи.
Л. – Упреку же в угодничестве перед властями подвергались вдобавок десятки больших философов. Напомню, что Виллиам Джеме называл философию Гегеля удобным пансионом на берегу моря, а тот же цитируемый вами Рессел говорит, что Гегель изобразил Вселенную по образцу прусского государства, и что молодому человеку гораздо легче получить университетскую кафедру, если он гегелианец (или кантианец). По-моему, это еще больше относится к Лейбницу, чем к Гегелю.
А. – Это не относится ни к тому, ни к другому. В гегелевском пансионе на берегу моря поселились не только «сто сорок профессоров», но и Карл Маркс. Ведь в известном, узком смысле, со всякими оговорками, он все-таки был «гегельянец».
Л. – Уж если мы себе позволили и это отступление в сторону, то я скажу, что Лейбниц и как человек был фигурой чрезвычайно привлекательной. У меня, в отличие от вас, большая любовь к оптимистам. Фонтенелль изобразил Лейбница чуть ли не весельчаком(163). Недоброжелатели ему в упрек ставили лишь некоторую бережливость, – рассказывали, что он в подарок молодым, выходившим замуж барышням, всегда приносил только тетрадку с житейскими правилами и советовал им заниматься собственноручно стиркой белья. Ничего хуже этого они не придумали. Он, правда, был очень счастливым человеком: если б не подагра на старости лет и не этот приоритет Ньютона в вопросе об открытии дифференциального исчисления, у Лейбница, кажется, никаких серьезных огорчений в жизни не было.
А. – Я нисколько не отрицаю, что «лейбницианское состояние ума» одно из самых счастливых, и вам незачем ссылаться на мелочи его жизни. Вы, очевидно, хотите убедить меня в том, что у Лейбница, как и у Спинозы, нет намека на древнее учение о красоте-добре? Я без всяких возражений с этим соглашаюсь. Действительно, нет. Они этих двух понятий не сочетали и первым из них даже как будто не интересовались. Быть может, Лейбниц, как столь много других больших людей, прошел мимо Платоновской «теории красоты» так, точно ее никогда и не существовало. Но что же собственно из этого следует? В этике главный интерес Лейбница это проблема существования зла в мире. Ее обсуждение, по-моему, самое ценное в философском наследии Лейбница. Никаких монад, ни без «окон», ни с «окнами», не существует, нет и «предустановленной гармонии», и самое ценное теперь в его чисто-философском наследии – именно конформистский «Опыт о доброте Господней и о свободе человека». Эту книгу иначе можно было бы назвать «О том, почему существует зло»: «Если Бог существует, откуда зло? Если Его нет, откуда добро?» Лейбниц полемизирует с Бейлем, но через него часто в сущности с Декартом. И в его постановке вопроса огромная сила и острота: необходим только Бог. Правда, Бог руководился желанием создать возможно больше и поэтому создал и зло, сделав и законы природы случайными, «zufllig», «lois de convenance». Почему же Бог желал создать возможно больше? Ответ: Wertprdikat «добро» возможен только при существовании Wertprdikat'a «зло». Лейбниц приводил всегда великое множество цитат, – у него к ним была слабость и, по-моему, очень хорошая, приятная и полезная слабость, – но в этом вопросе он призвал к себе на помощь уж слишком много самых разных, порою неожиданных, союзников. На «еще недостаточно оцененного Маймонида» он ссылается тут хоть, по-видимому, по праву, но зачем ему были нужны десятки третьестепенных авторов, почти забытых уже в его время? И при чем тут был Декарт, которого он тут же, впрочем, «исправляет»? При чем тут был Маккиавелли? Лейбниц косвенно использовал и Тертуллиановы «это достойно веры, потому что бессмысленно», «это достоверно, ибо невозможно»(164). Он не обошелся даже без Диавола, который мог быть виновником образования зла в мире. И все-таки кончил он выводами умеренными: добро количественно преобладает в мире над злом(165). Да и к выводам он пришел с оговорками: есть, – говорит он, – тысячи способов доказать то, что он утверждает, незачем останавливаться только на некоторых из них; верить можно хотя бы разумно («raisonablement»), если и нельзя верить с доказательствами («dmonstrativement»). В заключении же первой части своего труда он говорит: «А может быть, в сущности все люди одинаково плохи и следовательно не могут себя различать по добрым или наименее плохим качествам. Но они плохи неодинаковым образом». Отсюда мог быть переход к снисходительной этике греков, но вы правы, Лейбниц им не заинтересовался. Он ставил себе целью «оправдание добра». Эта проблема у него основная; кажется, только о ней он говорит с подлинной страстью, с вдохновением, и уже хотя бы поэтому никому не удается его «развенчать», если б даже у кого-либо явилось столь странное желание. Вы могли бы не упоминать о вашей любви к оптимистам, однако, в самом деле его оптимизм не имел пределов. Мысль Гегеля «Все действительное разумно», имевшая у нас когда-то столь шумный успех (быть может, как некоторые думают, и неправильно понятая), целиком дана у Лейбница: «Бог выбрал лучший из всех возможных миров». Как видите, Вольтер, высмеивавший Лейбница в Панглоссе, цитату привел почти дословно... Думал ли Лейбниц, что «красота» в оправдании не нуждается? Или что она оправдана быть не может? Скорее всего, повторяю, это просто его не очень интересовало. Что же, не интересоваться этим было полное его право, и вы так же мало можете нанести ущерб Платоновской идее ссылкой на него, как ссылкой нa участников Лундского конгресса. Он рассматривал воображение, т. е. одну из основ искусства, как cognitio confusa. Вероятно, так же думал и Спиноза. Теорем о красоте у него нет.
Л. – Их нет и ни у кого другого или они неверны. В эстетике есть десятки всевозможных определений красоты, и они большей частью либо тоже ничего не определяют, либо, в лучшем случае, дают определение только одного рода искусства или даже одного направления в нем. Это отчасти объясняется, быть может, тем, что теорией искусства обычно занимались люди, не бывшие в нем творцами. Имею в виду не философов ему враждебных – и к ним мы собственно должны отнести самого творца или главного творца идеи «красоты-добра»: Платон, по крайней мере в «Государстве», учинил искусству погром. Кстати, Бенедето Кроче видит, кажется, смягчающее обстоятельство в том, что погром был «грандиозный»: «la seule vraiment grandiose ngation de l'art»(166). He говорю и о великих умах, которые к искусству были совершенно равнодушны. Не думаете ли вы, что для занятия теорией искусства все-таки нужно было бы обладать хоть некоторой способностью к творчеству в нем? Баумгартен, определивший слово «эстетика», как «низшую гносеологию», интересовался философией, теологией, правом, но к искусству никакого отношения не имел. Он напоминал Чеховского профессора Серебрякова, который всю жизнь занимался искусством, ничего не понимая в искусстве. Но вспомните и людей гораздо крупнее, чем Баумгартен. Страницы, посвященные искусству Шопенгауером, конечно, в его книге слабейшие. Он впрочем сам говорит, что искусство относится лишь к праздничным дням, а не к будням жизни. Художник, живущий (в материальном отношении) «милостью муз», т. е. своим талантом, подобен, по его мнению, проститутке, продающей свою красоту. Отсюда следовал вывод, что каждый художник должен иметь еще и другое, настоящее занятие. Разумеется, этого ценного предписания он не относил к философам. Правда, он был состоятельным человеком, и вдобавок, его книги, в течение почти всей его жизни, никакой коммерческой ценности не имели. Он считал оперу униженьем музыки, а балет позором искусства(167). Гегель был тут во всяком случае много снисходительнее: он считал искусство одним из трех способов раскрытия истины, но низшим из трех: на первом философия, на втором религия. Некоторые же виды откровения истины, по его мнению, искусству вообще недоступны... Я знаю, что эта часть нашей нынешней беседы особенно рискует стать беспорядочной и фрагментарной: эстетика самая темная из наук, и, быть может, именно потому темная, что создавалась только учеными. Другая сторона не высказалась. Великие художники, к сожалению, почти не занимались осмысливанием того, чему отдали всю жизнь. Или, по крайней мере, не писали об этом.
А. – Некоторые писали: Микель-Анджело, Толстой.
Л. – Достаточно известно, что Микель-Анджело говорил преимущественно об особенностях разных сортов мрамора, о каменоломнях, о технической стороне своего дела, а о «красоте», об ее теории очень мало. По суждению же Толстого, авторы противоречивых и нелепых эстетических теорий нарочно эти теории выдумывают для того, чтобы привилегированные классы могли с уверенностью восхищаться глупейшими и бездарнейшими художественными произведеньями. Сам он видел сущность искусства в способности заражать людей. Собственно это не так уж расходилось с «состоянием восхищения» в трехтомной эстетике Гегеля. И самые условия, которые ставил Гегель(168) художественному произведению для того, чтобы оно превратилось в «истинно поэтическое создание искусства», могли бы без большой натяжки, хотя и неохотно, быть приняты Толстым, – все эти «gehaltsreich», «einheitsvoll», «mit der Wirklichkeit erfllt». Только они не очень много и означали. Слова же «заражение» Гегель не употребляет. Но ведь это не определение искусства, а лишь один из его признаков, вдобавок нисколько не обязательный: «Education Sentimentale» или «A la recherche du temps perdu» никого ничем «заразить» не могут, что нисколько не мешает им быть замечательными художественными произведеньями. Но если бы Толстовское определенье и было верным, то оно не могло бы вам пригодиться для разъяснения идеи Kalos, так как Толстой говорит не о «красоте» и выводит искусство не из нее. И уж совершенно бесполезно обращаться к современным трудам по эстетике, – там хаос еще больший. Каррит делит определения красоты на разряды: определения гедонистически-моральные (Платон, Рескин, Толстой, – Толстой как-то оказался у него и гедонистом!), реалистически-типичные (Аристотель и тоже Платон), интеллектуалистические (Кант, Кольридж), эмоциональные (Шопенгауер, Ницше), экспрессионистские (Бенедетто Кроче). И все эти ученые слова означают именно то, что нет никакого удовлетворительного определения. Вывод автора: «Всякая красота есть выражение того, что может быть названо взволнованностью»(169). Не стоило, по моему, и огород городить. Почти столь же ценный вывод у Сантайяны: «Красота есть удовольствие, рассматриваемое, как качество вещи»(170)! По-моему «честнее» оказался Алэн, философ еще недостаточно оцененный. Он прямо говорит: «Я как на стену наткнулся на красоту» («Je me heurtai la beaut comme un mur»(171)). К самому интересному из всего написанного о красоте принадлежат страницы Франка. Но он справедливо считает красоту «нейтральной»: «Красота как таковая, нейтральна, в каком-то смысле равнодушна к добру и злу»(172). Сходный смысл, вероятно, имеют Тютчевские стихи: «Люблю сей Божий гнев! Люблю сие незримо – Во всем разлитое таинственное зло»... Нет, на идее Kalos никакой философии не построишь.
А. – Я и говорил вам, что я понятие «красота-добро» строю на системе произвольно выбранных аксиом. Поэтому ваши возражения бьют мимо цели. Не буду повторять того, что я говорил о геометрии Гильберта.
Л. – Позвольте в таком случае и тут уточнить или, если хотите, «заострить» вашу мысль. Очевидно, в области «красоты» вы исходите из такой системы аксиом, при которой, скажем, «Макбет», «Юлий Цезарь», «Война и Мир», «Ночной Дозор», «Девятая Симфония» (я знаю ваши вкусы в литературе, в живописи, в музыке) признаются великими произведениями искусства. Вы, вероятно, добавляете к ним, например, несколько знаменитых пейзажей, чтобы было и das Natur-Sehne, еще десять или двадцать художественных произведений, называете это произвольной системой аксиом и строите философский взгляд на таком petitio principii! Добавлю к этому, что и основания такой системы не постоянны и меняются с течением времени: даже эпопея «Войны и Мира» в России была признана не сразу и вначале подверглась грубейшим и глупейшим нападкам, – за ней отрицались многими «критиками» и художественные достоинства; а во Франции ее первое издание (которого было продано шестнадцать экземпляров) не имело ни малейшего успеха (оставим в стороне исключение: восторженный отзыв Флобера в письме к Тургеневу). В год появления «Девятой Симфонии» музыкальные критики более или менее сошлись на том, что Бетховен помешался. Рембрандт в конце жизни совершенно вышел из моды, впал в нищету, должен был служить натурщиком для молодых художников, которые верно потешались над его прошлым творчеством, как, скажем, теперь французские художники и критики потешаются над каким-нибудь Леоном Бонна, «подумать только, что нашим отцам и дедам это нравилось!».
А. – Действительно вы мою мысль «заострили», но против этого я не очень возражаю, хотя в указанном вами petitio principii неповинен.
Л. – Очевидно, вы применяете ваш метод «выборных аксиом» и ко второму понятию вашей двучленной формулы: к добру?
А. – Не я применяю: это делает жизнь. То, что Спиноза говорит о «микроскопе», естественно относится и к этике. И дело тут, разумеется, не только в разнице эпох. Гитлер и Рузвельт были современниками, но если бы они встретились и поговорили друг с другом «откровенно», то понадобились бы услуги не только переводчика-лингвиста, но и, так сказать, переводчика от морали. Я не виноват в том, что, например, заповеди Моисея так же «недоказуемы», как учение Ницше о сверхчеловеке или как нигилизм Штирнера. Но человек может и обязан произвести выбор: он сам устанавливает для себя аксиомы. То, что я назвал «Ульмской ночью», то, что я называю «картезианским состоянием ума», уже предполагает выбор в аксиоматике. Я не мог бы доказать, что Декарт «благороднее» Франца Бема. Однако самое сопоставление этих двух имен я тут произвожу, преодолевая чувство брезгливости. Вполне возможно было основать «стройное мировоззрение» на Гитлеровских аксиомах. Еще легче основать его на аксиомах Ленинских (которых я, при всем своем антибольшевизме, с гитлеровскими не сравниваю). И уж, конечно, тут ссылаться на среднего человека было бы и бесполезно, и очень тягостно. За Гитлером пошли десятки миллионов представителей породы, так смело названной homo sapiens. Если б Гитлер победил, десятки миллионов, разумеется, превратились бы в сотни. Аксиомы Ленина уже приняты сотнями миллионов людей, – притом в немалой части и по нашу сторону железного занавеса, т. е. приняты свободно. Сотни миллионов людей стоят и за аксиомы демократического мира. Каков процент искренности у этих миллионов разных подразделений homo sapiens, никому неизвестно. Процент жертвенности тоже неизвестен и, должно быть, очень незначителен. «On n'est martyr que des choses dont on n'est pas bien sr»(173), – говорил Ренан. А здесь что-то слишком многие уверены в своей правоте. Как и надолго ли разрешит история этот спор, грозящий перейти в драку, – в самую кровавую драку в истории, – никто сказать не может. Но разрешит его не логика. Человечество и тут одинаково легко обойдется и без «Критики Чистого Разума», и без «Критики практического разума», и без «Критики способности суждения». Доказано не будет ничего. И это, разумеется, нисколько не мешает каждому из нас выбрать и принять те или другие аксиомы.
Л. – Допустим на мгновенье, что можно исходить из произвольной аксиоматики в установлении понятий добра и красоты. Но если они неразделимы, то вы вынуждены отвергнуть искусство, никакого «добра» в себе не заключающее. Вы не можете ведь отрицать, что есть и такое. Для того, чтобы это признавать, не нужно думать с Андре Жидом, что «из добрых чувств создается плохая литература». Или же вы считаете, что вечно только «доброе», «здоровое» искусство? Берне говорил: «Я слишком здоров: не могу писать». Обе эти «аксиомы» – «вечно только здоровое искусство» и «вечно только больное искусство» – одинаково нелепы. Один поэт создает шедевры, хотя он «болен», как Бодлэр; другой их создает, хотя он «здоров», как Пушкин. Но я готов допустить, что, если не «здоровое», то «доброе» искусство имеет больше шансов, чем «злое», на относительную вечность, т. е. на прочную любовь пяти-шести поколений. У самых же великих писателей, у таких, которые могут рассчитывать на любовь не пяти-шести, а десяти или двадцати поколений, вы и не скажете, «добры» ли они или «злы». У Толстого есть много очень жестоких страниц. «Записки из Подполья» – одно из самых замечательных произведений Достоевского. И что же вы тогда сказали бы о Прусте и о Сартре!
А. – Я сказал бы прежде всего, что самое сопоставление этих двух имен совершенно недопустимо в художественном отношении. Пруст был гений, открывший в литературе четвертое измерение, а Сартр...
Л. – Уж в этой области вы никак не установите сколько-нибудь твердой табели о рангах, Клодель сказал, как вы знаете: «Этот торжественный осел Гете». Задолго до него тот же Берне говорил, что Гете «ничтожество», «трус», «льстивый раб и дилетант». Киркегаард довольствовался тем, что называл Гете «un adroit dfenseur de fadaises»(174).
А. – Все это Гете и не очень повредило, и не понизило его места в литературной табели о рангах... Я, разумеется, понимаю, почему вы упомянули о Сартре. К сожалению, теперь вообще трудно вести философский спор, не натыкаясь на экзистенциализм, – или, по крайней мере, трудно было еще недавно: как будто эта малоинтересная и не слишком новая(175) доктрина уже начинает выходить из моды, но...
Л. – Я упомянул об экзистенциалистах потому, что их учение имеет прямое отношение к нашей беседе. Вы называете его малоинтересным. Не могу с этим согласиться. У Киркегаарда есть множество тончайших мыслей, замечательна и сама идея l'angoisse, l'angoisse devant le bien ou l'angoisse devant le mal. Еще сильнее страницы об Existenzerhellung у Ясперса(176) – на мой взгляд самого замечательного из экзистенциалистов, – в частности его страницы о смерти. Не думал я, что после Платона и Шопенгауера можно о смерти найти новое и ценное у профессора. Очень хороши и страницы Габриеля Марселя о «chacun de nous est immerg» и о «succession de tirages au sort». Я вменяю в вину экзистенциализму, что он совместим с чем угодно: у Марселя с католицизмом, у Алькие с марксизмом, у Лефевра с коммунизмом, у Сартра с его нынешним полукоммунизмом, а у Хейдеггера (в недавнем прошлом) с национал-социализмом, – как вы знаете, этот знаменитый мыслитель, через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти, произнес памятную речь о Шлагетере. И поклонники могли сказать в его защиту лишь то, что он «был соблазнен, как ребенок, самыми внешними проявлениями гитлеровского энтузиазма», он действовал «больше по слабости», его юные сыновья были национал-социалистами и оказывали на него влияние, и т. д.(177). Хороши смягчающие обстоятельства: глава большого философского течения, поддающийся чарам нюрнбергских парадов, подпадающий под влияние мальчишек! И, хотя Сартр и теоретики вообще за это ответственности не несут, не приходится особенно удивляться молодежи из Кафе де Флор и Кафе Прокоп: уж если 1'existence prcde 1'essence (какое открытие!), то отчего же не заниматься весьма веселыми ночными похожденьями?
А. – Вы, конечно, вполне правы и в негодовании по поводу, скажет действий Хейдеггера, и в том, что учение, которое легко совместить с самыми разными взглядами, с самым разным отношением к жизни, невольно вызывает к себе некоторую настороженность. Позвольте все же вам сказать, что это не имеет отношения к нашему нынешнему разговору, – отступления в сторону позволительны и по-моему, желательны, но злоупотреблять их числом не следует. В связи с Kalos нас может тут интересовать лишь Сартр, как романист и драматург. Я не отрицаю, что много ценных страниц есть и в его неудобоваримых философских трудах, даже в «L'Etre et le Nant» с разными «permanences de la quiddit», «circuits de 1'ipseit», с «les nants qui ne se nantissent pas, mais sont nantiniss», – когда французский писатель начинает писать, как немецкий приват-доцент, он становится невыносим. К предмету нынешнего нашего разговора может иметь отношение лишь Сартр-романист. Мы говорили о картезианском состоянии ума, упоминали о Лейбницевском. Что ж (при всей неравности имен) можно, пожалуй, говорить и о Сартровском. Его хроническое состояние ума может быть выражено заглавием его лучшей в художественном отношении книги, «La Nausee». Он описывает «тошноту» раз сто, сделал из нее «состояние ума», – и, с большим вкусом, придал ему картезианскую форму: «Так это тошнота? Эта ослепительная очевидность? Долго же я ломал себе голову и писал об этом! Теперь я знаю: я существую, мир существует»... Выразимся вульгарно: Сартр дал нам cogito рвоты. Не возражаю. Он (и Селин), как купец Бородкин у Островского, «никому уважать не намерены»... Если Хейдеггера «die Philosophie des lebendigen Geistes, der tatvollen Liebe, der verehrenden Gottinnigkeit»(178) странным образом привела к Гитлеру, то Сартра экзистенциализм привел с одной стороны к психологии «La Nause», к философии «Les Mouches» с ее хором Эринний(179), очень напоминающим стишки в «философских драмах» Луначарского, к бульварным театральным пьесам и фильмам в чистейшем Холливудском стиле – с револьверами, винтовками и бомбами, да еще – к мегаломании. В конце одного из своих художественных произведений он говорит: «Уже ему предлагали услуги испытанные системы морали: был разочарованный эпикуреизм, была резиньяция, был дух серьезного, был стоицизм, все, что помогает наслаждаться, от минуты к минуте, в качестве знатока, неудачной жизнью». Другая еще более ироническая страница о «гуманисте», – радикальном, католическом, социалистическом, все равно каком, – не стоит ее приводить. Смысл ее таков, что гуманисты этих течений (т. е. поясним от себя: Спиноза, Мишле, Ламеннэ, Жорес) – старое дурачье, – об их учениях и говорить без издевательства нельзя. Очевидно, только экзистенциализм (в его Сартровском варианте) есть дело серьезное. У читателя невольно возникает вопрос: «А кто же такой этот господин Сартр!». Забавно то, что вскоре он сам стал «гуманистом» и даже, ничего об этом не зная, гуманистом очень старого иноземного толка... Конечно, я думаю, вы вспомнили о Сартре потому, что его литература представляет собой прямое отрицание идеи Красоты-Добра. Согласитесь однако, что, если учение Платона находится в прямом противоречии с художественным творчеством мосье Сартра, то тем хуже для мосье Сартра, а не для Платона. В связи с этим мы можем уделить особую беседу классической русской литературе: она одна из лучших иллюстраций к идее, о которой мы говорим.
Л. – Боюсь только, что вы русскую классическую литературу будете выводить из «красоты-добра», а «красоту-добро» – из русской классической литературы, называя это иллюстрацией.
А. – Сейчас упомяну лишь об одной особенности настоящего русского искусства: до большевиков цинизм был ему чужд, и это важно не только с морально-политической точки зрения, но и с точки зрения эстетической. Циник в литературе неизбежно и очень скоро находит победоносного соперника в цинике гораздо более бойком. Мало того, писателям-циникам почему-то всегда приходит желание повыситься в чине и заняться философией, богоборчеством, или хотя бы, например, коммунистической пропагандой. Эренбург стал коммунистом. Были такие же Эренбурги у фашистов. Можно поступить и еще проще, – зачем пропаганда? Генри Миллер, например, долго изумлял мир порнографией или тем, что писал всеми буквами непристойные слова. Казалось бы, продолжать и продолжать? Нет, ему понадобился «вызов Господу Богу», «un coup de pied dans le cul Dieu», – предпочитаю уж цитировать по французскому переводу, да и то ограничусь одной строчкой из многих столь же умных и изящных. Как все они были хороши до своего повышения в чине!.. В настоящей русской литературе ничего сходного никогда не было и нет. Она не «говорила красиво» и в ту далекую пору, когда это было на западе чрезвычайно принято. Чехов сказал: «Ну, какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, которые все ужасно как любят красиво говорить»(180). Еще гораздо большая заслуга настоящей русской литературы в том, что не удивляла она людей и грязью, – хотя грязь самое легкое из всех «художественных достижений». Большие русские писатели не писали ни как Сартр, ни как Генри Миллер. Они к своему делу и относились совершенно иначе: прицел был более дальний. Толстой разочаровался в искусстве за много лет до «Воскресения». Но... Как вы помните, этот роман печатался в «Ниве», проходя, кстати сказать, через двойную цензуру: и государственную, и цензуру редакции, очень боявшейся повредить репутации «журнала для семейного чтения». Издатель вдобавок очень торопил автора и – правда, весьма почтительно – просил его ускорить присылку очередных частей рукописи. Толстой, забыв о своем «отрицании искусства», ответил: «Пословица говорит: что скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а я говорю: скоро дело делается, а не скоро сказка сказывается. И это так и должно быть, потому что дела самые большие разрушаются, а сказки, если они хороши, живут очень долго»(181). Это вам не Миллер и не Сартр.