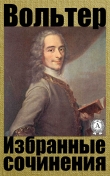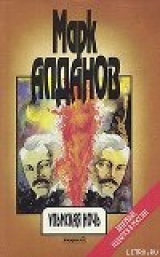
Текст книги "Ульмская ночь (философия случая)"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Л. – Я готов допустить, что во всем этом не очень много «безмерности», уж если вы так странно – и пространно – подходите к русской мысли именно с этой точки зрения. Но признаюсь, мне кажутся не очень убедительными и ваши старания увидеть в древней русской литературе воплощение красоты-добра. Для разрешения этого вопроса нам надо было бы коснуться литературы богословской, а мы тут не очень осведомлены.
А. – Насколько я помню, например, учение Кирилла Туровского, в нем то, что на протестантском языке можно было бы назвать эстетическими элементами, тесно сливается с чисто-религиозными настроениями. Кажется, знатоки его признают замечательным поэтом в истории русского богословия. Впрочем, Г. П. Федотов считает это мнение не очень верным"(204)... Мне жаль, что я вас утомил соображениями о мнимой безмерности русской культуры, – что ж делать, она ведь ложный канон и, по-моему, довольно вредный. Я все-таки хотел бы еще кратко добавить, что, к счастью, ни малейшего намека ни на какую безмерность нет и в лучшем из ранней русской прозы, – в «Фроле Скобееве», в «Повести временных лет», в «Горе-Злосчастии». А записки старых русских путешественников, как подлинные, так и апокрифические? Все эти умные и толковые люди скорее удивлялись безмерности западной. Это сказывалось даже в мелочах. Некоторых из них поражала грандиозностью не только Византия. Одни, правда, просто врали, как автор «Слова о некоем старце», который в «граде Египте» нашел 14.000 улиц, а на каждой улице 10.000 дворов, да 14.000 бань, да 14.000 кабаков" (оговариваюсь, я этого «Слова» не читал и цитирую не по первоисточнику(205). Но и очень серьезные, правдивые путешественники наивно изумлялись величию и грандиозности третьестепенных западных городков, вроде Юрьева, Любека, Брауншвейга. В них все «вельми чудно», – странники захлебываются от восторга, плохо вяжущегося и с национальной исключительностью, и с ксенофобией, и даже с пониманием (правда, несколько более поздним) Москвы, как Третьего Рима.
Л. – Ваше утверждение прямо противоречит свидетельству всех иностранцев, посетивших Россию. Все они подчеркивают именно и национальную исключительность «московитов», и их гордыню, и их убеждение в том, что другие культуры ничто по сравнению с русской. Ведь на этом частью была основана и несомненная любовь москвичей к Ивану Грозному, любовь, которую одни историки признавали с удовлетворением, другие с горечью, но признавали почти все. На нашем языке это приблизительно и упрощенно можно было бы передать так: "Зверь? Но наш защитник и какой могущественный, какой «безмерный»! «Аз бо есмь до обеда патриарх, а после обеда царь, а царь есми над тремя тысящами цари и шестью сот, а поборник есми по православной вере Христовой, а царства моего итти на едину страну десять месец, а на иную страну не ведаю и сам, где небо и земля столкнулась». Да собственно и переписка Ивана Васильевича с князем Курбским частью строилась на его собственной, так сказать персональной «безмерности», на безмерности царской власти и на безмерности идеи родины. И заметьте, большинство наших историков, особенно прежних, признают тут за царем какую-то моральную или морально-политическую победу. Даже сам почтенный и либеральный Пыпин, хотя он в общем на стороне князя, называет его бегство «прискорбным». А Карамзин! Вспомните: «Ознаменованный славными ранами муж битвы и совета возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников.... Обласканный Сигизмундом... он предал ему свою честь и душу: советовал, как губить Россию»(206), и т. д.
А. – Что ж на это ответить? Курбский, «в странстве будучи, и долгим расстоянием отлученный и туне отогнанный от оные земли любимого отечества моего», ошибался, когда писал Иоанну: «Пождем мало, истина недалеко». Спор не разрешен и по сей день. Вспомните знаменитые слова Дантона о том, почему он не эмигрировал. Тут все зависит от обстоятельств. Как вы догадываетесь, мои симпатии в этом споре всецело на стороне первого русского эмигранта... Я рад, что вы упомянули об этой переписке, замечательном памятнике русской литературы и диалектики. Она имеет прямое отношение к нашему спору. Конечно, если был человек, совершенно во всех отношениях чуждый Платоновскому принципу, то это Иван Васильевич. Только наивный, мало знавший и еще меньше понимавший Константин Аксаков мог усмотреть в нем художественную натуру...
Л. – Я думаю, что Аксаков был прав. Иван Васильевич был превосходный писатель. Кроме Курбского, Нила Сорского и, разумеется, Аввакума, никто так хорошо не писал в московский период русской истории.
А. – Я этого не отрицаю, но в делах Ивана Грозного художественная натура совершенно не сказывалась. Он был вдобавок довольно вульгарный, хотя и даровитый, комедиант. Конечно, он сам не верил большей части того, что писал князю. Курбский же, напротив, даже в своей эсхатологии, отчасти выражал идею красоты-добра. По некоторым своим мыслям он был именно близок к заволжским старцам, выражавшим эту идею с необычайной силой. Я и хотел бы закончить наш спор о древнем – ссылкой на Нила Сорского.
Л. – Не совсем понимаю, при чем тут он. Я восхищаюсь тем, что он говорил о нестяжательстве в споре с Иосифом Волоцким, его благородством и терпимостью. Но не думаю, чтобы он сыграл большую роль в истории русской мысли. Ему и у Митрополита Макария отводится всего две страницы(207).
А. – Это еще хорошо. Весьма светский историк, покойный президент Масарик, в книге, посвященной русской исторической и религиозной философии(208), отвел Нилу четыре строчки (а о Вассиане Косом не сказал ни слова). Однако Нил Сорский и просто как писатель занимает большое место в истории русской литературы. Он был стилист необычайной силы, в своем роде, гораздо более отвлеченном, не уступавший Аввакуму. От него идет очень многое и очень разное в русской литературе. Даже в чисто-стилистическом отношении. Вы не верите? Перечтите «Нила Сорского предание и устав»: «Страшно бо, в истину страшно и паче слов»(209)... Разве это, просто по словесной ассоциации, не вызывает немедленно в памяти «Соотечественники, страшно» Гоголя, который, быть может, и прямо это позаимствовал у Нила...
Л. – Если сам Нил не позаимствовал этого у западных отцов церкви: кажется, тогда это делали многие.
А. – Даже в этом случае заслуга стилистическая за ним осталась бы. Но дело, конечно, не в стиле. По существу от Нила идет прямая линия к Толстому... Если б я не боялся вас ошарашить произвольностью в выборе имен или, избави Бог, щегольством в нем, я сказал бы, что эта «линия» проходит также по лучшим образцам русской архитектуры и даже живописи, вплоть до Врубеля. Но ход к Толстому совершенно прямой и бесспорный. «Аще бо и весь мир преобрящем, но в гроб вселимся, ничто же от мира сего вземше, ни красоты, ни славы, ни власти, ни чести, ни иного коего наслаждения житейского. Се бо зрим во гробы и видим созданную нашу красоту безобразну и бесславну, не имущу видения; и убо зряще кости обнажены, речем в себе: кто есть царь или нищь, славный или бесславный? Где красота и наслаждение мира сего? Не все ли есть злообразие и смрад?..»(210). Разве это не Толстой? Тут и князь Андрей со своими мыслями о славе и смерти на Бородинском поле, и Левин перед зеркалом, проверяющий состояние своих мускулов, волос, зубов, и умирающий Иван Ильич, и весь Толстой «Исповеди»... Но в связи с нашим спором, я в частности имею в виду у Нила Сорского мысли о «бескрайности»: «И самая же добраа и благолепнаа деланиа с рассуждением подобает творити и во благо время... Бо и доброе на злобу бывает ради безвременства и безмерия»(211)... Нил Сорский был чистым воплощением Платоновского принципа, а не того, что вы считаете характерным для русской культуры.
Л. – Так вы вашу идею готовы обосновывать и примерами из всех искусств. Тогда сначала наметьте и тут вашу «табель о рангах».
А. – Я считаю, что Толстой был величайшим русским прозаиком, Чайковский величайшим русским композитором, Врубель величайшим русским художником.
Л. – Врубель был поляк.
А. – Да, полуполяк, хотя уже его отец почти не знал польского языка. Мать же его была чисто русская, Басаргина, родственница декабриста... Но доводы этого рода позвольте вообще отклонить. Надеюсь, вы не исключаете из русской культуры французов Леблона, Фальконета, Монферрана, Томона, итальянцев Фиоравенти, Растрелли, Росси, полунемцев, а то и чистых немцев, Герцена, Фонвизина, Тона, шотландца Камерона, евреев Левитана и Рубинштейнов, полуевреев Серовых и Мечникова, людей смешанной крови Чайковского, Бородина, Брюллова, чтобы не упоминать «негра» Пушкина, «шотландца» Лермонтова и многих «татар». Вероятно, вы не исключаете из французской культуры Монтэня, Руссо, Зола, а из испанской – Доменико Теотокополи, создавшего себе мировую славу под именем Эль Греко. Прочтите обо всем этом у Грабаря. Отмечу еще, что Кондаков находил невозможным установить по знаменитым фрескам киевского Софийского собора национальность их создателя: славянин, варяг или грек(212). Слишком много значения в нынешнем мире приписывают «крови». В старину, в средние века, еще раньше это людей интересовало гораздо меньше.
Л. – Тут вы совершенно правы. Простите, что ни к чему вас перебил.
А. – Я готов продолжать табель о рангах, относя ее и к родам русского искусства. По-моему, русская архитектура занимает в нем место, разве только немногим уступающее русской литературе и много высшее, чем русская живопись. Она имеет мировое значение, тогда как русская живопись его не имеет. Вероятно, это связано с «бессюжетностью» архитектуры вообще. Растрелли в своем гениальном ансамбле Смольного Монастыря сказал новое слово, сочетав римское барокко с русскими монастырскими формами. Но если б он каким-либо чудом и знал, что произойдет с его созданием в 1917 г., это едва ли имело бы для него очень большое значение. Так же и Баженов не знал, что в своем необыкновенном дворце готовит гроб для заказчика, императора Павла. Гваренги и Томон строили биржу в форме храма, и с точки зрения их «красоты-добра» это было не очень важно...
Л. – Считаете ли вы, что «предметность» русской живописи была достоинством или недостатком? Скажем, предметность передвижников, о которых Александр Бенуа, помнится, говорил, что они конфузливо писали картины, потому, что не умели шить сапоги?
А. – Есть предметность и предметность. Картины Иванова или лицо Ивана Грозного на картине, над которой долго потешались наши эстеты, вполне соответствует моему пониманию искусства. Лично я склонен думать, что живопись везде к предметности вернется, с поправками и новшествами конца девятнадцатого столетия. В русской же живописи, по-моему, выше всего портрет или то, что в ней его включает, – здесь тоже сказалась «тяга» к человеку и к его душе. И, быть может, та же тяга отчасти объясняет высоту русского зодчества, – архитектура, дающая людям и кров, человеческое искусство par excellence. В России она продолжала западное творчество, не боялась и не стыдилась этого, и в значительной мере его обновила, сочетав с русской стариной, доведя, например, ампир до высших в мире образцов, создав ансамбли, которым я знаю мало равных. Не говорю уже о Смольном Институте, но и в обычно забываемом Киеве площадь древних строений, Софийского Собора и Михайловского монастыря, есть нечто неповторимое, как, пожалуй, и на несколько веков позднейший ансамбль императорского дворца с Мариинским парком и Царским садом. Растрелли и Мичурин учли Днепр и киевские холмы, как Флорентийские архитекторы учли свои холмы и Арно, а венецианцы – Большой канал и остров Сан-Джорджио. То же относится и к Лавре и в меньшей степени к Военно-Никольскому собору, к нескольким ансамблям Печерска, которые когда-либо будут оценены и иностранцами.
Л. – Что ж, по-вашему, именно эти ансамбли выражают идею красоты-добра?
А. – Зачем тут иронизировать? Они и многое другое: в архитектуре, кроме Смольного, Собор Василия Блаженного, в живописи творчество Врубеля, в частности его киевские фрески, с их новой, по-моему, концепцией, если не Красоты, то Добра. Его голова безбородого Моисея на редкость напоминает голову Демона:
сходство, конечно не случайное. Таков же и ангел со свечой, таков же "Падший Демон", таков же, по крайней мере по замыслу, его пушкинский Пророк. Отметить зло в ангеле, отметить добро в демоне, это идея чисто русская и, кстати сказать, противоположная бескрайностям: умеряющая, не слишком восторженная, – мир не делится на черное и белое. Это тоже ведь из Нила Сорского.
Л. – Зародыш этой идеи есть и в живописи Леонардо да Винчи, у которого Вакх похож на Иоанна Крестителя... Сходство у Врубеля могло тут происходить от единства его художественной натуры или даже просто от единства в манере и приемах. Вообще трудно из пластических искусств делать сложные идейные выводы. Закончим же табель о рангах. Кто же величайших русский философ?
А. – Вы, вероятно, скажете: Владимир Соловьев? Он, конечно, был, быть может вместе с Франком, самым универсальным из русских философов (в тесном смысле этого слова), а может быть, и самым даровитым. Почти все системы нашего времени так или иначе, в большей или меньшей мере, вышли из Соловьева, хотя бы от него отталкиваясь. А сам он из русских ни из кого не вышел: влияния на него главным образом иностранные, от Платона до Баадера. Как у Бердяева, у Соловьева было несколько философских учении. Не даром биографы и исследователи делят его уже на периоды, – кто на три, кто на четыре. Это деление, кстати сказать, лучший признак славы, – кажется, из русских философов никто другой его пока не удостоился. Верно, удостоится Бердяев, и у него «периодов» можно будет установить десять или еще больше... Я люблю Соловьева и как поэта, – это верно вызовет улыбку у некоторых современных поэтов. Люблю и как публициста, и даже как критика, – его статья о Пушкине, как бы к ней ни относиться по существу, одна из самых важных статей, когда-либо о Пушкине написанных. Это такой же удачный набег философа в область литературы, как статья о Чехове Льва Шестова. Я сказал бы даже, что и в области точного знания Соловьев порою высказывал мысли, опередившие его время. В своих размышлениях об атомизме он намечает различие не только между атомами Демокрита и атомами ученых 19-го века (что было бы не очень ново), но и различие между атомами химика и физика, «отнимающее у физических теорий атомизма, как противоречащих друг другу, всякое обязательное значение для философа»... Так же откровенно признаюсь, что многого я у Соловьева просто не понимаю. Совершенно не понимаю его учения об андрогинизме. Не понимаю единения Абсолюта с Первоначалом, различий между «понятием и тем, что в нем выражается», между первым и вторым полюсами абсолютного.
Л. – Только ли он писал таким языком! Это язык новейшей философии, и насмехаться над ним было бы так же странно, как иронизировать над языком новейшей физики.
А. – С той разницей, что физики под каждым своим нынешним сложным понятием разумеют все-таки всегда одно и то же и нечто математически определенное, тогда как о философах этого сказать нельзя. Тот же Соловьев обвиняет часть философов в том, что они второе абсолютное смешивают и отождествляют с спервым(213). Я впрочем и не думал насмехаться. Этому языку надо научиться, и это не труднее, чем, вероятно, научиться турецкому языку. Жалею правда, что русские философы взяли свой язык у немцев, а не у французов или англосаксов. Если я не понимаю некоторых доктрин Соловьева, то это моя вина, а не его... Быть может, Соловьеву в литературе все же иногда нехватало простоты и чувства смешного (в жизни у него этого чувства, говорят, было очень много). Прочтите его «Мнимую критику», – сердитую полемику с Чичериным, в которой оба они совершенно серьезно сравнивали друг друга с Торквемадой! Тема была очень серьезна – и в частности по вопросу о смертной казни, Соловьев, ее решительный враг, был неизмеримо выше своего оппонента. Но одновременно они спорили и об отправлениях животного организма. Человек, – писал Чичерин, – «не стыдится наполнения себя материей, но он стыдится освобождения от излишней материи. Что же, это освобождение от ненужной пищи есть тоже недолжное?». Соловьев, правда, указывая на «невысокий сорт» довода, отвечает, что вопрос основан на двусмысленности слова «должное» в русском языке: «По-немецки два смысла здесь различаются в словах „Mssen“ и „Sollen“. Впрочем, я охотно готов удовлетворить любопытство г. Чичерина. Указанный им физиологический факт есть лишь частичное и, так сказать, хроническое проявление той аномалии, острое обнаружение которой дано в смерти и тлении организма. В обоих случаях аномалия состоит в перевесе материи над формой»(214), и т. д. Мне право трудно представить себе такую полемику, с «формой и материей», с «Mussen» и «Sollen», во французской или английской философской литературе... Не будем входить в обсуждение общего учения Соловьева. Нового о нем ничего не скажешь, – все сказано и пересказано, – да это и не относилось бы к теме нашего разговора. Чтобы остаться в ее пределах, скажу одно: в известных мне его произведениях нет ни одной строчки, противоречащей идее «красоты-добра». В своих возражениях Ницше он, по-моему, без основания сопоставил и даже объединил с «красотой» «силу» (следуя тут, правда, ницшеанской фразеологии). Но что же сказал Соловьев по существу? Он начал с древней цитаты: «И бысть егда поражаше Александр Македонский, сын Филиппа, иже изыде от земли Хеттии, порази и Дария, царя персидского и мидского, и воцарися вместо его первый в Елладе. И состави брани мнози, и одержа твердыни мнози, и уби царя земския. И пройде даже до краев земли и взя корысти многих языков, и умолча земля перед ним, и возвысися, и вознесеся сердце его. И собра силу крепко зело, и начальствова над странами и языки, и мучительми, и быша ему в данники. И посем паде на ложе и позна яко умирает». Последние слова, подчеркнутые самим Соловьевым, очень сильные в своей сжатости, он затем подробно развивает, от чего они лучше не становятся: с теми стилистами состязаться трудно. Его аргументация тут не так интересна: "Разве сила, бессильная перед смертью, есть в самом деле сила? Разве разлагающийся труп есть красота?(215) и т. д. Посрамлять ницшеанство ждущей всех людей смертью было довольно бесполезно, тем более, что этот довод-туз бьет все карты во всех колодах. Посрамлять самого Ницше его собственным безумием(216) было вдобавок и не очень великодушно. Но каков же тут вывод самого Соловьева? «Сила и красота божественны, только не сами по себе: есть Божество сильное и прекрасное, которого сила не ослабевает и красота не умирает, потому что у него и сила, и красота нераздельны с добром». Выпустим «силу», при чем она тут и что в ней «божественного»? Русская литература никогда особенно силу и не любила. В ней нет Конрадов и Джеков Лондонов, мало и «людей действия», – разве «босяки» Горького? Классические русские писатели обычно вливали в жилы «людям силы и действия» иностранную кровь. Тургенев выбрал болгарина Инсарова, Гончаров немца Штольца, Чехов немца или шведа фон Корена, Лесков швейцарца Рейнера и поляка Ярошинского. Базаров исключение, да его действие волей судьбы и не началось... Главное же в мысли Соловьева никак Платоновскому принципу не противоречит. Да и в «Критике отвлеченных начал» он «реализацию божественного начала» определяет как задачу искусства, «свободной теургии»(217). Нет у Соловьева также почти ничего носящего печать бескрайностей. Говорю «почти» потому, что при известном желании можно было бы признать «безмерной» его мысль: Бог хочет, чтобы существовал хаос. Эту мысль он высказал в одной из второстепенных своих работ. Ни в «Оправдании Добра», ни в «Критике отвлеченных начал» этой мысли нет. И только намеки на нее есть в «Повести об Антихристе», которая, как и «Три разговора» вообще, представляется мне одним из слабейших произведений Соловьева... Предполагаю, что вы не берете его в укрепление вашей позиции в споре?
Л. – Не предполагайте: его эсхатологию беру.
А. – Напрасно. Соловьевская счастливая эсхатология – история кончится Царством Божиим – лишь очень далекая, слишком далекая и, по-моему, ничем неоправданная экстраполяция всу той же идеи «красоты-добра». На вашем месте я взял бы только трех русских мыслителей, которых сейчас назову. На заданный же вами вопрос «Кто величайший русский философ?» я все же не отвечу: Соловьев. Я без колебания назову Герцена. Из него вышли и «персонализм», и русская субъективная школа. И он для меня высокое воплощение того, что Гегель называет «lebendige Freiheit». Перечтите главу Гегеля об афинской культуре. Ее особенность он видит в «одухотворенности гением красоты» («Geist der Shnheit»)(218). В России политической свободы было немного, но внутренней свободы было больше, чем где бы то ни было, именно в вышеуказанном гегелевском смысле, тесно примыкающем к Платоновскому принципу. Такова же особенность вершин русской культуры. В искусстве это Толстой, в области чистой мысли Герцен, «наш дорогой Герцен», как называл его автор «Войны и Мира» в письме к Стасову (кстати, кажется, Толстой ни об одном писателе таких слов не говорил). Надеюсь, вы Герцена не отведете на том основании, что он не принадлежал к «цеху» и писал не на «профессорском жаргоне».
Л. – Никак его не отвожу, но я действительно имел в виду «мыслителей» в более узком смысле слова.
А. – Если опять-таки не в смысле одного узко-философского цеха, то я указал бы как «величайших» Лобачевского и Чебышева. У нас пишут историю русской мысли даже не упоминая об этих двух великих людях. Между тем чисто-философское значение их работ не меньше их математического значения. Владимир Соловьев все-таки нового слова в истории мировой отвлеченной мысли не сказал. Бросили новое философское слово эти два математика...
Л. – Нельзя требовать от философов, чтобы они занимались и математическими науками.
А. – Почему же собственно нельзя?.. Но они тоже принадлежат к другому цеху... Не из цеха и те философы, которые подтверждают вашу точку зрения. Как вы, вероятно, .догадываетесь, первый из них Константин Леонтьев. Я его не люблю и едва ли кто-либо любит его. Но не могу отрицать, что он был один из самых оригинальных русских мыслителей девятнадцатого века.
Л. – Вы имеете в виду его политические предсказания, которые высоко ставил Бердяев?
А. – Нет. Политические предсказания хороши, когда они совершенно конкретны. Конкретно было предсказание, сделанное за несколько месяцев до первой мировой войны бывшим министром Дурново, и я это предсказание считаю лучшим из всех мне известных, да и, прямо скажу, гениальным: он предсказал не только войну (что было бы нетрудно), но совершенно точно и подробно предсказал всю конфигурацию в ней больших и малых держав, предсказал ее ход, предсказал ее исход. Предсказывать же в очень общей форме, как это делали столь многие известные люди, приводящие своими пророчествами в восторг потомство, – это заслуга не большая. Таково предсказание Лермонтовское: «Настанет год, России черный год, – Когда царей корона упадет, – Забудет чернь к ним прежнюю любовь, – И пища многих будет смерть и кровь»... Конечно, оно сбылось. Но что же оно собственно значило? Ничто не вечно, не вечна и корона царей. После французской революции, после восстания декабристов, нетрудно было делать такие предсказания. Правда, Лермонтову было, помнится, лет шестнадцать, когда он написал эти стихи... Предсказания Леонтьева, если о них вообще можно говорить, носили слишком общий характер: будет уравниловка, будет революция, будет кровь. В смысле узкой политической эсхатологии: ни один государственный организм в истории не прожил более тысячи двухсот лет, значит подходит к концу и западноевропейский мир, Франция, Англия, Германия(219). Что же еще? Тот приятный крепостникам вздор, который он говорил о «разрушительно-эмансипированном процессе» в России(220)? Или же «Конец петровской Руси близок. И слава Богу. Ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее отойти от него, отрясая романо-германский прах с наших азиатских подошв»(221)? Или предстоящее «вступление русских войск в Царьград» и не «с общеэгалитарностью в сердце и уме», а «именно в той шапке-мурмолке, над которой так глупо смеялись наши западники»(222)? Или то, что в случае русско-германской войны Россия и Германия пожертвуют слабейшими союзниками, т. е. Францией и Австрией? В этом последнем предсказании он, кстати сказать, сходился с Энгельсом, от чего верно пришел бы в совершенный ужас. Да чего он собственно в политике хотел? Говорил, что воевать с Австрией желательно, но разрушать ее – избави нас, Боже, ибо она «драгоценный нам карантин от чехов и других уже слишком европейских славян». Что он для России предвидел? Ей, по его словам, «предстоят две дороги – обе бесповоротно европейские – или путь подчинения папству и потом в союзе с ним борьба на жизнь и смерть с антихристом демократии, или же путь этой самой демократии ко всеобщему безверию и убийственному равенству»... По правде сказать, политик Леонтьев был никакой. Если б этот необыкновенно одаренный человек был только политиком, то и быть бы ему всю жизнь консулом в балканской глуши. Мне даже не очень понятно, что именно его к политике влекло? Вот как, по-моему, не очень к нему идет, что он, при своем антигуманизме, был врачом... Знаю, что некоторые историки русской мысли теперь смотрят на Леонтьева иначе, но я все же думаю, что в основе его миропонимания или, точнее, мироощущения, лежит одно «чувство красоты», своеобразное и очень тонкое. Кое-чем, – мне трудно было бы определить точно, чем именно – он напоминает мне П. П. Муратова, который, будучи штатским человеком, писал о военных вопросах так же много и с такой же любовью, как Леонтьев писал о внешней политике...
Л. – Значит, вы этого ушедшего в монастырь человека считаете «антигуманистом» или даже «аморалистом»?
А. – Таким его до недавнего времени, кажется, считали все. Я так далеко не иду... Не люблю опошленного слова «эстет», назовем Леонтьева «эстетиком», благо он сам нередко употребляет это слово. Но к «добру» у него в самом деле особенной любви не было. Да, он находил, что «поэзию изящной безнравственности» может вытравить «поэзия религии». Значит, тоже «поэзия»? И вытравила ли у него самого? Противоречивое миропонимание этого сложного человека менялось, правда, часто. Он одобрительно повторял слова Каруса, что в известные годы «man wird sich selbst historisch». Леонтьев даже этим злоупотреблял, как несколько злоупотреблял и словесной водой: если б выжать полное собрание его сочинений, остались бы том или два ценнейших и тончайших замечаний. В эсхатологии же «эстетика» он был гораздо более прав, чем в чем бы то ни было другом. Действительно, в недифференцированном обществе искусство может ждать печальная участь. Советская беллетристика это достаточно доказывает (независимо от гнета большевистской цензуры). Очень тонко говорил он, что в быту южных славян «Анна Каренина» была бы просто невозможна. О Леонтьеве лучше всего судить не по существу его доктрины, а по разным отрывочным замечаниям. В своих воспоминаниях он говорит, что перед первой встречей с Тургеневым (тот его «открыл») он "ужасно боялся встретить человекане годного в герои (его курсив), некрасивого, скромного, небогатого, одним словом жалкого труженика, которых вид и тогда уже (курсив мой) прибавлял яду в мои внутренние язвы. Терпеть не мог я смолоду бесцветности, скуки, и буржуазного плебейства, хотя и считал себя крайним демократом"(223). Насчет демократии это тоже сказано для красоты слога. Много цитат можно было бы привести из Леонтьева в доказательство того, что «его идеал позади», – в темной дали. Не привожу их потому, что это было бы все-таки не вполне верно: не сомневаюсь, что если б он жил при Петре I, в период безграничного самовластья, он возненавидел бы и Петра, как ненавидел бы и любой другой строй, – вот же при Николае Павловиче считал себя «крайним демократом». Он сам себя где-то называет «человеком, с которого только что сняли кожу». Он ушел в монастырь и считал себя глубоким знатоком русского монашества. Говорю «считал себя», так как он и тут высказывал мысли странные и необычные. Он не раз издевался над христианством Достоевского. «Считать „Братьев Карамазовых“ православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св. отцов и старцев Афонских и Оптинских»(224). Говорил, что "творчество Зола в этом случае гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сантиментальное сочинительство Достоевского в «Братьях Карамазовых»(225). – Зола! То есть, воплощение вольнодумного «мещанства» (в Леонтьевском и Герценовском смысле этого слова). Я думаю, никакие нападки со стороны Верховенских или Ракитиных не могли бы оскорбить Достоевского больше, чем эти пренебрежительные замечания – со стороны Константина Леонтьева. Так же пренебрежительно он говорил о Толстом, «который кощунственно зовет себя христианином»(226)... Не всегда помогала ему и эстетика: не обо всем можно было судить исходя из ненависти к «жизни пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака». Однако его положение было легче, чем у Герцена. Для него, как для чистого «эстетика», мещанство было в нивелляции быта, а она означала гибель искусства. Кроме того, Герцену в его ненависти к «juste milieu» все-таки создавал затруднение его социализм, ибо социалисты, как сказал Прудон (и повторил Леонтьев), должны покинуть нынешнее либерально-консервативное juste milieu во имя будущего juste milieu социалистического. «Будь теперь крайним, чтобы позднее стать средним»... Леонтьев же хоть к обоим juste milieu мог относиться совершенно одинаково,. Он где-то говорит, что правды нигде нет, не было и не будет. Он признавал Каткова гениальным человеком... Нет, он вне русской традиции. Леонтьев в русской культуре – первое из трех исключений, выгодных для вас для защиты вашей позиции в споре.
Л. – А два другие?
А. – Федоров и Розанов. И если б я не боялся схем, всегда все огрубляющих, я сказал бы: Леонтьев из Платоновского принципа фактически так или иначе принял только «красоту», Федоров принял только «добро», а Розанов не принял ни того, ни другого. Мне трудно говорить о Федорове, так как его основное учение я понимаю еще гораздо меньше, чем страницы об Андрогинизме у Соловьева. Федоров и в мировой литературе совершенно ни на кого не похож, хотя бы и отдаленно, – случай, можно сказать, единственный. Скажу больше: он ненавидел традиции европейской мысли. Гегель, любимец русских философов и философствующих писателей, как «левых», так и «правых», был для него поистине bete noire. В отношении к Гегелю у этого подлинного праведника появляется и нечто похожее на личную ненависть. Он пишет: «Гегель, можно сказать, родился в мундире. Его предки были чиновники в мундирах, чиновники в рясах, чиновники без мундиров – учителя, а отчасти, хотя и ремесленники, но, тоже, цеховые. Все это отразилось на его философии, особенно на бездушнейшей „Философии Духа“, раньше же всего на его учении о праве. Называть конституционное государство „Богом“ мог только тот, кто был чиновником от утробы матери. Нельзя читать без глубочайшего отвращения определения его „Логики“ или „Феноменологии“, если переложить в них живые, конкретные»(227)... Не думаю, чтобы позволительно было такими доводами отмахиваться от грандиозной системы, сыгравшей огромную роль в мировой истории мысли. Еще хуже было его отношение к другому, более позднему, западному любимцу философской или философствующей России: «Amor fati», говорит Федоров, – «это формула величайшего унижения, падения человека ниже зверя, ниже скота, ниже самого Ницше»!(228). Было ли тут что-то от избытка национализма или от нелюбви к немцам? Ни в малейшей степени. Федоров собственно ненавидел и русскую литературу: «Так называемая русская литература, называющая наше царство темным, наши города „Глуповыми“ и т. п., не есть ли только „Россика“, т. е. сочинение иностранцев о России, а не подлинных сынов русского народа»(229). Вы скажете, он имел в виду лишь обличительную литературу Щедринского образца и ненавидел ее, как «подлинный сын», из любви к старым устоям. Тоже ни в малейшей степени. Он и Гоголя, и Толстого, и даже «светлого» Пушкина, никак не обличителя, считал – правда, лишь «в некоторых отношениях» (спасибо и на этом) – «иностранцами, пишущими о России» (как он Ницше почему-то считал «русским, пишущим о Германии и вообще о западе»). Что ж делать, у них не все «добро», есть и «красота». Тут уместно было бы вспомнить те замечательные слова Нила Сорского, которые я вам уже приводил: «И доброе на злобу бывает ради безвременства и безмерия». Я знаю, Федоров был замечательный человек, истинный подвижник, приближавшийся по человеческому типу к Нилу Сорскому. Вероятно, именно этим он производил огромное впечатление на людей, даже на Льва Толстого, который гордился тем, что живет в одну эпоху с Федоровым. Но все-таки к чему все это Федорова привело? Не касаюсь его критики Апокалипсиса, которую Бердяев считает гениальной. Все же главное в его философии это теория воскрешения мертвых. Бердяев ее обходит молчанием и мягко замечает, что в ней «есть, конечно, элемент фантастический». Действительно, есть. Позвольте вам напомнить: «Радикальное разрешение санитарного вопроса состоит в возвращении разложенных частиц тем существам, коим они первоначально принадлежали... Таким образом, вопрос санитарный, как и продовольственный, приводит нас ко всеобщему воскрешению. Обращая бессознательный процесс рождения и питания, в действие, во всеобщее воскрешенье, человечество через воссозданные поколения делает все миры средствами существования... С другой стороны, только таким путем избавится человечество и от всеобщей смертности, явившейся, как случайность, от невежества, следовательно от бессилия, и чрез наследство сделавшейся врожденною, эпидемической болезнью, перед которой все прочие эпидемии могут считаться спорадическими болезнями. Смертность сделалась всеобщим органическим пороком, уродством, которое мы уже не замечаем и не считаем ни за порок, ни за уродство. Смерть некоторые философы не хотят признать даже злом на том основании, что она не может быть чувствуема, что она есть потеря чувств, смысла; но в таком случае и всякое отупение, безумие, идиотство нужно исключить из области зла, а чувство и разум не считать благом»(230). Повторяю, не могу понять. И достаточно прочесть его произведение, чтобы исключить возможность какого-либо фигурального или символического толкования его мыслей о «воскрешении». Нет, он своему учению придавал смысл буквальный. В этом «санитарном» подходе к бессмертию есть и довольно грубый материализм. Нам, конечно, было бы здесь бесполезно возвращаться к сопоставлению «Intellige ut credas» и «Crede ut intelliges». Этот спор не был закончен, конечно, и знаменитыми возражениями Джона Стюарта Милля Виллиаму Гамильтону, со всеми разбиравшимися Миллем примерами, вплоть до несколько наивного «мы знаем, что мы существуем, что существует наш дом, наш сад в тот момент, когда мы на них смотрим, и мы верим, что существуют русский царь и остров Цейлон»(231). Но ни к одному варианту мнений, высказанных в этом вековом споре, учение Федорова не относится. Разве только к «credo quia absurdum»? Или вы это положение считаете русской идеей?