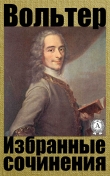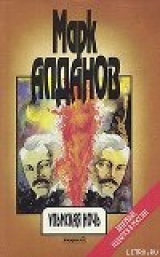
Текст книги "Ульмская ночь (философия случая)"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Л. – Я никак не ставлю себе задачей защищать Федоровское учение о воскрешении мертвых. Все же напомню вам страницу о «прахе» в главе о смерти у Шопенгауера: «прах» живет и будет жить, вечно меняя форму(232). Вы не станете говорить, что и у Шопенгауера «credo quia absurdum»?
А. – Не стану, потому что у него этого нет и в помине; он не «воскрешает» праха, т. е. не обращает его в прежнее человеческое существо, он говорит о дальнейших вечных превращениях разлагающейся материи. Не скажу, чтобы эта глава гениальной книги была особенно утешительна, да Шопенгауер, как вы знаете, никогда особенно и не старался утешать человечество. Федоров же верно пытался утешить нас – и особенно себя. Но уж, конечно, его учение еще гораздо менее утешительно, чем эти незабываемые шопенгауеровские страницы.
Л. – Вы упрощаете учение Федорова и, главное, берете в нем не самое ценное. Но даже в мысли о «санитарном» воскрешении людей есть доброе зерно. Он выражал ее словами, что природу в ее нынешнем виде нельзя признавать созданьем Бога, поскольку в ней божественные предначертания либо не выполнены, либо искажены. Федоров это приписывал частью незнанию, частью безнравственности людей. С первой частью утверждения – в другой словесной оболочке – согласились бы и Пастер, и Ньютон. Он был не так не прав, говоря в данном случае и о безнравственности. На те миллиарды долларов, которых стоят атомные бомбы и все с ними сходное, можно было бы кое-что в природе и «переделать»... Но уж во всяком случае вы должны признать, что и Леонтьев, и Федоров могут считаться доказательствами бескрайности русских идей.
А. – Да ведь я и говорю вам, что они составляют в истории русских идеи исключение. Третье исключение: Розанов. Как и Леонтьев и в отличие от Федорова, он был очень одаренный писатель. Этим, конечно, а не своими философскими сужденьями, он завоевал русскую критику или во всяком случае значительную ее часть. Как ни смешно сравнивать его с Паскалем (а это сравнение было сделано очень авторитетным человеком), талант у него был большой. С ним однако вышло недоразумение, продолжавшееся приблизительно полстолетия. У Розанова были поклонники и в либеральном лагере. Все же кумиром он был преимущественно для людей консервативных взглядов. Он писал и в «Русском Слове», но главные его читатели были в «Новом Времени»: завоевал консервативную Россию Розанов, а не Варварин (как вы помните, под этим псевдонимом он писал в либеральной газете). И ее кумиром оказался совершенный нигилист. Иначе я не могу назвать автора «Апокалипсиса нашего времени». Живя в Сергиевском Посаде, он написал богохульную книгу! С В. С. Печериным, автором «Замогильных Записок», случилось в этом отношении нечто сходное: он, став католиком, пробыв двадцать лет монахом, писал: «Вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах, и теперь издыхает от старческого изнеможения». Но о нем я говорить не хочу и не только потому, что он так смело и бесцеремонно похоронил христианство: Печерин вообще вне русской культуры, и писал он немного, и нигилистом он все-таки не был. Но я рад тому, что оба они, столь друг на друга непохожие, сами себя, каждый по своему, исключили из русской философской традиции.
Л. – Да можете ли вы вообще говорить о русской философской традиции, если вы говорите, что философских систем у нас в девятнадцатом веке не было?
А. – Это говорю не я, я сослался на чужое мнение. Но тот же о. Зеньковский замечает, например, что П. Л. Лавров почти был «на пороге создания системы». Это верно. Русская субъективная школа была философской системой. Я, впрочем, считал бы ее создателями не Лаврова, а Герцена и Михайловского. Она на западе почти неизвестна. С ней произошло то же, что с Константином Леонтьевым. Ницше ведь в самом деле «вышел» из него, хотя и не подозревал верно об его существовании. Русская субъективная школа предвосхитила главное в учении Риккерта. Это у нас говорилось. Но не говорилось, что она предвосхитила и главное в нынешнем экзистенциализме, по крайней мере в его Сартровском подразделе. Сартр просто повторил зады русской субъективной школы (тоже, разумеется, никогда о ней не слышав). Чтобы не быть голословным приведу – в подлиннике, для точности и в виду крайней трудности перевода – лишь один отрывок: «L'homme est possesseur d'une nature humaine, cette nature humaine, qui est le concept humain, se retrouve ehez tons les hommes, ce qui signifie que chaque homme est un exemple particulier d'un concept universel, l'homme; chez Kant, il rsulte de cette universalit que l'honune des bois, l'homme de la nature, comme le bourgeois, sont astreints la mme dfinition et possdent les mmes qualits de base. Ainsi, la encore 1'essence d'homme prcde cette existence historique que nous rencontrons dans la nature. L'existentialisme athe, que je reprsente, est plus cohrent. Il dclare qui si Dieu n'existe pas, il у a au moins un tre chez qui 1'existence prcde l'essence, un tre qui existe avant de pouvoir tre dfini par aucun concept, et que cet tre с'est l'homme ou, comme dit Heidegger, la ralit humaine. Qu'estce que signifie ici que 1'existence prcde 1'essence? Cela signifie que 1'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se dfinit aprs. L'homme, tel que le conoit 1'existentialiste, s'il n'est par dfinissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Aiasi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour le concevoir. L'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conoit, mais tel qu'il se veut, et comme il se conoit aprs 1'existence, comme il se veut aprs cet lan vers 1'existence; 1'homme n'est rien d'autre que ce qu'il ce fait. Tel est le premier principe de 1'existentialisme... Subjectivisme veut dire d'une part choix du sujet individuel par lui-mme, et, d'autre part, impossibilit pour 1'homme de dpasser la snbjectivit humaine. C'est le second sens qui est le sens profond de 1'existentialisme. Quand nous disons que 1'homme se choisit, nous entendons que chacun d'entre nous se choisit, mais par l nous voulons dire aussi qu'en se choisissant il choisit tous les hommes. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en crant 1'homme que nous voulons tre, ne cre en mme temps une image de 1'homme tel que nous estimons qu'il doit tre. Ghoisir d'tre ceci ou cela, c'est affirmer en mme temps la valeur de ce que nous choisissons, car nous ne pouvons jamais choisir le mal; ce que nous choisissons, c'est toujours le bien, et rien ne peut tre bon pour nous sans 1'tre pour tous»(233). Отбросим последнюю мысль, несколько неожиданную и весьма «крайнюю», – Сартр мог бы перечесть тут «Записки из Подполья»...
Л. – Или хотя бы свои собственные романы, где действующие лица неизменно «выбирают зло», а не добро.
А. – Но что, если именно отбросить «nous ne pouvous jamais ehoisir le mal», возвращающее нас даже не к «Критике Практического Разума», а к добрым старым утилитаристам, которые и не подозревали, что они – экзистенциалисты? Ведь Михайловский говорил, без упора а атеизм, почти дословно то же самое. Вы скажете, что обоих учений есть общие корни. Не думаю. Едва ли Дихайловский читал Киркегардта, и вдобавок Сартров:кий оттенок французского экзистенциализма с Киркегардтом связан мало, а католический экзистенциализм Габриеля Марселя имеет гораздо меньше общего с русской субъективной школой... Нам пора закончить эту «прогулку по садам русской философии». Я ничего не сказал о Хомякове, о Киреевском, о Милюкове, о Новгородцеве, о Трубецких. Их учения входят в ту русскую традицию, о которой я говорил, или по крайней мере никак ей не противоречат. Но уж во всяком случае субъективная школа густо окрашена Платоновской идеей и ровно никаких бескрайностей и безмерностей в себе не заключает... Да и как к людям, оба эти положения в достаточной мере относятся к Герцену, Лаврову, Михайловскому.
Л. – Вы упустили не одних только названных вами лиц. Вы ничего не сказали, например, о Ткачеве. Вероятно, вы считаете его только последователем Бланки, над гробом которого он сказал речь? Но уж Бакунин и даже Кропоткин были настоящие творческие умы, – между тем я у них вижу настоящую «безмерность». Вообще лучше было бы говорить не о том, чего нет в русской культуре, а о том, что в ней есть. Не скрою, мне ваши три идеи кажутся несколько натянутыми. И я не вижу, где именно идея красоты-добра перекрещивается с идеей Случая или Судьбы?
А. – Я не повторял в этой нашей беседе того, что сворил прежде. К сказанному я лишь добавлю, что русское искусство выше всего там, где оно не гоняется за искусственной «самобытностью», – очень это легкая и дешевая штука. Пушкин, Толстой, Чайковский, создатели Смольного монастыря и Казанского собора в Петербурге не боялись сочетания русского искусства с западным... В заключение же нашей беседы хочу остановиться – и тут уж не кратко, а более подробно – на одном замечательном русском художественном создании, в котором именно скрещиваются все «три идеи».
Л. – Что же это такое?
А. – Это «Пиковая Дама» Пушкина-Чайковского. Как видите, я тут называю имена двух великих русских художников. Делаю оговорку. Чайковский никак не был знатоком литературы. Как впрочем и большинство русских композиторов, а может быть и композиторов вообще, он не всегда выбирал для своей музыки лучшие литературные произведения. Для романсов иногда и вообще не выбирал стихов, а просил вместо него делать это госпожу фон Мекк. Безграмотное либретто «Пиковой Дамы» показалось ему очень хорошим(234). Что ж делать? Наше общее понятие искусства в значительной мере фиктивно. Люди одного из его родов нередко ничего не понимают в другом, тем более, что каждое искусство более или менее герметично и требует для суждения долгой подготовки и даже работы в нем. Так, например, Врубель, любивший высказываться о литературе, считал «Анну Каренину» второстепенным романом! Согласно его другому замечанию, «Война и мир» потому нравится читателям, что в ней хорошо описана барская обстановка, – все графы и князья(235). Все же операция, произведенная братьями Чайковскими над пушкинской повестью, поразительна. У Пушкина действие «Пиковой Дамы» происходит в девятнадцатом столетии, – Томский ведь говорит о Германне: «У него профиль Наполеона и душа Мефистофеля». Чайковские перенесли повесть в царствование Екатерины II – и вставили романс, в котором старая графиня вспоминает свою молодость, свою встречу с госпожой Помпадур! В повести граф Сен-Жермен («лет шестьдесят тому назад», по словам Томского) мог открыть юной графине свой секрет. В либретто же и тут вышла совершенная хронологическая бессмыслица. А добавленные либретистами действующие лица, этот специально для арии приделанный князь Елецкий, страстно влюбленный в Лизу! (у Пушкина ее особенность именно в том, что никто из мужчин ее общества на нее и смотреть не хочет). А присочиненный для двух арий, нелепый финал, с двумя самоубийствами, на которые у Пушкина и намека нет! Мы часто возмущаемся холливудскими людьми, искажающими литературные шедевры. Однако величайший русский композитор поступил ничуть не лучше с величайшим русским поэтом. Он и сам присочинял стихи к пушкинскому тексту! И несмотря на все это, Чайковский почувствовал «Пиковую Даму» изумительно. Вспомните слова Бетховена: «Музыка – высшее откровение всей мудрости и философии». Тут же было поистине «высшее откровение», – все другое теряет значение. Необыкновенная музыка не только верно передает смысл необыкновенной повести, но еще увеличивает ее глубину. Пушкин и Чайковский здесь навсегда слились. Чайковский написал свою оперу очень быстро, в том состоянии, которое называется «трансом». Много пил: «Вечером страшно пьянствовал», – пишет он в дневнике(236), подчеркивая слово «страшно». И без конца лил слезы: «Ужасно плакал»... Он говорит сильные слова: «Приходил в некоторый азарт»... «Я и вдохновение испытываю до безумия»... «Сегодня писал сцену, когда Германн к старухе приходит. Так было страшно, что я до сих пор под впечатлением ужаса»... Чайковский считал эту оперу своим лучшим произведением. Писал брату: «Или я ужасно ошибаюсь, или „Пиковая Дама“ в самом деле шедевр»... «Я испытывал в некоторых местах, например в 4-ой картине, такой и ужас и потрясение, что не может быть, чтобы слушатели не ощущали хоть части того же»(237).
Л. – Я очень люблю и повесть Пушкина, и оперу Чайковского. Но не преувеличиваете ли вы их значения и нет ли у вас умышленного желания ими чрезмерно восторгаться? Это нередко бывает с критиками и очень им вредит; они поддаются гипнозу имен. Напомню вам довольно пренебрежительные слова Римского-Корсакова: "Наклонность к итальянско-французской музыке времен париков и фижм, занесенная Чайковским в его «Пиковой Даме»(238)... Пушкинский же рассказ все-таки небольшая вещь.
А. – Я себя проверял и не думаю, чтобы тут поддавался гипнозу. Лев Толстой, достаточно компетентный судья, говорил незадолго до своей смерти об этой небольшой вещи: «Так уверенно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно!». В самом деле, по уверенности, сжатости и силе есть мало произведений в прозе, равных этой повести. Из ее сюжета легко можно было сделать длинный роман; Пушкин сделал короткий рассказ. К сожалению, пушкинисты, кажется, точно не установили, как именно писалась «Пиковая Дама». Думаю, что она, как и опера Чайковского, была написана сразу, быстро; об этом, быть может, свидетельствуют и две-три мелких погрешности, выделяющиеся и режущие в удивительном языке этого шедевра. При длительной отделке, Пушкин едва ли бы говорил о «суетных увеселениях» петербургского света, он не сказал бы: «Германн трепетал как тигр», – ему не свойственны были ни банальные слова, ни фальшивые образы. Это, конечно, мелочи. С самого начала, короткие, даже по звуку мрачные, фразы «Пиковой Дамы» готовят к чему-то очень значительному: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно»... Так же написана и последняя глава в игорном доме: «В следующий вечер Германн опять появился у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной... Германн стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все улыбающегося Чекалинского... Это похоже было на поединок»... Удивительно и в чисто словесном смысле, без восторга читать нельзя. У нас Пушкин положил начало всему, всем видам поэзии и прозы. Так и здесь. Достоевский сказал: "Мы все вышли из гоголевской «Шинели». С большим правом он мог бы сказать: "Мы вышли из «Пиковой Дамы». Несмотря на краткость рассказа, в нем все люди живые. Живой даже Томский, которому едва ли отводятся две страницы, живой Чекалинский, – ему отведено несколько строк. Живая и Лизавета Ивановна, прообраз Сони «Войны и Мира». Из старой графини Анны Федотовны вышли чуть не все брюзжащие, капризные старухи русской литературы. А что сказать о самом Германне? Достоевский недаром им восхищался и называл его лицом необыкновенным. В Германне уже дан целиком Раскольников. Собственно и идея та же. Оба идут на преступление ради денег, но сами по себе деньги им и не нужны; это самообман, если не обман-просто. Раскольников строит на Наполеоне свою философию. Пушкин не случайно два раза подчеркивает физическое сходство Германна с Наполеоном. И он, и Раскольников гордецы и честолюбцы. Но как они предполагают удовлетворить свое честолюбие, – непонятно. Чем же они стали бы, если б разбогатели? Их проблематическое богатство никак честолюбия удовлетворить не могло бы. Раскольников не ждал, конечно, у мелкой ростовщицы больших денег. Три карты в случае удачи могли бы дать Германну двести восемьдесят две тысячи. Столь скромным состоянием честолюбия не насытишь, а для обыкновенной карьеры было достаточно и того, что у него было перед началом игры. Что же дал бы ему выигрыш? Что дали бы Раскольникову нищенские «драгоценности» старухи? В какие Наполеоны он мог бы с ними выйти! В «Пиковой Даме» все вообще непонятно и таинственно, начиная с мелочей. Был ли Чекалинский шулером? Он «провел весь век за картами»... «Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей»... Понимай как знаешь. Точно так же и автор «Войны и Мира» не сказал, шулер ли Долохов. Сообщено только, что Долохов «употреблял для игры» бывшего приказного Хвостикова, – тоже понимай как знаешь, хотя и немного яснее, чем у Пушкина. Кстати, и в приемах обоих игроков сходство иногда доходит до повторения выражений. Чекалинский говорит Германну: «С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». То же самое говорит Долохов: «Господа, прошу класть деньги на карты». Один из игроков сказал, что, он надеется, что ему можно поверить. – «Поверить можно, но боюсь спутаться, прошу класть деньги на карты», – отвечал Долохов. Это тоже мелочи: не все ли равно, честно ли играл Чекалинский? Но в «Пиковой Даме» тщательно скрыто и «главное». Любил ли Германн Лизавету Ивановну или нет? Как будто не любил, – сама Лизавета Ивановна пришла к мысли, что «все это было не любовь! Деньги – вот чего алкала его душа!». Однако о Германне же сказано, что его письма к бедной барышне «уже не были переведены с немецкого. Германн их писал вдохновенный страстью». Какой именно страстью, только ли страстью к игре, – не указывается. Не вполне ясно даже и то, влюблена ли в Германна Лиза. Она очень быстро успокоилась после драмы и вышла замуж. Да не разъясняется и самый сюжет повести: был ли секрет у старой графини, или же весь рассказ о Сен-Жермене – сплетня? Все непонятно и таинственно. Зачем эти эпиграфы к главам, неизвестно у кого взятые (только под одним подпись – и какая: Сведенборг!). В своей повести «светлый» Пушкин устроил какой-то почти незаметный общий погром. Все хороши! Не остановился и перед людьми церкви. Над телом старой, выжившей из ума, всем осточертевшей, всех угнетавшей развратницы архиерей «произнес надгробное слово». В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, – сказал оратор, – бодрствующей в помышлениях благих и в ожидании жениха пополунощного». Пушкин незаметно иронизирует и над читателями. «Заключение» он пишет так, как и до него, и после него писались десятки повестей: «Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние»... «Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине»... И уж совершенное (только противоположное) издевательство над читателями в словах о том, что благодаря новейшим романам Германн «это уже пошлое лицо»! Ни в каких «новейших романах» такого «пошлого лица» не быль. Германн лицо новое и, конечно, во многих отношениях необыкновенное, воплощающее огненное воображение в сочетании с навязчивой идеей. Об этом вскользь говорит и сам Пушкин: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как и два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место»... Во имя чего же ирония, вообще Пушкину мало свойственная?
Л. – Вы хотите сказать: во имя Платоновского принципа?
А. – Смысл повести в пересечении этой идеи с идеей случая. Ни мудрости, ни красоты, ни добра не было. Тем не менее все как будто шло превосходно. Германн секрет старой графини узнал, сорок семь тысяч выиграл в первый день. Девяносто четыре тысячи выиграл во второй день. Но вот на третий день «обдернулся»: вместо туза положил все деньги на пиковую даму. Случай! И как изумительно это вышло у Чайковского! Разумеется, я не смею спорить с Римским-Корсаковым. Но, он, во-первых, был современником и «собратом», т. е. соперником по любви публики, – к несчастью, отношения между большими людьми в искусстве, современниками или представителями смежных поколений, почти неизменно напоминают отношение госпожи Монтеспан к г-же Мэнтэнон, сменившей ее в милостях Людовика XIV. А во-вторых, автор «Снегурочки» и «Садко», при всем своем таланте, был не очень глубоким «философом». Он ни в чем не сомневался: Стасов все объяснил... Музыкальная философия «Пиковой Дамы» посложнее и «Града-Китежа». Какая тут «итальянщина»! Я не пойду вслед за талантливым историком оперы, который усмотрел в сцене в спальной графини ее мистическое венчание с Германном. Не могу согласиться и с теми, кто считает эту оперу венцом религиозной музыки Чайковского. Не знаю даже, был ли он по-настоящему верующим человеком. Возможно, что не был, – тогда с большой горечью, как все неглупые и не слишком поверхностные атеисты. Но скорее, по-своему, верующим человеком был. Великий князь Константин Константинович предложил ему написать «Реквием». Чайковский отказался и ответил интересным и даже замечательным письмом: «В „Requiem“ много говорится о Боге-судье, Боге-карателе, Боге-мстителе. Простите, Ваше Высочество, – но осмелюсь намекнуть, что в такого Бога я не верю, или, по крайней мере, такой Бог не может вызвать во мне тех слез, того восторга, того преклонения перед Создателем и источником всякого блага, – которые вдохновили бы меня. Я с величайшим восторгом попытался бы, если б это было возможно положить на музыку некоторые евангельские тексты. – Например, сколько раз я мечтал об иллюстрировании музыкой слов Христа: „Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные“ и потом „Ибо иго мое сладко и бремя мое легко“. Сколько в этих чудных простых словах бесконечной любви и жалости к человеку! Какая бесконечная поэзия в этом, можно сказать, страстном стремлении осушить слезы горести и облегчить муки страдающего человечества»..(239)
Л. – Это деизм Толстовского оттенка. Чайковский боготворил романы Толстого, хоть в человеке Льве Николаевиче несколько разочаровался. По-видимому, и Толстой необычайно любил его музыку. Он писал Чайковскому в 1867 году: «Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер». Это едва ли было простым комплиментом после прослушанной им музыки Чайковского. Уж скорее комплиментом могло быть то, что молодой Чехов послал композитору свои «Рассказы» с надписью «Петру Ильичу Чайковскому от будущего либреттиста»(240)... Кстати, надеюсь, вы не защищаете шаблонную параллель, родство душ: Чайковский-Чехов-Левитан"?
А. – Нет, никак не защищаю. Не знаю даже, на что у Чехова, если не считать «Черного монаха», Чайковский мог бы написать музыку? Он предпочитал напряженные драматические сюжеты, души, начиненные динамитом. Верно этим его и увлек Германн. Вы слишком любите точные определения: «деизм Толстовского оттенка». Это не совсем так. Конечно, Лев Николаевич не ради комплимента написал Чайковскому то, что вы процитировали. Но и у него сродства душ с Чайковским быть не могло: Толстой для этого слишком страстно любил жизнь... Возвращаюсь к «Пиковой Даме». Из ее трех лейтмотивов, разумеется, лейтмотивы Германна и трех карт важнее лейтмотива старой графини. За что собственно мог Германна карать Чайковский? Тут Толстой ни при чем. Для автора «Войны и Мира» Германн был бы просто авантюрист, играющий наверняка, т. е. шулерски, человек много хуже, например, Долохова, который хоть не занимался шантажом при помощи пистолета. Чайковский, как и Пушкин, «не любит» Германна. В самом деле за что же его «любить»? Но это человек, «вступивший в борьбу с Судьбой». Тема огромная и соблазнительная. У обоих художников Германн карается. Чайковский, быть может, даже усиливает кару по сравнению с Пушкиным. Только этим можно было бы объяснить (хотя и плохо) то, что композитор согласился на глупый финал, предложенный его братом.
Л. – Действительно объяснение плохое и весьма натянутое. Чайковский просто принял более сценический финал.
А. – Не знаю и не настаиваю, но, мне кажется, финал в доме умалишенных был бы и сценичнее, и в музыкальном отношении благодарнее; он и продлил бы тему галлюцинаций пятой картины.
Л. – Думаю, что он не доставил бы вам идейного удовлетворения: какие же «красота» и «добро» в сумасшествии!
А. – Да ведь Германн, по самому замыслу, отрицание Платоновской идеи, влекущее за собой «кару». Красота и добро в пасторали, в чудесной второй картине, отчасти и в первой, в любви...
Л. – Которой, однако, как вы только что сказали, нет!
А. – Я этого не говорил: у Пушкина, повторяю, все оставлено под сомнением; у Чайковского дана расстроенная душа Германна: любовь, золото, три карты. Со стороны же Лизы – быть может, все-таки чистая любовь. И у художника нежность к лучшему из того, что было в старом ушедшем мире, то самое, что и в «Войне и Мире» так прельщает и волнует даже людей, не слишком этот старый мир любящих: чистое волшебство гения.
Л. – Да ведь это и есть «фижмы и парики».
А. – Конечно, это не так «красочно», как, например, песнь индийского гостя, которую я слышать не могу: так она и мне, как Освальду Ситвеллу, надоела по исполнению в ресторанах... Не автору «Садко» и «Снегурочки» было попрекать Чайковского и идеализацией старины... В «Пиковой Даме» покараны люди, безбожно нарушавшие заповедь красоты-добра: Германн и старуха. Но они могли бы быть и не покараны. Случай, торжество Случая, тема трех карт.
Л. – Не слишком подходящее воплощение для Платоновой идеи. Да поверьте, Чайковский ни о чем таком и не думал.
А. – Почем вы знаете? Писал же в дневнике: «Так было страшно, что я до сих пор под впечатлением ужаса»... Притом, ведь у нас сто лет существует пропись: «Художник мыслит образами».
Л. – Но уж очень произвольно вы их истолковываете. И если истолковывать так, то что же торжествует из двух тем: «добро-красота» или Случай?
А. – Обе. Случай помогает торжеству добра или, по крайней мере, каре, которую несет его отрицание. Вершина творчества Чайковского – сцена в спальне графини. В ней все гениально, начиная с первых, страшных звуков, предвещающих, что сейчас произойдет преступление, но за ним последует и кара. Ведьма-старуха немногим лучше шантажиста, невольно становящегося убийцей. Не сдобровать обоим. А эти необыкновенные речитативы, а так удивительно вставленный чужой французский романс! Темы старости, смерти, любви, случая – самое важное, самое главное в жизни человека.