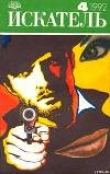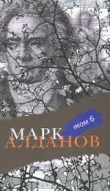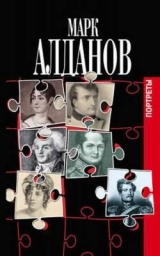
Текст книги "Исторические портреты"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 62 страниц)
V
К сожалению, в книге, выпущенной вдовой генерала фон Мольтке, отсутствуют письма, которые он писал в первый месяц войны. Однако его настроения понятны по письмам предшествующим и дальнейшим.
Быть может, читателям достаточно ясен умственный и душевный облик человека, командовавшего в 1914 году самой мощной армией в истории мира. На должности верховного главнокомандующего оказался «интеллигент» (или даже – по другому клише – «мягкотелый интеллигент»).
Слово не очень определенное, однако условный смысл его более или менее понятен. У нас теперь часто говорят об «ордене русской интеллигенции». Это лестное для самолюбия обозначение привилось, хоть оно весьма спорно. Я прожил всю жизнь среди либеральных интеллигентов, среди них надеюсь свои дни и закончить, но совершенно не знал, что состою в ордене. Во всяком случае, с таким же почти правом можно говорить об ордене французской, немецкой, английской интеллигенции. В западных странах не вел в тюрьмы порыв «любви беззаветной к народу». (Если верно, что «смех сквозь слезы» – самое фальшивое выражение в русском языке, то это «любовь беззаветная к народу» следует за ним в непосредственной близости.) Однако жертвенность была и у западных людей, они это достаточно наглядно показали в 1914—1918 годах. Генерал Гельмут фон Мольтке принадлежал к условному «ордену германской интеллигенции» в такой же мере, как убитые на войне поэт Август Штрамм или социал-демократический депутат Франк. Случай довольно редкий, быть может, даже небывалый: самой мощной армией в истории мира командовал в 1914 году человек, который не верил в военное дело и, уж во всяком случае, ненавидел войну.
«О, если бы мне суждено было отдать жизнь для победы, – писал жене Мольтке 7 сентября 1914 года (в самый разгар битвы при Марне), – я сделал бы это с бесконечной радостью, по примеру тысяч наших братьев, сражающихся в настоящую минуту, по примеру тысяч других, уже павших. Какие потоки крови пролиты, как несказанно отчаяние ни в чем не повинных людей, у которых сожжен дом, разрушена ферма. Ужас охватывает меня при мысли о них. Мне кажется, что я несу ответственность за все это, а между тем я не мог поступить иначе...»
Свою ставку он устроил в Люксембурге, в помещении школы для девочек – в ней не было ни газа, ни электрического освещения. В классные комнаты поставили ровные столы вместо парт, на доски повесили карты, зажгли керосиновые лампы. Такова была при Мольтке главная квартира германской армии. Вероятно, для верховного главнокомандующего можно было найти более удобное помещение; по пути между Берлином и Парижем есть и здания, освещающиеся электричеством, школу с керосиновыми лампами, я думаю, в этой части Европы надо было искать нарочно. Мольтке говорил, что не хочет причинять беспокойство населению захваченной области. Некоторое «беспокойство» он населению причинил и независимо от выбора здания для главной квартиры. Этот странный, главнокомандующий, так искренно в письмах к жене говоривший о страданиях французского населения, полусознательно-наивно, «аскетическим укладом жизни», точно старался замолить грех в безумном и страшном деле, главным участником которого ему суждено было стать и которое быстро его раздавило.
Этот человек был осколком старой Европы, той Европы, где злодеи не могли править культурным государством и не правили. Старый мир потонул, а самое воспоминание о нем производит эффект грустно-комический, как фильмы 1910 года.
Болдуин в два часа ночи вылетел на аэроплане в имение Чемберлена, проник с отрядом вооруженных людей к своему бывшему другу и приказал его убить – после ухода Болдуина «в доме лежали два трупа». Одновременно в санаторию вблизи Лондона явились другие болдуиновы люди, чтобы арестовать Ллойд Джорджа; бывший премьер оказал сопротивление и был убит вместе со своей женой. Главнокомандующий британской армией тотчас печатно выразил восторг по случаю «чисто воинской решимости и исключительной храбрости» Болдуина. Король Георг V по телеграфу выразил Болдуину глубокую благодарность{197}197
Эти строки были написаны в 1934 году, после кровавых событий в Германии и телеграммы Гинденбурга Гитлеру.
[Закрыть]. Чем достигается бредовый эффект в предшествующих строках? Только переменой декорации фильма: он перенесен в страну, в которой в этом смысле почти ничего не изменилось. И точно так же, как в нынешней Англии, дело, подобное убийству Рема и Шлейхера, было бы невозможным бредом в прежней Германии. Морально-политической регресс, произошедший на наших глазах, поистине граничит с чудом. Думаю, что и германские генералы второй мировой войны, даже самые приличные, уже имели мало общего с Мольтке.
VI
Позволю себе и воспоминания. Война застала меня в Париже. Помню страшную ночь 31 июля. Перед красными домами «Матэн» с вечера стояла огромная толпа, движение» кажется, прекратилось. На экране каждые две-три минуты появлялись новости, одна грознее другой: «Тяжелая артиллерия австрийцев бомбардирует Белград...» «Граф Пурталес потребовал аудиенции у царя...» «В Германии объявлено военное положение...» «Необычайный энтузиазм в Петербурге». В сравнение с ощущениями той ночи не идет и наш 1917 год. Решались судьбы Европы, кончалась эпоха в истории мира. Вдруг часов в 10 вечера не с экрана газеты, а с улицы, откуда-то слева, пришло известие: в Cafe du Croissant только что убит Жорес. Толпа ринулась туда по бульвару. Я был на месте убийства минут через пятнадцать после того, как оно произошло... «Не стоит разглядывать слишком пристально великие родовые муки истории». Много позднее вспоминал я эти слова Ренана в часовне петербургской больницы у окровавленных тел Кокошкина и Шингарева. Ренану легко было у себя в кабинете за книгами отпускать верные и бессердечные афоризмы о событиях с тысячелетней давностью...
Не помню, в ту ли ночь или в следующую, зажегся и стал бороздить небо в поисках вражеских аэропланов первый прожектор на террасе Автомобильного клуба. Пал Льеж, пал Намюр, немцы вошли в Брюссель. Далее – Шарлеруа, Лонгви, германская армия у ворот Парижа. Как это произошло, судить не мне; существует об этом громадная литература. Скептический историк утверждает, что во французском генеральном штабе целая школа издавна проповедовала: «Париж – географическая точка, и только». Галлиени очень многое приписывал «английской бездарности». Впрочем, он не щадил и своих: записи в его дневнике безжалостны. По-видимому, можно считать установленным, что в конце августа совет министров и верховное командование склонялись к сдаче Парижа: войну, разумеется, предполагалось вести дальше – без «географической точки».
В ночь на 3 сентября правительство выехало в Бордо. Из воспоминаний Пуанкаре мы теперь знаем, что он сам, Рибо, Марсель Семба всячески этому противились. Мильеран и военные требовали отъезда правительства. Дело решил Гастон Думерг. «Господин президент, – сказал он, – долг иногда заключается в том, чтобы пренебречь обвинением в трусости».
Парижане и в самом деле были чрезвычайно раздражены: они упорно не считали Париж географической точкой. Помню, как в начале сентября по бульвару Сен-Мишель шел на позиции какой-то запасный полк или батальон. В моей памяти остались лица этих немолодых людей: измученные, злобные и решительные. Толковать можно было так: «Ну, что ж, умирать так умирать, мы люди маленькие, в Бордо не уедем»... Правительство действительно как будто поторопилось – это была ошибка, очень отразившаяся на репутации парламентских министров. Покинуть Париж удалось бы и в последнюю минуту, да и сделать это нужно было иначе. Гамбетта в свое время создал себе популярность безобидным и безопасным воздушным шаром, поразившим народное воображение. В 1914 году можно было отлично улететь на военных аэропланах. Но «роскошного поезда с салон-вагонами», тайного отъезда ночью с женами, с детьми, с прислугой, с собачками парижане не прощали правительству Вивиани и членам парламента. Страницы, посвященные отъезду из Парижа Пуанкаре в пятом томе его воспоминаний, показывают, как он сожалел об этом деле, столь неудачном в психологическом отношении. «Чувствую, что с каждой минутой растет моя скорбь, мое унижение», – писал он в дневнике в день отъезда.
Власть в столице перешла к генералу Галлиени. В тот самый день появилось знаменитое обращение парижского главнокомандующего к народу, действительно превосходное по силе и сжатости: «Мне поручено защищать от врага Париж. Я выполню это поручение до конца».
По случайному совпадению, Галлиени обосновался, как и Мольтке, в школе для девочек – в лицее Дюрюи. Вблизи этого лицея я однажды его видел, в первый и последний раз в жизни. Он медленно ехал в открытом автомобиле. За ним бежали люди. Уже в ту пору генерал был тяжко болен, он только что потерял жену – это совершенно разбило его личную жизнь. На холодном лице его было почти такое же выражение: решительное, твердое и мрачное.
В столице генерал пользовался в те дни огромной популярностью. Это в самом деле был очень выдающийся человек. Недостатками его были неуживчивый характер, мизантропия и резкость. О глухой борьбе, которая шла между ним и Жоффром, мы в ту пору, разумеется, ничего не знали, – позднее Бриан умолял их «поцеловаться в знак примирения».
Германские аэропланы летали над Парижем, сбрасывали не очень разрушительные бомбы и не очень удачные прокламации. По ночам глухо доносилась отдаленная канонада; бои как будто приближались к столице. Говорили, что в Шербуре высадились три русских корпуса. Клемансо и Эрве об этом не писали ни слова – верили в те дни только их статьям, да и им верили не слишком. То, что позднее было так удачно названо промыванием мозгов, процветало. Газеты сообщали, что казаки в пяти переходах от Берлина и должны его занять, по всей вероятности, в будущий четверг. Сообщили также, что германские снаряды не разрываются, что штыкового удара немецкая пехота не выдерживает, что в Германии начался лютый голод, что войны в наше время далеко не так кровопролитны, как когда-то. Несколько позже в Стокгольме я видел образцы немецкого промывания мозгов – он был еще лучше. Нужно ли было все это? В те дни мне казалось, что не нужно: ведь никто все равно не верит. Но теперь результаты разных выборов и плебисцитов поколебали мою веру в нецелесообразность цензурного гнета. Быстрота, с которой тупеют люди, поистине безгранична.
В одну из тех незабываемых ночей (числа в моей памяти не сохранилось) выпал проливной дождь. Очень поздно я вышел на едва освещенную площадь Сорбонны. На углу бульвара Сен-Мишель стояла кучка людей. В ту пору можно было подходить к незнакомым людям и вмешиваться в разговор: все говорили об одном. Кто-то доказывал, что пронесшийся ливень затруднит продвижение немцам. «Нет, это не имеет значения, – возразил другой, – но, кажется, канонада стала слабее. Может быть, что-то произошло?..»
Что-то действительно произошло.
VII
31 августа 1914 года, в 111/2 часов утра, кавалерийский капитан Лепик, высланный на разведку по дороге к Компьену, привез странное известие. По словам капитана, авангард армии фон Клука, вместо того чтобы идти прямо на Сен-Дени, свернул по направлению к Марне.
По-видимому, ни в ставке Жоффра, ни в ставке Галлиени никто этому сообщению не поверил: было достаточно ясно, что первая и вторая германские армии идут на Париж, – зачем стали бы они уклоняться от прямого пути?
Затем французский кавалерийский отряд, которым командовал капитан Фагольд, где-то на дороге увидел несшийся германский автомобиль. Французы открыли огонь. Германский офицер, принадлежавший к штабу генерала фон Марвитца, был убит. При нем оказался документ огромной важности – приказ верховного командования об изменении направления: авангарду армии Клука предписывалось свернуть на юго-восток.
О сражении на Марне существует необъятная литература. Трудно выяснить всю правду об этом событии, хоть произошло оно двадцать лет тому назад и хоть принимали в нем участие миллионы людей!.. Разные авторы излагают дело по-разному даже в основном (в подробностях расходятся друг с другом решительно все). Некоторые историки (генерал фон Таппен, например) по сей день утверждают, что никакого поражения германская армия не понесла. А Галлиени, как мы видели, сомневался даже в том, было ли вообще марнское сражение. Об оценках и говорить не приходится. Если Луи Мадлен видит в битве на Марне «прекрасное французское творение, стройное, ясное, разумное, одним словом, классическое в такой же мере, как трагедия Корнеля или парк Ленотра», то, например, германский кронпринц, командовавший в 1914 году пятой армией, пишет в своих воспоминаниях, что и германское, и французское, и английское командование в те дни стоили одно другого: «полное отсутствие стратегического искусства» (когда бы жил Наполеон или Мольтке Старший, поясняет кронпринц, противная сторона была бы на Марне разгромлена совершенно).
У марнского сражения, кроме военной истории, была не написанная до сих пор история политическая, впрочем, тесно переплетающаяся с военной. В Елисейском дворце шла сложная драма, сюжетом которой был Париж. Некоторые министры, не без основания, находили, что немыслимо «объявить столицу открытым городом», то есть, иными словами, без боя отдать ее врагу. 29—30 августа сдача Парижа считалась неминуемой. Но двумя днями позднее, как раз перед отъездом правительства в Бордо, мучительный вопрос поднялся снова. Генерал Галлиени грозил отставкой, если не будут приняты решительные меры для защиты столицы какой угодно ценой. «Для ее сдачи я вам не нужен!» – заявил он на заседании совета министров. Настроение почти везде было растерянное. «Все посходили с ума», – кратко замечает Галлиени в своем дневнике. Генерал требовал, чтобы для обороны Парижа в его распоряжение было предоставлено, по меньшей мере, три корпуса. Жоффр глухо этому сопротивлялся. Парижский главнокомандующий говорит, что Жоффр решил пожертвовать столицей. В эту драму французского совета в Филях вмешались и политики. У них раздражение против главнокомандующего после катастрофического августовского отступления все росло. «Жоффр прекрасный инженер, но какой же это стратег?» – говорил президенту Пуанкаре Поль Думер. Клемансо выражался гораздо сильнее – он в те дни был в состоянии постоянного бешенства.
Пошли на компромисс... Для защиты Парижа была создана новая (шестая) армия, но вошли в нее преимущественно запасные войска, в боеспособность которых сам Галлиени верил плохо. Субординация этой армии была сложная: командовал ею генерал Монури, высшее руководство было возложено на парижского главнокомандующего, а сам он, естественно, был подчинен Жоффру. Была здесь и небольшая личная драма: Жоффр когда-то служил под начальством Галлиени (полковник Мейер рассказывает, что при телефонных обращениях к верховному главнокомандующему Галлиени никогда не называл его «мой генерал», как был бы обязан; он говорил: «Алло! Это вы, Жоффр?..»).
Как это ни странно, германскому штабу долго не было ничего известно о парижском сюрпризе. Читая в военно-исторических трудах, что генерал фон Клук не подозревал о существовании шестой французской армии, мы, профаны, недоумеваем: отчего же генерал фон Клук не подозревал о существовании шестой французской армии? Да у него не было воздушной разведки, отвечают защитники генерала. Отчего же у него не было воздушной разведки? Все мы, вдобавок, очень много слышали об изумительной постановке шпионского дела у немцев. Из опубликованных недавно трудов мы знаем, что секретные агенты сообщали германскому командованию о любовных романах некоторых государственных деятелей союзного лагеря. Это, вероятно, также могло пригодиться. Но когда мы видим, что в сводке, поданной 2 сентября генералу Мольтке германской разведкой, в графе «французские вооруженные силы в Париже» стоит вопросительный знак (смутно предполагалось, что какие-то запасные части там должны быть), мы, естественно, спрашиваем: стоило ли тратить десятки миллионов на шпионаж, если в главном центре этого шпионажа, в столице Франции, можно было тайно от немцев собрать 150-тысячную армию, которая и нанесла германским войскам тяжелый, быть может, решающий удар?
Узнав, что армия Клука свернула по направлению на юго-восток, Галлиени, по словам очевидцев, сказал: «Я не смею этому верить! Это было бы слитком хорошо!..» В ту же минуту в его уме сверкнула мысль, о которой с 1914 года написано, по меньшей мере, пятьдесят ученых трудов. Относящиеся сюда строки в дневнике парижского главнокомандующего за этот день нельзя и теперь читать без волнения: «Если первая германская армия движется к юго-востоку, то она тем самым открывает свой фланг для удара парижских войск. Думаю ударить по ней, несмотря на риск этой операции, несмотря на директивы верховного главнокомандующего...» Не надо быть военным для того, чтобы оценить эти несколько слов: как никак, с ними связано спасение Парижа, Европы, быть может, цивилизации. Больной, замученный старик, по ночам бредивший какими-то маневрами, в этот памятный день превзошел сам себя. Была ли его мысль необыкновенной с. точки зрения стратегического искусства, должны были бы решить военные люди. К сожалению, и здесь их суждения совершенно расходятся. «Это была мысль гениальная», – пишет генерал Бонналь. «Любому ребенку пришла бы в голову точно та же мысль», – пишет полковник Мейер. Вот и ссылайся на авторитеты! Все же приведу мнение Клука. Германский генерал говорил, что и по правилам военной науки, и по требованиям военного регламента парижский главнокомандующий не имел никакого права бросать свой гарнизон в атаку на проходящую мимо крепости неприятельскую армию. «Во всем мире только один генерал мог на это решиться, и, на мое несчастье, это был Галлиени».
Затем произошел разговор по телефону между Галлиени и Жоффром – та глава в истории марнского сражения, которая вызвала нескончаемый спор между сторонниками обоих генералов. По заверению «галлиенистов», весь замысел сражения принадлежит парижскому главнокомандующему. По словам «жоффристов», этот план задумал Жоффр чуть только еще не с Шарлеруа. Галлиени требовал генерального сражения, с ударом шестой армии во фланг Клуку. Жоффр находил генеральное сражение преждевременным. По-видимому, разговор был очень бурный; некоторые его подробности неизвестны и по сей день. По словам одного военного писателя, Галлиени грозил, что своей властью бросит шестую армию против врага, не считаясь с запрещением верховного главнокомандующего. Жоффр подумал, взвесил шансы на успех и уступил: он был не только хороший генерал, но и честный человек. Спасение Франции было важнее личных соображений.
5 сентября в Бар-сюр-Об, в доме, где за сто лет до того жил император Александр I, состоялся военный совет, в конце которого Жоффр произнес историческую фразу: «Господа, сразимся на Марне». Впрочем, один из французских историков утверждает, что не было ни совета в Бар-сюр-Об, ни исторической фразы, – ничего такого Жоффр никогда не говорил, все это будто бы выдумал другой французский историк. Но это не так существенно. Париж был спасен.
Было бы в высшей степени несправедливо умалять заслугу генералов, руководивших марнским сражением. Они себя не щадили, – трудно сомневаться в том, что Галлиени преждевременно свело в могилу напряжение душевных, умственных, физических сил, которого от него потребовали события 1914 года. О военной его заслуге пусть военные и судят, но человеческий подвиг Галлиени сомнений вызывать не может. Кронпринц, наверное, ошибается, дебютируя в столь неожиданной для него роли богоборца.
То, что было дальше, всем известно. Французы часто говорят о «чуде на Марне». Выражение удачное, но точнее было бы говорить во множественном числе: сражение состояло из миллиона чудес. Очень велика была доля случайности во всем этом деле. Первым чудом было то, что Клук и Бюлов свернули с прямой дороги на Париж – защищать столицу было невозможно, по признанию самого Галлиени. Французский кавалерийский разъезд убивает германского офицера, везущего план верховного командования, этот план становится тотчас известным французскому штабу – второе чудо. За несколько дней до того, в порядке импровизации, под давлением политических доводов, чуть ли не вопреки воле верховного главнокомандующего создается шестая французская армия. Об этой армии Клук никаких сведений не получает. На пост парижского главнокомандующего за неделю до решительного дня назначается единственный человек, способный пойти на меру беспредельный важности, которой не сочувствовал Жоффр, – да, все это случай или, если угодно, чудо.
В дальнейшем элемент случайности все нарастает. Героизм французской армии, дух ее – это совершенно бесспорно. Но дух был высок и у немцев – они во сне бредили взятием Парижа (есть тысячи свидетельств в письмах, в дневниках отдельных германских солдат и офицеров). Очень трудно нам отделаться от мысли: победили, к счастью, французы, но могли победить и немцы. И невольно вспоминаются приведенные выше слова Мольтке: никому не известно, какова будет европейская война... Как окажется возможным руководить многомиллионными человеческими массами, я не знаю. Думаю, что не знает этого и решительно никто.