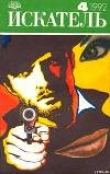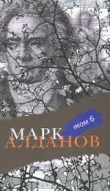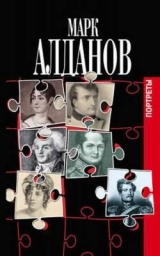
Текст книги "Исторические портреты"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 62 страниц)
VI
Как ни трудно этому поверить, Новосильцев был убежден, что выполнил свою миссию «самым чудным образом» (письмо к Чарторийскому от 8 января 1805 года). Трудно сказать с уверенностью, разделяли ли его удовлетворение император Александр и члены Негласного комитета. Впоследствии, через много лет, князь Чарторийский весьма резко отзывался о лондонской работе Новосильцева: он не выполнил своего задания, он не отстоял новых идей в споре с британским правительством, он даже не спорил о них с Питтом, а что-то «едва пробормотал». Но это Чарторийский писал на склоне дней. В 1805 году он говорил совершенно иное. «Трудно было или, лучше сказать, невозможно было лучше исполнить данное вам поручение», – писал он Новосильцеву 4 февраля.
Между тем, повторяю, и Новосильцев и Чарторийский были бесспорно умные и идейные люди. Их слабость заключалась в том, что каждый из них верил не в одну, а в две идеи, не совсем между собой совмещавшиеся. В упрощенном и огрубленном виде я это выше передал словами: «Мир дело хорошее, но отчего бы при случае и не повоевать?» У Питта в 1804 году была только одна идея – война с Францией, – что и создавало его огромное преимущество над Новосильцевым.
У Новосильцева в Лондоне процесс перемены настроения шел быстро. У царя в Петербурге он медленнее, однако шел. Разумеется, менялась и политическая обстановка. По счастливому выражению Гюго, Наполеон опьянил историю, – в 1804—1805 годах она действительно шаталась как пьяная. В союзе с Англией и Австрией война против Франции казалась императору Александру беспроигрышным делом. Поводы для войны появлялись каждый день. Правда, они были налицо в достаточном количестве и прежде, – в поводах, слава Богу, никогда недостатка не бывает.
Как бы то ни было, из писем Чарторийского к Новосильцеву ясно видна перемена петербургских настроений. Влияние Негласного комитета ослабело, очень усилилось давление со стороны «старорусской партии». Чарторийский жалуется на происки Державина, которого называет «прощелыгой», – знаменитый поэт в политике не любил возвышенных замыслов. Скажем большевистским языком: «Кобленцская гидра подняла голову».
Собственно, Кобленца в ту пору уже не было. Он давно расслоился. «Лига дураков и фанатиков», как писал в свое время о подлинном Кобленце эмигрант Малле де Пан, численно очень сократилась. «Убежденные в том, что без умных людей революции не бывает, они надеются ее задушить с помощью дураков» – эти злые слова эмигранта, сказанные в 1796 году, восемью годами позднее уже стали анахронизмом. Французская эмиграция больше на дураков не ставила, да и в ней «дураки и фанатики» не преобладали. Современный историк (далеко не правый по взглядам) пишет, что четыре наиболее своеобразные книги конца XVIII и начала XIX века были написаны французскими эмигрантами. Думаю, что эта оценка преувеличенно лестна. Однако не следует отождествлять всю эмиграцию с «Кобленцем».
Говорю это, разумеется, отнюдь не в качестве эмигранта. Злополучное сравнение нынешней русской эмиграции с французской причинило нам немало вреда. По существу, это совершенно различные явления, почти во всем, начиная с численного состава. Но если признать это основное положение, то нет никакой надобности всячески с ужасом открещиваться от сходства в малом и второстепенном, в частности, в тех случаях, когда это сходство имеет жутко комический характер. Огорчит ли «Третью Россию» то обстоятельство, что историческая литература о французской эмиграции знает выражение «Третья Франция»? Может быть, и не всем евразийцам известно, что у некоторых французских эмигрантов, особенно разочаровавшихся в западном мире, появилась «тяга на восток»? Сам Жозеф де Местр с восторгом восхвалял Азию, «землю энтузиазма». Он даже говорил об «азиатских кузенах», хоть и не состоял ни в каком родстве с Чингисханом.
На долю французских эмигрантов везде выпало немало горечи и обид. В России, думаю, обид было меньше, чем в других странах. Однако почти в то самое время, когда возникла мысль о поездке Новосильцева в Лондон, глава низвергнутой династии, будущий король Людовик XVIII, просил у императора Александра I разрешения устроить семейно-политический съезд Бурбонов в Вильне и получил решительный отказ, составленный в самых сухих выражениях: «Не скрою от вас, – писал император, – что сделанное мною вам и повторяемое ныне предложение поселиться в моем государстве, если пребывание ваше в других странах не может длиться, имело единственной целью предоставить вам мирное и спокойное убежище, – причем не было бы речи о действиях, подобных тем, которые вы намерены предпринять». Это напоминает позицию французских радикалов в отношении русских эмигрантов. Да, собственно, тон ответа отчасти и объяснялся радикализмом Александра I и еще его личной антипатией к Бурбонам. Некоторое недоверие к политической деятельности эмигрантов, «как таковых», у царя было (замечу, кстати, что оно слегка чувствуется и в трудах великого князя Николая Михайловича). Но, как к людям, к ним (за исключением Бурбонов) Александр Павлович относился благожелательно и на свою службу принимал их охотно. Достаточно напомнить, что герцогу Ришелье было предоставлено управление чуть ли не всей Южной Россией, – для сравнения (с разными поправками на время, обычаи и т.д.) представим себе, что русский эмигрант был бы теперь назначен вице-королем Индии либо генерал-губернатором Алжира! В петербургском обществе французские эмигранты имели и преданных друзей, и настоящих ненавистников, – граф Ростопчин, например, писал о них почти в таком же тоне, в каком коммунистическая «Humanité» пишет о «белобандитах».
Влияние французской эмиграции в Петербурге отчасти объяснялось родственными связями. Сен-Прист был женат на Голицыной, Ланжерон на Трубецкой, Кенсонна на Одоевской, Моден на Салтыковой, Брюж на Головкиной. Другой причиной было то, что в России, как во всех странах Европы, эмигрантский план реставрации Бурбонов встречал деятельных друзей. Были и еще причины. Вдобавок французская эмиграция, как Питт, не имела раздвоенного сознания. Ставила она в разное время на разные карты; но одна ее ставка, ставка на войну, оставалась неизменной, и ее французская эмиграция выиграла. Не все ведь тонет и при потопе.
«Кобленцская гидра», ропот русской партии, воинственное настроение молодежи, начинавшееся разочарование царя в идеях Негласного комитета, личное его раздражение против Наполеона, захват французами Генуи – все это сплелось: поездка Новосильцева в Париж не состоялась. Она, разумеется, ничего и не изменила бы. Разговоры о Лиге Наций кончились, начиналась европейская война. Оставалось только заключить договор о союзе между Россией и Англией. Эту задачу Новосильцев выполнил прекрасно: тут он знал твердо, чего хочет, и при спорах победителем чаще оказывался он, чем Питт. Союз, разумеется, был объявлен «вечным». Такова традиция.
В договоре (четвертый параграф особой, секретной статьи) остался и последний письменный след Лиги Наций 1804 года. В очень туманной форме там говорится, что в Европе следует установить «федеративную систему, обеспечивающую независимость слабых государств» и т.д. Это явно никого ни к чему не обязывало – и не обязало. Однако нам теперь не приходится проявлять особую строгость. Не приходится и пространно излагать смысл исторического урока 1804 года. Замышлялась Лига Наций с всеобщим миром и с «охранением народной правоты». Вышла европейская война, продолжавшаяся десять лет. Я не утверждаю: «Так было, так будет». Но все же трудно отказать в некоторой поучительности этой главе из истории русского либерализма.
Генерал Пишегрю против Наполеона
В серых запыленных коробках лежат папки с делами. Исписанная бумага покрыта пометками, штемпелями, печатями. Дата прибытия, число отправки, иногда резолюция властей на полях. Обыкновенные «входящие» и «исходящие», – что с того, что они как бы писаны кровью? С некоторыми из этих бумаг серии F-7 так или иначе связаны убийства, расстрелы, гильотина, пытка. Это полицейский архив времен Французской революции. Трудно поработать здесь месяц-другой – и не стать на всю жизнь мизантропом.
Некоторые «досье» в этом архиве терпеливо составлялись десятилетиями. Но с первого взгляда на документ по обращению и приветствию сразу видишь, в какую эпоху попал. В серии есть бумаги, оставшиеся еще от дореволюционного строя. Тогда выражались цветисто: «Остаюсь, господин маркиз, совершенно преданным и послушным вашим слугой...» Через несколько лет та же рука пишет: «Привет и братство» (революционные ухари писали сокращенно: «Sal. et frat.»). Еще десятилетие: «Его Величеству Наполеону Великому...» Дальше читать не надо, будет опять: «Et je suis, Monsieur le Marquis...» Все кончилось нашей эпохой «дорогой (или «уважаемый») господин» – и слава Богу. Но документы нашего времени здесь никому не показываются{89}89
Номер F-7 относится ко всему архиву французской полиции. К документам последнего полустолетия исследователи совершенно не допускаются. Архив 1830—1870 гг. почти целиком погиб во время парижского пожара. Зато от времен революции уцелели сотни тысяч документов.
[Закрыть].
Много сохранилось от революционной эпохи и шифрованных документов. Есть также бумаги, побуревшие от огня. Люди, которые их писали, имели основания скрывать свои сообщения. И другие люди имели основания этими сообщениями чрезвычайно интересоваться. Одни писали невидимыми симпатическими чернилами, другие проявляли перехваченные письма огнем. Попалась мне папка (6146, № 7), которая вся состоит из таких документов. К ней и прикоснуться невозможно: обожженная бумага так и рассыпается в руках.
Коробки, связанные с настоящим рассказом (6144—6, 6271—6 и 6391—6405), относятся к очень мрачной кровавой драме. В ней некоторые страницы изучены историками превосходно, другие почти вовсе не изучены. Психологическое же ее содержание нам гораздо понятнее, чем современным французам. В нас она рождает весьма близкие сопоставления. Предоставляя их читателям, я по возможности кратко расскажу самую трагическую жизнь революционного времени.
I
Родители Шарля Пишегрю, как и все его предки, были небогатые крестьяне. При чьей-то поддержке его удалось определить в среднюю школу. Он обнаружил там большие способности, особенно к математическим наукам, и, окончив курс, получил место репетитора в Бриеннском военном училище, где в числе его учеников был, правда очень недолго, Наполеон Бонапарт. Определенного призвания молодой Пишегрю в себе не чувствовал. Педагогическая деятельность его не соблазняла; хотел он было стать монахом, но не стал и неожиданно для своих близких двадцати лет от роду пошел в солдаты. Пишегрю поступил в артиллерию и прослужил нижним чином десять лет. Начальство очень его отличало, он храбро сражался в Америке с англичанами, но выйти в офицеры при старом строе не мог, не будучи дворянином. Революция застала Пишегрю сержантом и очень изменила его карьеру.
Он стал делать то, что делали в ту пору все: выступал на митингах, говорил горячие речи. На него обратили внимание. Начиналась революционная война. Батальон безансонских добровольцев избрал Пишегрю своим командиром. Он мог наконец себя показать: через два года сержант стал дивизионным генералом. Ему было поручено командование армией, затем группой армий. Пишегрю шел от победы к победе. С революционным правительством он ладил недурно. Сам Робеспьер оценил его «цивизм», Сен-Жюст очень его любил. Но и с людьми, которые отправили Робеспьера и Сен-Жюста на эшафот, у Пишегрю тоже установились добрые отношения. Не слишком ненавидели его и в противоположном, роялистском лагере. До нас дошли, кажется, только два указания (и то не очень злобные) на «зверства», якобы совершенные Пишегрю. Из этого обстоятельства почти безошибочно можно сделать вывод, что никаких зверств он не совершал: в противном случае, при полемических нравах гражданской войны, обличения встречались бы десятками. Есть и прямые указания (даже со стороны врагов) на то, что Пишегрю вел себя в походах как культурный и порядочный человек. Ему, например, предлагали не брать в плен англичан, – он отказался последовать этому предложению. У населения завоеванных им земель Пишегрю тоже оставил добрую славу.
Сен-Жюст, который предписывал революционным генералам «спать, не раздеваясь», и сам для примера питался на фронте сухарями, очень ценил спартанский образ жизни Пишегрю. Эта оценка, по-видимому, не делает чести проницательности революционного комиссара. У нас есть свидетельства о том, что Пишегрю не так уж блистал спартанскими добродетелями. Один из его сослуживцев, генерал Тибо, говорит с восторгом, что Пишегрю выпивал за столом «без бравады» от пятнадцати до восемнадцати бутылок вина (может, все-таки стаканов?), – насчет того, сколько он мог выпить «с бравадой», остается только делать предположения. Очень любил генерал и женщин. О многих дамах того времени в разных мемуарах упоминается: «была, по слухам, любовницей Пишегрю». Один исследователь откопал даже газетное объявление, при помощи которого главнокомандующий подыскивал себе подруг «в возрасте от пятнадцати до двадцати лет». Генерал Сен-Сир упоминает «постыдные выходки Пишегрю». Сам Пишегрю как-то в ответ на вопрос, для чего люди воюют, философски сказал: «Для удовольствий плутовства».
Спартанцем Пишегрю, конечно, не был, однако отнюдь не должно представлять себе его буйным кутилой, весельчаком или пьяницей. Это был человек сдержанный, холодный и замкнутый. Отличаясь природным умом, он выделялся среди своих сослуживцев и образованием. Он много читал, в особенности, конечно, древних классиков: это тогда было так же обязательно, как, например, теперь читать Пруста или у нас когда-то «Что делать?».
О военных талантах Пишегрю некоторые из его сверстников (и конкурентов) отзывались довольно пренебрежительно. Но если бы о выдающихся людях судить по тому, что о них говорили их сверстники и конкуренты!.. Напротив, Наполеон, которого очень трудно заподозрить в симпатиях к Пишегрю, ставил его чрезвычайно высоко: по-видимому, как тактик, он был предшественником Бонапарта. Очень ценили Пишегрю и в английской, и в русской, и в австрийской армиях. Не подлежит сомнению, что он был человек исключительно храбрый, – храбрость свою он доказал всей жизнью. Добавлю, что Пишегрю был атлетического телосложения и обладал огромной физической силой; это он также доказал в свой роковой день.
На вершины славы подняла Пишегрю кампания 1794– 1795 годов. В течение нескольких месяцев он завоевал Голландию, занял Утрехт и Амстердам и – что всего эффектнее – завладел голландским флотом: в этот год стояла очень холодная зима, реки и каналы замерзли, замерз и залив Зёйдерзее, в котором застряла голландская эскадра, собиравшаяся перед приближением неприятеля уйти в Англию. По приказу Пишегрю высланная вперед кавалерийская дивизия в конном строю по льду атаковала неприятельскую эскадру и заставила ее сдаться. Это, вероятно, единственный случай в военной истории, когда флот был взят в плен кавалерийской атакой. Пишегрю стал популярнейшим из французских генералов. Конвент осыпал похвалами победоносного полководца. Называли его и героем, и римлянином, и спасителем отечества.
II
В ту пору британское правительство уже плохо верило в возможность военной победы над Францией. В борьбе с революционными войсками союзная коалиция терпела неудачу за неудачей. Французский народ, правда, тяготился войной. Но не менее тяготился ею и народ английский. В Лондоне шумные демонстрации шли под лозунгом «Долой войну! Долой Питта!..» Британский премьер не мог показаться на улицу. В октябре 1795 года при открытии парламента был освистан толпою сам король – случай в Англии весьма необыкновенный. Питт все чаще подумывал о соглашении с «более благоразумной частью разбойников». И ему, как и его товарищам по кабинету, все яснее становилась необходимость той тактики, которую старичок коллежский советник в «Капитанской дочке» выражает словами: «Не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно, ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно».
Это была, впрочем, издавна любимая тактика Питта. Первый министр Великобритании верил в очень немногое. Но в деньги он верил твердо. Соответственно влияли на Питта и некоторые французские эмигранты, часто предлагавшие подкупить то или другое лицо. Один из эмигрантов позднее предлагал подкупить самого Бонапарта – и притом по сходной цене: всего за 240 ливров. И британское правительство, и будущий король Людовик XVIII, и командующий армией эмигрантов принц Конде очень внимательно относились к такой информации. Для них весною 1795 года оказалось необыкновенно приятным сюрпризом сделанное им агентами в глубокой тайне поразительное сообщение о том, что главнокомандующий рейнской и мозельской армиями, завоеватель Голландии, знаменитый генерал Пишегрю очень недоволен революцией и что с ним можно поговорить. Сообщение это было верно.
III
Современники и историки не раз задавались вопросом, какие именно причины побудили генерала Пишегрю вступить в тайные сношения с Бурбонами, с британским правительством и с союзной коалицией. Указывалось, например, на то, что революционные власти как раз обошли генерала в деле, связанном со служебным производством: вместо него на должность инспектора артиллерии было назначено другое лицо. Сен-Сир утверждает, что главнокомандующий рейнской армией просто продался за деньги, нужные ему для развратной жизни. Историки-роялисты, напротив, предполагали в Пишегрю искреннюю симпатию к старому строю и к принцу Конде, который когда-то лично произвел его в сержанты. Все это довольно неправдоподобно. При старом строе Пишегрю выслужился из рядовых в сержанты за десять лет. Революция в два года сделала его из сержантов главнокомандующим. При таких условиях очень трудно объяснить переход честолюбивого полководца на сторону Бурбонов обидой за недостаток внимания со стороны революционных властей или особенной его благодарностью принцу Конде за пожалование сержантского чина. Не так просто объяснить действия генерала и корыстью. Пишегрю нельзя назвать бесчестным человеком. Не был он и жаден к деньгам, да и, наконец, в его положении при столь распространенном тогда взяточничестве и казнокрадстве он, конечно, имел более простые и безопасные способы наживы, чем получение денег от англичан. Мы знаем также, что позднее Пишегрю отказался от миллиона ливров, которые британский агент просил его принять в бесконтрольное распоряжение «для дела»{90}90
В момент ареста у него ничего не было, кроме долга в 600 франков.
[Закрыть]. Мне кажется, главнокомандующий был просто уверен в непрочности революционного строя. Сам он был сторонником конституционной монархии.
Агент принца Конде Фош-Борель в своих воспоминаниях подробно описывает, как он в августе 1795 года явился к Пишегрю с первыми предложениями Бурбонов. Генерал находился в замке Блотцгейм у одной из своих любовниц, госпожи Соломон. Фош-Борель ухитрился проникнуть к нему под видом поставщика шампанского. Дело было весьма рискованное: легко было попасть и под расстрел. Для начала Фош-Борель, волнуясь, понес ерунду то о шампанском, то о какой-то неизданной рукописи Жан-Жака Руссо, с которой он хотел бы познакомить гражданина генерала. Пишегрю слушал с благодушным недоумением. «Рукопись Руссо? Я не знал, что есть еще неизданные рукописи Руссо... Надо посмотреть... Я Руссо принимаю не целиком...» Фош-Борель наконец собрался с духом и сообщил, что, кроме шампанского и рукописи Руссо, у него есть еще важное поручение к гражданину генералу... «От кого?» – «От принца Конде!!!»
Пишегрю не отправил Фощ-Бореля на расстрел. Напротив, он очень внимательно его выслушал. Награды, выработанные принцем, были соблазнительны. Конде именем короля обещал генералу чин маршала Франции, миллион наличными деньгами, сто тысяч годовой ренты и т.д. За это Пишегрю должен был провозгласить монархию, заключить перемирие с австрийцами, сдать им в залог важную крепость и двинуть армию на Париж. «И только-то?» – спросил в первую секунду главнокомандующий. Однако выражение иронии с его стороны этим и ограничилось. Через десять дней в руках принца Конде была краткая собственноручная записка Пишегрю следующего содержания: «Z получил бумаги X и рассмотрит их, чтобы использовать при подходящих обстоятельствах. Он предуведомит об этом X».
Я видел в замке Шантильи{91}91
Род принцев Конде, как известно, угас сто лет тому назад: последний представитель рода, отец расстрелянного герцога Энгиенского, повесился (или был повешен) в очень загадочных условиях в 1830 году. После его смерти родовой замок Шантильи со всеми его богатствами перешел по наследству к герцогу Омальскому, сыну Людовика Филиппа и внуку Филиппа Эгалите. Волей судеб имущество главного защитника монархии досталось внуку цареубийцы! В замке этом находятся архивы принца Конде, командовавшего эмигрантской армией. Хранитель замка, г. Макон, любезно разрешил мне ознакомиться с архивом. Бумаги, относящиеся к делу Пишегрю, переплетены в два толстых тома (33 и 34)
[Закрыть] подлинник этой записки, сыгравшей столь страшную роль в жизни Шарля Пишегрю. На неровно сложенном листе тонкой голубоватой бумаги нервной торопливой рукой набросаны три строчки... В дальнейшем главнокомандующий переписывался с Конде при помощи шифрованных записок. В продолжительной переписке, связанной с этим делом, Пишегрю называется «Батист» или «Зет», Конде – «Икс» или «Буржуа», Бонапарт – «Элеонора». Деньги именуются «патриотизмом» (в чем можно усмотреть и эпиграмму).
Требования принца казались неосуществимыми Пишегрю. Легко было сказать – «повести армию на Париж». Еще надо было знать, пойдет ли на Париж армия. Пишегрю все давал Бурбонам советы умеренности и благоразумия, которые, кажется, чрезвычайно их раздражали. Генерал постоянно высказывался в защиту конституционных принципов и ждал «эволюции общественного мнения». В связи с этими настроениями он подумывал и о том, чтобы уйти от военной деятельности: он хотел попасть в Совет Пятисот и использовать свою популярность для более или менее мирного, почти «парламентского» свержения Директории. Впрочем, Пишегрю, по-видимому, сам не знал, что следует делать. Положение его как главнокомандующего было весьма нелепое. Он должен был одинаково опасаться и побед и поражений: победа укрепила бы положение правительства, поражение подорвало бы его собственную популярность. Бездеятельность Пишегрю вызывала все большее неудовольствие Директории. Он был, наконец, с почетом и комплиментами отставлен от должности главнокомандующего. Сношения его с Бурбонами продолжались. Вскоре Пишегрю действительно прошел в Совет Пятисот, который почти единогласно избрал его своим председателем. Вокруг популярного генерала сгруппировалась правая оппозиция правительству. Левые члены Директории во главе с Баррасом ждали случая для того, чтобы свернуть ему шею. Впрочем, в этой темной игре все карты были спутаны. Личные антипатии, личная ненависть, воля случая, безыдейная борьба за власть были сильнее политических расхождений.