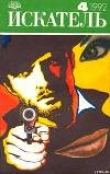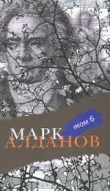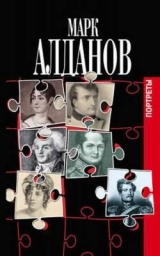
Текст книги "Исторические портреты"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 62 страниц)
VI
То, что последовало за покушением Фиески, на наивном языке прошлого века называлось «вакханалией деспотического произвола». Вакханалия заключалась в аресте без постановления следственных властей разных лиц, казавшихся подозрительными полиции. В папках Национального архива мне попались неизданные письма Распайя, – его тоже арестовали во время вакханалии. Трудно теперь читать без усмешки эти гневные письма. Распай протестовал против своего ареста, требовал предания суду министров, обличал палату, которая терпит столь вопиющие дела, грозил ей судом потомства. Арестовали его не без основания, хоть он и не имел отношения к террористическому акту, унесшему восемнадцать жертв. Письма Распайя лежат в пыльной папке архива, но негодование передовых людей того времени, вызванное «вакханалией 1835 года», перешло и в книги иных историков.
Коммунист Николаев убивает коммуниста Кирова. Большевики немедленно расстреливают сотню людей, не имевших ничего общего с коммунизмом, в глаза не видавших Кирова, отроду не слыхавших о Николаеве. Что ж, кое-где и теперь пишутся статьи о «вакханалии деспотизма»; иногда – довольно редко – пишут их и те люди, которые могут считаться идейными преемниками Распайя. Но рядом печатаются передовые с всевозможными комплиментами Литвинову, – он так хорошо говорил в Женеве о совершенной недопустимости террора. Нет, лучше не сопоставлять вакханалии 1835 и 1935 годов.
Плохи были бы, разумеется, социологи, если б не могли на это ответить. Знаем: сравнение не довод, время теперь критическое, мерки у него особые.
Королевские министры и ссылались в оправдание своей вакханалии, то есть ареста сорока или пятидесяти человек, которых через несколько дней или недель выпустили на свободу. Конечно, надо верить в прогресс. Но это трудно.
Следствие велось превосходно во всех отношениях. Стоит прочесть протоколы бесчисленных допросов, доклад, представленный суду Порталисом, отчет о заседаниях суда пэров, чтобы убедиться в том, на какой высоте стояло во Франции правосудие. Подсудимых допрашивали чрезвычайно вежливо и корректно; доклад выделил и подчеркнул все смягчающие обстоятельства.
Жильцы дома №50 по бульвару Тампль дали полиции мало указаний. Выяснилось, однако, несколько важных обстоятельств. К мосье Жерару нередко приходил пожилой человек, называвший себя его дядей, – точных примет его, впрочем, никто из свидетелей указать не мог: одни говорили, что ему лет сорок пять; другие утверждали: лет шестьдесят. Кроме того, посещала Жерара кривая женщина, – ее знали в лицо почти все жильцы дома; консьержка так и называла ее «подружка господина Жерара». И, наконец, дочь консьержки видела, что утром 28 июля мосье Жерар вынес из дому какой-то сундук.
По этим данным полиция очень быстро выяснила дело. Сундук был тяжелый. Значит, его либо перевозил извозчик, либо носильщик нес на плечах. Власти начали систематически опрашивать всех извозчиков и носильщиков Парижа. На четвертый день носильщик Дюброме навел на истинный след: «Да, относил в этот день сундук». – «Куда?» – «Не знаю, шел за клиентом, помню только, что это было недалеко от Ратуши». – «Дом узнаете?» – «Может, и узнаю...» Два дня и две ночи следователь и полицейские обходили с Дюброме улицы в районе ратуши; несколько раз замученный носильщик давал им неверные сведения: «Вот, кажется, это было здесь». Оказывалось, нет, не здесь. Наконец на небольшой улице Long-Pont Дюброме остановился перед №11: «Здесь, здесь, уж теперь твердо помню, что здесь!..» Полиция поднялась по лестнице. В четвертом этаже жила кривая женщина. Это была Нина Лассав, любовница мосье Жерара.
Сама она никакого отношения к делу не имела. Но она знала «дядю». Дядей был главный виновник дела, его инициатор и вдохновитель, поклонник Робеспьера, седой старик Пьер Море.
VII
«Все партии обвиняют одна другую в преступлении Жерара», – писал в ту пору авторитетный журнал («Revue des Deux Mondes»). Республиканцы подкидывали Фиески монархистам, монархисты – бонапартистам. Это было лишь удобным полемическим приемом. Море формально к республиканской партии не принадлежал. Что до Фиески, то из его показаний на следствии и на суде можно было сделать какие угодно выводы. Он выражал сочувствие республиканским идеям, с благоговением говорил о Наполеоне, признавал много хорошего у монархистов, рассыпался в комплиментах Людовику Филиппу; покушение же произвел ради славы, да еще потому, что он человек слова: обещал Море сделать это дело, значит, не мог не сделать, неправда ли? Что в самом деле подумали бы о нем люди, если б он обещания не сдержал?
Все это, думаю, было искренно. Едва ли Фиески рассчитывал спасти себе жизнь любезностями по адресу короля. По-видимому, главная цель его заключалась в том, чтобы перейти в историю в возможно более шикарном виде.
Правители города Эфеса, чтобы наказать преступника, который сжег, ради бессмертия, их великолепный храм, запретили произносить его имя. Цели они, как известно, не достигли: и о них, и об Эфесе, и о храме Дианы Эфесской мы помним, преимущественно, по геростратовскому анекдоту. Но мысль их была правильная: необычайная реклама преступникам, конечно, одно из бедствий современного мира. К Фиески эфесский метод кары применен не был: трудно себе и представить, какой шум производился вокруг его имени.
Без преувеличения можно сказать, что лишь только улеглось негодование, вызванное вначале делом адской машины, мосье Жерар стал любимцем публики. Его соучастник Море вел себя и на следствии, и на суде много достойнее, чем он. Но Море был якобинец, робеспьерист – этот образ парижанам надоел со времен революции: еще жили люди, которые лично знали Робеспьера. В Фиески, напротив, было что-то трагикомическое, почти клоунское, смешной французский язык это начало как бы подчеркивал. Барон Пакье беседовал с ним запросто, почти весело, почти дружески, – совершенно не так, как теперь судьи и следователи говорят с убийцами. Газеты посылали к мосье Жерару интервьюеров, художники просили разрешения написать его портрет. Он никому не отказывал, принимая как должное все знаки внимания. Обращение с террористом судебных, полицейских, тюремных властей тоже достаточно характерно для той идиллической эпохи.
В тюрьме Фиески беспрепятственно читал газеты, чрезвычайно интересуясь тем, что о нем пишут. Слава опьянила его. Геростратово начало в нем все росло. Теперь он прямо работал на галерку. Всякий недостаток внимания Фиески принимал за личное оскорбление. В зале суда в дни его процесса был весь Париж. На первое заседание приехал 82-летний князь Талейран, в ту пору, вероятно, самый знаменитый человек в мире. На второе заседание Талейран не явился. Фиески, видимо, очень оскорбился. Однако он тотчас нашел объяснение, которым на суде и поделился с публикой: разумеется, князю слишком тяжело его слушать, «ведь мой голос до полной иллюзии напоминает голос Наполеона». Галерка веселилась необычайно.
Все же идиллия имела границы: все прекрасно понимали, что мосье Жерар будет казнен.
VIII
Фиески и его сообщники были преданы суду палаты пэров. Защищали их известные адвокаты; начинал свою карьеру знаменитый Шэ д'Эстанж. Защитники мосье Жерара доказывали, что он человек ненормальный, – дальше в подобных случаях изобретательность не идет. В известном смысле это было весьма близко к истине, но эта защита приводила Фиески в ярость, так же как нападки одного из защитников на июльскую монархию: он кричал на адвокатов, прерывал их ораторский полет в самых выигрышных местах, «призывал их к порядку», к большому восторгу галерки. «Бедный Фиески, как мне жаль тебя!» – воскликнул он о себе на 16-м заседании процесса. По-видимому, проломленный череп, вскрытый шатающийся мозг окончательно помрачили его умственные способности: он порою нес совершенную ерунду.
Людовику Филиппу очень хотелось помиловать Фиески. Из Тюильрийского дворца был сделан ясный намек, что если вдова маршала Мортье, самого видного из людей, погибших 28 июля, обратится к королю с просьбой о помиловании убийцы ее мужа, то отказа не будет. Герцогиня Тревизская с такой просьбой к Людовику Филиппу не обратилась. Король ограничился тем, что заменил гильотиной la peine des parricides{132}132
«Наказание за убийство государя либо отца» – у таких преступников обрубали кисть правой руки, затем заживо колесовали, сжигали останки, а пепел развеивали по ветру.
[Закрыть], к которой почему-то приговорили Фиески пэры. Впрочем, скидка была невелика: отцеубийцам полагалось идти к той же гильотине босиком, в белой рубахе с черным покрывалом на голове. К смерти были присуждены также Море и Пепен. Буаро отделался 20 годами каторжных работ.
В последний свой день Фиески принял священника. «Слава Богу, я не язычник!» – сказал он на суде. Написал письмо защитнику, не то ироническое, не то благодарственное. Художники с ним не расставались почти до последней минуты: он сверял портреты, обсуждал, какой лучше, написал даже об этом аттестат. Самый страшный портрет его написан Браскасса – посмертно: «Голова Фиески после казни». В нежных выражениях мосье Жерар отозвался о своей несчастной кривой любовнице{133}133
После казни Нина Лассав была приглашена кассиршей в большую кофейню на площади Биржи, и тотчас туда повалили люди – поглядеть на любовницу Фиески.
[Закрыть]: «Люблю ее больше жизни!»
Дальше все было по вековому ритуалу: «Фиески, мужайтесь, час искупления настал... Папиросу?.. Рюмку рома?» Казнили их у заставы Сен-Жак. Все они встретили смерть бесстрашно. Тоже по традиции окна домов на месте казни сдавались по высокой цене. Герцог Брауншвейгский заплатил за окно много больше денег, чем когда-то выручил Фиески от продажи вола, за которую он поплатился десятью годами тюрьмы.
IX
Одни террористические акты достигают политической цели, поставленной себе террористом; другие достигают цели как раз обратной (золотая середина редка). Покушение Фиески принадлежит, бесспорно, ко второму разряду. Правительство провело так называемые сентябрьские законы – о печати, об оскорблении государя, о порядке судопроизводства в политических делах. Июльская монархия упрочилась. По случайности, стал проходить в то время и очередной экономический кризис. Рента начала повышаться. Было ли это в связи с событиями 1835 года, трудно сказать. Политическая экономия – одна из мистических наук. Посошков утверждал, что курс денег зависит только от воли государя: «Прикажет копейке стать гривной, станет гривной».
Популярность Луи Филиппа после покушения 28 июля возросла, – он проявил совершенное бесстрашие. Но, быть может, историки преувеличили значение увеличившейся популярности короля. Народная любовь к нему держалась недолго. Строй июльской монархии был, по-видимому, обречен: другой строй обещал воплотить те же начала свободы еще полнее, а на настоящие репрессии король и его министры идти не желали или не считали возможным: тог да люди еще твердо были убеждены, что «на штыках сидеть нельзя». Начались новые финансовые скандалы: дело рошфорского арсенала, дело Кюбьера, дело министра Теста. За все отвечал, естественно, король. Этот многоопытный человек вызывал непонятное раздражение у своих современников. Мартин Лютер из всех даров Божиих особенно ценил один: «способность не нравиться многим людям». Дар не соблазнительный, хоть, быть может, в политике и необходимый.
Стендаль в одном из своих писем (к госпоже Г., от 14 марта 1836 года) пишет: «Фиески отвратителен. Это был простолюдин; но он один имел больше воли (в подлиннике: «faculté de vouloir»), чем сто шестьдесят пэров, которые справедливо его осудили... В 1300 году все итальянцы были подобны Фиески. Знаменитый Бенвенуто Челлини был Фиески...»
Сперанский и декабристы
I
А.Д. Боровков, правитель дел комитета, который вел следствие о декабристах, в своих «Автобиографических записках» говорит: «Некоторые злоумышленники показывали, что надежды их на успех основывали они на содействии членов Государственного Совета графа Мордвинова, Сперанского и Киселева, бывшего тогда начальником штаба 2-й армии, и сенатора Баранова. Изыскание об отношении этих лиц к злоумышленному обществу было произведено с такой тайною, что даже чиновники комитета не знали; я сам собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело. По точнейшем изыскании обнаружилось, что надежда эта была только выдуманною и болтовнёю для увлечения легковерных. Не думаю, чтобы об этом было известно подвергнувшимся без ведома их следствию; по крайней мере, когда я, исправляя должность статс-секретаря Государственного Совета, сблизился весьма хорошо с графом Мордвиновым и пользовался его благосклонностью, а быв председателем комитета для переделки Свода военных постановлений, часто и откровенно беседовал с графом Сперанским, они ничего мне не говорили и ничего не спрашивали о сделанном против их извете... Может быть, мятежники льстили себя надеждою на их содействие, увлекаясь свободным и резким изложением их мнений»{134}134
«Русская Старина». 1898 г., № 11, стр. 348.
[Закрыть].
То же самое в тех же почти выражениях говорит и секретное приложение к докладу Следственной комиссии{135}135
«Русский Архив», 1875 г., т. III, стр. 435.
[Закрыть]. Ни в том, ни в другом документе не указано, каким именно образом велось и пришло к своему выводу это таинственное следствие.
Преемственная связь между воззрениями декабристов (по крайней мере, Северного общества) и идеями Сперанского (его первого блестящего периода) достаточно очевидна. Разумеется, конституция Никиты Муравьева шла дальше давних конституционных проектов государственного секретаря. Между ними лежали самые бурные годы европейской истории и крушение империи Наполеона. Но, с точки зрения Николая Павловича и его приближенных, разница была невелика: декабристы были духовные дети Сперанского. Идейной связи, однако, недостаточно. Следствие упорно ищет соучастия.
Что же, собственно, показывали «некоторые злоумышленники» по вопросу о содействии, якобы оказанном им Сперанским? Надо признать, их показания (поскольку они нам известны) не давали материала для привлечения к ответственности знаменитого государственного деятеля. С некоторой определенностью высказывался Завалишин. По его словам, в самый день 14 декабря утром Корнилович предложил Сперанскому войти в состав Временного правительства. На это Сперанский будто бы ответил:
– С ума вы сошли? Разве делают такие предложения преждевременно? Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне.
Однако склад ума Сперанского, нисколько не циничный, делает такой ответ с его стороны маловероятным.
Довольно определенное свидетельство о роли, сыгранной Сперанским, оставил нам и барон Штейнгель. В том, что Сперанский намечался декабристами в состав Временного правительства, вообще сомневаться не приходится. Князь Сергей Трубецкой в письме своем к Бенкендорфу (от 26 декабря 1825 года) говорит следующее: «На бывший мне вопрос, в ком я и несчастные товарищи бедственных подвигов моих надеялись снискать помощь из особ, занимающих высшие в Правительстве места, я ответил истину, что мы не имели никаких поводов ни на кого из таких особ надеяться... Но Вашему Высокопревосходительству я обязан сказать по истине, на кого я хотя и без всяких причин метил в записке, находящейся при делах комитета; я обязан вам сказать, что я метил на Михаила Михайловича Сперанского и Александра Семеновича Мордвинова, единственно потому, что первого почитал не врагом новостей, как он многие вводил, будучи Государственным секретарем, а на второго, потому что он из известнейших особ в Государстве. О первом я старался узнать от правителя его Канцелярии Батенкова и получил только в ответ: «Нет, Батюшка, у нашего старика не выведаешь, что он думает»{136}136
Восстание декабристов, т. 1, стр. 45.
[Закрыть].
С этим совпадает и показание Рылеева: «На что сей последний (Трубецкой) возразил, что во Временное Правление надобны люди уже известные всей России, и предложил к тому Мордвинова и Сперанского. На что все согласились. Я также был с ним согласен, и с самого того времени по 14 декабря мысль сия в Северном Обществе оставалась неизменною»{137}137
Там же, стр. 176.
[Закрыть].
Здесь разногласий у декабристов нет. Но следствие, разумеется, интересуется другим вопросом. Ему необходимо выяснить, знал ли Сперанский о том, что его намечают во Временное правительство. Комиссия спрашивает упорно – показания теряют определенность. Князь Евгений Оболенский говорит положительно: «Никто из них о намерении нашем им (Мордвинову и Сперанскому) не говорил, и они о существовании Общества совершенно не знали»{138}138
Там же, стр. 232.
[Закрыть].
Однако Каховский показывает не совсем так. Ему ставится вопрос: «Вы говорили Сутгофу, что подполковник Батенков связывает общество с господином Сперанским и что общество имеет сношения с сим последним через первого. На чем основываются сии слова ваши?» Каховский отвечает: «Сутгофу, как члену общества, более еще как моему другу я мог передавать мои и подозрения; но не имея ясных доказательств, я считал бессовестным в дело столь пагубное вмешивать генерала Ермолова и господина Сперанского. От Рылеева я слышал, что генерал Ермолов знает о существовании Общества; Рылеев же говорил мне, что будто бы господин Сперанский принимает участие в обществе; но Рылеев очень часто себе противоречил, и потому я не даю много веры словам его: он один раз сказал мне, что господин Сперанский «наш». На другой же день говорит: «Он будет наш, мы на него действуем через Батенкова»{139}139
Восстание декабристов, т. 1, стр. 344.
[Закрыть].
Так показывает Каховский. Рылеев отрицает: «Никогда не говорил я ни Каховскому, ни кому другому, что у нас есть люди и в Сенате, и в Государственном Совете, и не называл ни Ермолова, ни Сперанского. Не говорил также, что будто мы действуем на Сперанского через Батенкова»{140}140
Там же, стр. 201.
[Закрыть]. Между Рылеевым и Каховским устраивается очная ставка. Каждый остается при своем показании.
Вот, собственно, и все. Кто прав, неизвестно. Трудно допустить, что Батенков, человек несдержанный и неврастенический по природе, в разговорах со Сперанским ни разу даже намеком не коснулся заговора. Как бы то ни было, следствие делает вывод: надежда на участие Сперанского «была только выдуманною и болтовнёю для увлечения легковерных». Спорить с выводом не приходится. Однако слова Боровкова «по точнейшем изыскании обнаружилось» вызывают и некоторое недоумение: это ли «точнейшее изыскание»? Боровков, который, собственно, руководил всем следственным делом, был человек неглупый и прекрасно понимал, что декабристы могли не губить Сперанского даже в том случае, если он принимал участие в их деле.
Так или иначе, невиновность бывшего государственного секретаря как будто выясняется в самом начале следствия. Письмо князя Трубецкого Бенкендорфу написано 26 декабря 1825 года. Князь Оболенский свое категорическое заявление: «они о существовании общества совершенно не знали» – делает двумя днями позднее, 28 декабря. Казалось бы, сразу твердо устанавливается, что все было «болтовнёю для увлечения легковерных». Но вот что рассказывает – уже не на следствии, а в своих воспоминаниях – князь Трубецкой{141}141
Записки князя С.П.Трубецкого. СПб., 1907 г., стр. 55.
[Закрыть]:
«28 числа марта, после обеда, отворяют дверь моего номера{142}142
В Алексеевском равелине.
[Закрыть] и входит генерал-адъютант Бенкендорф, высылает офицера и после незначащих замечаний о сырости моего жилища садится на стул и просит меня сесть. Я сел на кровать.
Он. Я пришел к вам от имени Его Величества. Вы должны представить себе, что говорите с самим Императором. В этом случае я только необходимый посредник. Очень естественно, что Император сам не может прийти сюда; вас позвать к себе для него было бы неприлично; следовательно, между вами и им необходим посредник. Разговор наш останется тайной для всего света, как будто бы он происходил между вами и самим Государем. Его Величество очень снисходителен к вам и ожидает от вас доказательства вашей благодарности.
Я. Генерал, я очень благодарен Его Величеству за его снисходительность, и вот доказательство ее.
Он. Да что это!.. Дело не в том, – помните, что вы находитесь между жизнью и смертью.
Я. Я знаю, что нахожусь ближе к последней.
Он. Хорошо! Вы не знаете, что Государь делает для вас. Можно быть добрым, можно быть милосердным, но всему есть границы. Закон предоставляет Императору неограниченную власть, однако есть вещи, которых ему не следовало бы делать, и я осмеливаюсь сказать, что он превышает свое право, милуя вас. Но нужно, чтобы и с своей стороны вы ему доказали свою благодарность. Опять повторяю вам, что все сообщенное вами будет известно одному только Государю; я только посредник, через которого ваши слова передадутся ему.
Я. Я уже сказал вам, что очень благодарен Государю за позволение переписываться с моей женой. Мне бы очень хотелось знать, каким образом я могу показать свою признательность.
Он. Государь хочет знать, в чем состояли ваши сношения со Сперанским.
Я. У меня не было с ним особенных сношений.
Он. Позвольте, я должен вам сказать от имени Его Величества, что все сообщенное вами о Сперанском останется тайной между им и вами. Ваше показание не повредит Сперанскому, он выше этого. Он необходим, но Государь хочет только знать, до какой степени он может доверять Сперанскому.
Я. Генерал, я ничего не могу вам сообщить особенного о моих отношениях к Сперанскому, кроме обыкновенных светских отношений.
Он. Но вы рассказывали кому-то о вашем разговоре с Сперанским. Вы даже советовались с ним о будущей конституции России.
Я. Это несправедливо, генерал, Его Величество ввели в заблуждение.
Он. Я опять должен вам напомнить, что вам нечего бояться за Сперанского. Сам Государь уверяет вас в этом, а вы обязаны ему большою благодарностью, вы не можете себе представить, что он делает для вас. Опять говорю вам, что он преступает относительно вас все божеские и человеческие законы. Государь хочет, чтобы вы вашей откровенностью доказали ему свою признательность.
Я. Мне бы очень хотелось доказать мою признательность всем, что только находится в моей власти; но не могу же я клеветать на кого бы то ни было; не могу же я говорить то, чего никогда не случалось. Государь не может надеяться, чтобы я выдумал разговор, которого вовсе не происходило. Да если бы я и был достаточно слаб для этого, надо еще доказать, что я имел этот разговор.
Он. Да вы рассказали кому-то о нем.
Я. Нет, генерал, я не мог рассказывать разговор, которого не было.
Он. Государь знает, что вы рассказали его одному лицу, и он узнал о нем именно от этого лица.
Я. Могу вас уверить, генерал, что это лицо солгало Государю.
Он. Берегитесь, князь Трубецкой, вы знаете, что вы находитесь между жизнью и смертью.
Я. Знаю, но не могу же я сказать ложь, и я должен повторить вам, что лицо, имевшее дерзость сообщить Государю о каком-то разговоре моем со Сперанским, солгало, и я докажу это на очной ставке. Пусть Государь сведет меня с этим лицом, и я докажу, что оно солгало.
Он. Это невозможно, вам нельзя дать очную ставку с этим лицом.
Я. Назовите мне его, и я докажу, что оно солгало.
Он. Я не могу никого называть, вспомните сами.
Я. Совершенно невозможно, генерал, вспомнить о разговоре, которого никогда не было».
Об этом допросе декабристского диктатора генерал-адъютантом Бенкендорфом официальное следствие не говорит ни слова. Разговор происходил с глазу на глаз, без всяких протоколов. Разумеется, такие допросы и входили в то секретнейшее следствие, о котором рассказывает Боровков. Сцена, описанная Трубецким, во многих отношениях поразительна. Ни о Мордвинове, ни о Ермолове, ни о Баранове больше нет речи. Трубецкого спрашивают только о Сперанском и всячески подчеркивают огромное значение допроса. Спрашивает как бы сам царь: «Вы должны считать, что говорите с самим императором», – и как спрашивает: «Берегитесь, князь Трубецкой, вы знаете, что вы находитесь между жизнью и смертью!» Все это происходит 28 марта – через три месяца после письма Трубецкого! Очевидно, официальному следствию в этом вопросе император не придает никакой веры.
Следственная комиссия вопроса по-настоящему не разрешила. Не разрешила его и история. Многое здесь остается неясным. Через тридцать лет после декабрьского дела, в 1854 году, престарелый Батенков (бывший ближайшим человеком к Сперанскому), отвечая на вопросы профессора Пахмана, писал ему: «Биография Сперанского соединяется со множеством других биографий... Об иных вовсе говорить нельзя, а есть и такого много, что правда не может быть обнаружена.
Результат следствия оказался совершенно неожиданный, можно сказать, даже неслыханный. Комиссия заканчивает свои работы, учреждается Верховный уголовный суд. И в состав его назначается член Государственного Совета М.М.Сперанский! Он должен судить людей, которых долго, настойчиво, упорно допрашивали, не был ли новый судья соучастником преступления.
Поступок царя довольно понятен: назначение Сперанского в суд над декабристами было, с одной стороны, актом мести{145}145
О ненависти, которую в ту пору Сперанский вызывал в императоре Николае I, упоминает княгиня Ливен, чрезвычайно близко стоявшая к царской семье.
[Закрыть], с другой – диктовалось простым политическим расчетом. Оно морально губило Сперанского. Судья декабристов уже не мог быть опасен в качестве вождя либерального движения. Кроме того, в Европе знали бывшего государственного секретаря: его имя было гарантией культурного правосудия.