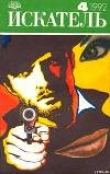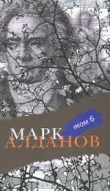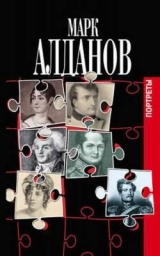
Текст книги "Исторические портреты"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 62 страниц)
VII
Первые сведения о том, что Мата Хари состоит на службе у немецкой разведки, получила британская Intelligence Service, – по-видимому, из Мадрида, где английские агенты каким-то образом проследили ее связь с германскими разведчиками.
Во время войны все союзные разведки не слишком посвящали друг друга в свои секреты; каждая по известным ей, вероятно, причинам предпочитала работать самостоятельно. В сентябре 1915 года в Париже состоялся съезд представителей французской, английской, русской и других союзных разведок: предполагалось создание «междусоюзного бюро». Но, как рассказывает в своих воспоминаниях майор Ладу, «все вопросы обсуждались – надо ли это подчеркивать? – с благоразумием, походившим на недоверие... Вся конференция протекла в этой глухой атмосфере, где самые слова казались подавляемыми, как если б каждый боялся, что его слушает неприятельский шпион»! «В частности, наши английские друзья, – говорит далее комендант, – оставляли такое впечатление, будто они, чем выдать какой-либо секрет, предпочли бы, чтобы у них вырвали зуб» (перевожу дословно, – читатель извинит неуклюжесть). По словам того же Ладу, единство разведочного фронта так и не было осуществлено за все время войны. Однако некоторыми сведениями союзные разведки, конечно, обменивались. В 1915 году Intelligence Service сообщила 2-му бюро, что известная танцовщица Мата Хари находится на службе у германского командования.
За ней было тотчас установлено в Париже самое тщательное наблюдение. Ее корреспонденция перехватывалась и читалась во французской контрразведке. «Я перечел ее перехваченные письма, – сообщает комендант Ладу. – Большая часть из них была адресована капитану, давно служившему на фронте. Все они были подвергнуты самому тщательному исследованию, испробованы в наших лабораториях при помощи всяких химических реактивов. В них не было ничего, решительно ничего такого, что могло бы повлечь за собой что-либо, кроме смутных подозрений».
Она скоро заметила, что находится под тайным наблюдением контрразведки. Как ни странно, это не очень ее встревожило. Астрюк рассказывает, что Мата Хари как-то провела ночь с французским офицером в Биаррице и, уходя, оставила ему записку: «А теперь, мой милый, ты можешь идти во 2-е бюро: расскажи там все это...»
В августе 1916 года она явилась к майору Ладу, заведовавшему французской контрразведкой. Инициатива свидания была как бы встречная: не то чтобы она просила о приеме, не то чтобы он официально ее вызвал. Было нечто вроде обоюдного желания «побеседовать», – так приблизительно встречались и беседовали Раскольников и Порфирий Петрович.
VIII
Об их встречах рассказывал сам комендант Ладу. Мата Хари начала с жалобы в кокетливом тоне: за ней следят, в ее отсутствии какие-то люди роются в ее чемоданах, что за безобразие! Ладу отшучивался, слабо отрицая свое участие в установленном за ней надзоре. Затем перешли к небольшому делу. Танцовщица желала отправиться на лечение в Виттель, находившийся в прифронтовой полосе. Для этого нужен был пропуск. Майор охотно его выдал.
Вблизи Виттеля, в Контресксевилле, в ту пору создавался авиационный лагерь, специально предназначенный для воздушных бомбардировок врага. Немцы чрезвычайно им интересовались, и французская разведка это знала. Ладу был совершенно уверен, что Мата Хари едет в Виттель именно для авиационного лагеря. В гостиницу, где она остановилась, был под видом лакея введен разведчик. Другому агенту, переодетому офицером-летчиком, поручено было за ней ухаживать. Однако хитрости не дали решительно никакого результата. Мата Хари вела себя в Виттеле безукоризненно; по окончании курса лечения она вернулась в Париж и снова явилась к Ладу, – опять как будто без всякого дела, просто так, поболтать.
Вторая беседа была гораздо интереснее первой. Она велась в том же веселом, шутливом тоне – вот только говорились вещи не шуточные, далеко не шуточные. Тон дала Мата Хари: ей нужны деньги, так нужны, так нужны... «Правда? Сколько?» – сочувственно спросил Ладу. «Много. Миллион франков». «Где же нам такую сумму взять! Вот у немцев вы могли бы получить миллион, если б проникли в ставку нашего верховного командования», – ласково сказал начальник французской контрразведки. Мата Хари столь же шутливо ответила, что за миллион она лучше проникнет в германскую ставку, благо это ей и нетрудно: всем известно, что она была любовницей... (она назвала очень высокопоставленное лицо). «Ну, уж так прямо в германскую ставку? – усомнился Ладу. – Кто же вас туда введет?» «Да мой другой любовник, поставщик У.».
«Имя это вылетело у нее как пуля, – вспоминает в своей книге комендант, – оно и погубило несчастную». Поставщик У. был одним из главных германских агентов специально по найму шпионов.
Соглашение было заключено: Мата Хари поступает на службу французской контрразведки, выедет сначала в Испанию, оттуда в Бельгию, где и будет работать. На прощание комендант Ладу сказал ей внушительное напутственное слово – о некотором неудобстве службы на два фронта: надо непременно выбрать один, а то дело может кончиться плохо. Мата Хари ответила не совсем понятно, в своем обычном стиле: она родилась под знаком Змеи. Ее эмблема – змея. Когда в былые времена в зоологическом саду она проезжала верхом мимо клеток, змеи просыпались и шевелились... Но сегодня, возвращаясь под утро из игорного дома, она снова подошла к змеям – и на этот раз они не проснулись... и т.д. По-видимому, аллегория означала, что отныне она изменяет своему змеиному нраву – и будет верой и правдой служить французской разведке.
Комендант Ладу сам говорит, что при их расставании он еще совершенно не знал, каковы истинные намерения Мата Хари. Но его идея была очень проста: французская разведка знала шифр, при помощи которого германский военный агент в Испании сносился по радио с германским верховным командованием. Эйфелевой башне было предписано перехватывать все радиотелеграммы, шедшие из Мадрида в ставку Гинденбурга.
Очень сокращая рассказ, пропуская много подробностей, скажу, что вскоре после прибытия Мата Хари в Испанию французская разведка расшифровала следующие две телеграммы, доставленные с Эйфелевой башни:
«В Мадрид прибыл агент Н-21. Ему удалось поступить на французскую службу... Он просит инструкций и денег. Сообщает следующие данные о местонахождении французских полков... Указывает также, что французский государственный деятель N находится в близких отношениях с иностранной принцессой...»
В ответной телеграмме германского штаба предписывалось:
«Скажите агенту Н-21 вернуться во Францию и продолжать работу. Получить чек Кремера в 5000 франков на Контуар д'Эсконт».
Майор Ладу добавляет, что не все сведения, сообщенные Мата Хари о французских полках, были точны. Это подтверждает сказанное выше о ее шпионских заслугах. Не очень большой интерес представляло, конечно, и сообщение о романе государственного деятеля. Сами по себе телеграммы были незначительны. Но, разумеется, вопрос об агенте Н-21 разрешался ими бесповоротно.
Она вернулась в Париж и остановилась в Elysée-Palace (теперь больше не существующем). 13 февраля 1917 года в ее номер вошли полицейские агенты и под каким-то предлогом велели ей следовать за ними. Ее привезли во 2-е бюро. Там ее, как водится, сразу оглушили вопросом:
Н-21, когда именно вы поступили на германскую службу?
Я не понимаю, – ответила, побледнев, Мата Хари.
IX
Следствие продолжалось несколько месяцев. Дело поступило на рассмотрение военного суда лишь 24 июля 1917 года. Защитник, старый адвокат, редактор известного юридического журнала, был формально ей назначен советом сословия. В действительности председатель совета Анри Робер предложил защиту своему адвокату по его настойчивой просьбе: престарелый адвокат был давним другом танцовщицы и всячески это подчеркивал. Человек был, по-видимому, не без странностей. Перед казнью своей подзащитной он заявил властям, что она от него беременна. «От вас? – изумленно спросил прокурор. – Но ведь вам, кажется, больше 75 лет!» – «Это ничего не значит. Я требую применения 27-й статьи уголовного кодекса...»
Система защиты Мата Хари на суде была очень неубедительна. Она не могла отрицать, что получала деньги от немцев. Но, по ее словам, руководитель германской разведки, от которого она получила 30 тысяч марок, был ее любовником и платил именно за это. «Очень щедрый человек», – заметил председатель. «30 тысяч марок – это моя обычная цена, – возразила Мата Хари, – все мои любовники платили мне не меньше». Она получала, однако, деньги от разных германских офицеров? Объяснение было такое же. Но телеграфный обмен между Мадридом и ставкой? Это ничего не доказывает: руководители германского шпионажа просто хотели отнести свой частный расход на счет государственной казны.
Не останавливаюсь на показаниях Мата Хари по другим неотразимым уликам. Суд единогласно приговорил ее к смертной казни.
X
Теперь все кончено. Дело переводится в другую инстанцию, в кассационный суд. Но сколько-нибудь серьезных поводов для кассации нет. Нельзя рассчитывать и на помилование президента республики.
В Сен-Лазарской тюрьме она ведет себя, в сущности, так же дико, как на воле. Однако теперь перспектива изменилась чрезвычайно. Безвкусный американский сценарий становится страшной правдой.
Мата Хари продолжает доигрывать – не нахожу другого слова. Можно в камере читать книги: есть романы Бурже, Прево, Рони. Она отказывается: сроду не читала романов. Ей нужны поэты, притом поэты восточные. В Сен-Лазарской тюрьме нет ни «Прем-Сагар», ни «Бакта-Маль», ни «Сундара-Канда»? Доктор приносит ей какой-то «Лотос доброго закона»... Она по-прежнему играет индусскую роковую женщину, – совершенно непостижимо, почему это ей так нравилось. Д-р Брале как-то спрашивает: какого она происхождения. Мата Хари отвечает неопределенно-загадочно: тут есть тайна; ее родина не то Бенарес, не то Голконда, не то Гвалиора...
Сестры тюрьмы предлагают ей помощь религии. Она отказывается с усмешкой. «Эти бедные женщины упорно хотят обратить меня в свою веру», – говорит она доктору. Перед одной из сестер она танцует свой танец – очевидно, тот самый танец Шивы, «бога любви и смерти», которым когда-то она сводила с ума Париж. Но танцует она его не в своем наряде, а в тюремном халате; не на сцене, осыпанной лепестками роз, а в камере №12 Сен-Лазарской тюрьмы. Это, я думаю, было страшное зрелище. В перспективе вместо шутовского «алтаря Шивы» виднеется столб Венсенского полигона.
Доктор Брале очень о ней заботится. Ей хочется его отблагодарить. Мата Хари предлагает открыть доктору три секрета – один даст ему любовь, другой золото, третий вечную жизнь. Может быть, она видела на сцене «Пиковую даму»?
Фильмовая лента вертится все быстрее, настает последний день. 15 октября 1917 года, на рассвете, к ней в камеру входит обычная в таких случаях процессия. Она спит – накануне приняла хлораль (все время в тюрьме его принимала). Ее будят. Произносятся обычные слова: «Мужайтесь, час искупления настал» или что-то в этом роде.
Здесь начинается самая блестящая сцена всей ее жизни. Эти кадры фильма по своему великолепны; надо отдать должное ее игре, мужеству и силе характера. «Как? Так рано! На рассвете! Что за манера?..» Она хотела бы, чтобы ее повезли на полигон днем после хорошего завтрака. «Папиросу?» – «Нет, не надо». – «Грог?» – «Да, пожалуй, стакан грога». – «Не имеете ли каких-либо сообщений властям?» – «Не имею. А если б имела, то не сделала бы!..»
Нужно одеться. Мужчины выходят. Она приглашает врача остаться в камере... «Да и вообще не время изображать целомудрие!..» Говорит быстро, безостановочно. Туалет кончается. Она поедет в Венсен в бежевом манто, непременно в бежевом манто. Снова входят люди. Пастор предлагает помолиться. «Я не желаю прощать французам!..» Впрочем, все равно. Все – все равно. «Жизнь ничто, и смерть тоже ничто, – объясняет она. – Умереть, спать, видеть сны, какое это имеет значение? Не все ли равно, сегодня или завтра, у себя в постели или на прогулке. Все это обман!..» И вдруг раздается страшный хохот, – «зловещий, немыслимый, невообразимый хохот» – это преданный адвокат на ухо ей сообщает о своем удивительном способе отсрочки: «объявите себя беременной». – «Беременна!.. Нет, я не беременна... Что еще? Да, письма...»
Она пишет три письма: одно сановнику, другое своей дочери, третье – тому капитану. Отдает их трясущемуся адвокату и насмешливо просит не перепутать: не надо, чтобы письмо любовнику попало к девочке, и обратно.
– Больше ничего? – Как вам будет угодно, господа!..
У ворот тюрьмы стоят пять автомобилей. С ней во второй садятся пастор и сестры. Автомобили несутся в Венсен по пустынным улицам спящего Парижа. Это длится недолго. Второй автомобиль останавливается у столба на полигоне. По другую сторону уже стоит черный катафалк с гробом.
В десяти метрах от столба выстроилось двенадцать солдат. Мата Хари выскакивает из автомобиля и помогает выйти сестрам. Ее привязывают к столбу. «Повязки не надо!..» Она с улыбкой кивает головой сестрам, адвокату, доктору. Бьет барабан. Раздается залп. В нее попадает одиннадцать пуль. Двенадцатый солдат, очень молодой, свалился без чувств, – почти одновременно с нею.
Тело тотчас отвезли в анатомический театр.
Мольтке младший
I
Генерал Галлиени писал в своем дневнике 25 сентября 1915 года:
«Работаю над записками. Да было ли сражение на Марне? Группа армий отступала перед врагом, каждая работала на себя. Можно ли отдавать приказания армиям, отступающим под давлением неприятеля? Они делают, что могут... Намечалась общая операция, предполагалось поддерживать огромный единый фронт без дыр, а между тем каждая голова работала самостоятельно – и так лучше...»
Удивительные строки. Один из главных участников сражения на Марне (быть может, самый главный) выражает сомнение в том, было ли вообще это сражение! В сущности, знаменитый французский генерал здесь развивает чисто толстовский взгляд на войну, относя его, правда, лишь к одному военно-историческому явлению.
Толстовская «теория» вышла из наблюдений над наполеоновскими войнами. Все историки литературы отмечают (да это признавал и сам Толстой), что военные сцены «Войны и мира» освещены так же, как соответственные картины стендалевского «Красное и черное»: Фабрицио дель Донго участвовал в битве при Ватерлоо, сам того не зная: он ничего, кроме беспорядка и хаоса, не видел. В действительности, Стендаль заимствовал эти страницы из одной малоизвестной книги «Воспоминания солдата», написанной ничем не замечательным, но подлинным участником кампании 1815 года.
Прочтите книгу Галлиени, воспоминания Пуанкаре, письма Мольтке – да, это как будто полное торжество толстовских воззрений: как будто те же личные страсти, личные счеты, личные интересы. Прочтите бытовые страницы в книге полковника Шарбонно – и здесь чисто толстовские сцены, те самые, о которых генерал Драгомиров писал (цитирую на память): «Тут каждый офицер скажет: да это с нашего полка писано». И вместе с тем толстовская теория не так уж много дает для объяснения громадного всемирно-исторического события, которое справедливо было названо «чудом на Марне».
У Толстого, как известно, все решает дух армии. В 1805 году русским крестьянам в солдатских мундирах было решительно незачем на австрийской территории, из-за Генуи и Лукки, воевать с французскими крестьянами. Поэтому Кутузов проиграл битву при Аустерлице. В 1812 году, напротив, вестфальским, гессенским, итальянским, польским, даже французским деревенским людям совершенно не нужно было идти в Россию, куда гнало их честолюбие или безумие Наполеона. Поэтому тот же Кутузов выиграл сражение при Бородино, от которого зависела участь Москвы, а с ним и всю Отечественную войну. На войне один батальон иногда сильнее дивизии, иногда слабее роты. Найдется смелый человек, который бросится вперед со знаменем, – и дело выиграно. Напротив, человек панический закричит «мы отрезаны!» – и все пропало. Сражение выигрывает тот, кто тверже решил его выиграть.
Но в 1914 году обе стороны очень твердо «решили» выиграть сражение на Марне. Дух был одинаково высок и во французской, и в германской армиях, как приблизительно равен по качеству был человеческий материал. В пору наполеоновских войн, пожалуй, батальон мог быть сильнее дивизии или слабее роты. Но 420-миллиметровое орудие всегда сильнее 75-миллиметрового. С техникой армий 1914—1918 годов бороться только духом было довольно затруднительно. Бежать же вперед со знаменем было и невозможно, и бесполезно: никто не увидел бы, да и куда же бежать, когда расстояние между сражающимися армиями составляет десять, пятнадцать километров? Толстовская теория частично устарела вместе с теми самыми военными теориями первой половины XIX века, против которых была она направлена.
Парадокс современной войны. Для Наполеона и его маршалов, для Фридриха, для Суворова война была профессией в самом настоящем смысле слова. Напротив, генералы, командовавшие армиями в Марнском сражении, никогда ни в какой серьезной войне не участвовали (разве некоторые в чине поручика). В сущности, это был их дебют.
Другой парадокс. Ни один частный предприниматель не примет на службу директором завода или бухгалтером глубокого старика. Но в 1914 году нечеловеческое напряжение всех душевных, умственных, физических сил выпало на долю очень старым людям. По странной случайности, главные из них (за исключением Жоффра) были в ту пору больны. Тяжело болен был Мольтке, еще тяжелее Галлиени – оба они вскоре сошли в могилу. Больны были в 1914 году также Клук, Бюлов, его начальник штаба Лауенштейн. Поистине надо удивляться энергии, силе воли, выносливости всех этих людей.
Замечу еще одно: ни один из них не пользовался у себя на родине всеобщим признанием, тем авторитетом, который был у Наполеона, у Фридриха, у Суворова. Галлиени в своих воспоминаниях весьма отрицательно отзывается о Жоффре (они, кстати сказать, были еще с 1910 года соперниками по кандидатуре на должность верховного главнокомандующего). Сам Жоффр, довольно добродушный человек, сурово обошелся в мемуарах с Петеном и Кастельно. Фош в 1916 году был уволен от должности и впал в полную немилость. При этом Жоффр сослался на прямое предписание Пуанкаре об увольнении будущего генералиссимуса. Но Клемансо в своих воспоминаниях говорит, что, когда он сказал об этом президенту республики, тот только развел руками: «Господи! Эти генералы!..» Немало рассказов такого рода можно найти и у Ллойд Джорджа. Он говорит, напротив, что в пору мировой войны французский генеральный штаб «считал самым опасным своим врагом не германского генерала Клука, а французского генерала Саррайля»!
Отнюдь не лучше обстояло дело в высших военных кругах Германии. Так, например, фон Фалькенгайна, который в начале войны был военным министром, а потом верховным главнокомандующим, ненавидели большинство немецких генералов. Мольтке, Гинденбург, Людендорф настойчиво, почти ультимативно требовали его отставки, писали об этом императору Вильгельму. Очень нехороши были, по-видимому, и отношения Клука с Бюловым. Осведомленный историк войны (сам видный военный) считает даже, что дурные отношения между командующими первой и второй германскими армиями были одной из причин поражения немцев на Марне и провала наступления на Париж: в решительный день 6 сентября штабы обеих армий находились очень близко один от другого; если б фон Клук и фон Бюлов сочли возможным встретиться и сообща обсудить положение, то результат мог бы быть иной; но этому будто бы помешали борьба самолюбий и личные счеты двух старых генералов (они были в одном чине и одних лет).
Можно было бы умножить число сходных примеров. Не будем суровы в оценках. История кое-как все привела в порядок. Не подлежит сомнению, что и Галлиени, и Жоффр, и Фош – превосходные генералы. Вероятно, прекрасными военачальниками были и Клук, и Фалькенгайн, и Бюлов, и Мольтке, которого в Германии принято всячески ругать. Они терпеть не могли, бранили, не признавали друг друга, но так обстоит дело не только у знаменитостей военного мира. Да и не все тут, конечно, сводится к личным счетам и столкновениям. Среди генералов, как среди политических деятелей, писателей, художников, инженеров, учителей, фотографов, всегда была борьба партий, направлений, взглядов. Над всеми нами тяготеет и прошлое с его великими людьми: отсутствующие присутствуют. Не могло быть у Веласкеса личных счетов с Рафаэлем, который умер за много десятилетий до его рождения. Однако Веласкес уверял – быть может, искренне, – что смотрит на картины Рафаэля с отвращением. Престарелый французский ученый, бывший в молодости учеником Пастера, когда-то мне рассказывал, что в пору знаменитого спора между Пастером и Либихом, в те дни, когда в Париж приходила последняя книжка немецкого научного журнала, в лаборатории начиналась паника: читая работу Либиха, Пастер ругался ужасными словами, а иногда доходил до настоящих припадков бешенства. Между тем дело шло – о природе брожения!
Разница, однако, есть. Никто не заставлял и не мог бы заставить Пастера вести совместное исследование с Либихом или Рафаэля писать сообща картину с Микеланджело – да еще по указаниям Леонардо да Винчи. Но полководцы 1914 года делали общее дело: они приводили в исполнение план, который для большинства из них был чужим, которого многие из них отнюдь не одобряли.
По своей некомпетентности не берусь, разумеется, судить о военной стороне обоих планов: французского и германского. Поскольку дело идет о ней, позволяю себе лишь ссылаться на мнение авторитетов. Они говорят об этих планах без восторга. Во Франции, как известно, верховный военный совет, незадолго до начала войны (18 апреля 1913 года), принял так называемый план № 17, – семнадцатый по счету с 1875 года. Он предусматривал решительно все, – кроме вторжения немцев через Бельгию! Столь же прекрасно разработанный план был у немцев – знаменитый план графа Шлифена. Впрочем, новейший историк утверждает, что такого плана никогда не было – была будто бы лишь краткая и не очень ясная записка, составленная графом Шлифеном в весьма преклонном возрасте. В довоенной Германии Шлифена многие считали гениальным человеком, он скончался за полтора года до начала войны. Германское верховное командование очень бранили за то, что оно «отступило от плана графа Шлифена». При этом военные нередко забывают, что план графа Шлифена строился на нарушении нейтралитета не только Бельгии, но и Голландии. Поэтому, независимо от своих стратегических достоинств, он в 1914 году оказался совершенно неприемлемым по политическим и по экономическим причинам. Политика сыграла дурную шутку и с французским, и с германским командованием. Обоим с началом войны пришлось поневоле импровизировать.
Преемником графа Шлифена с 1907 года стал Мольтке Младший. Его теперь почти все немецкие историки и теоретики военного дела считают бездарным человеком. Но это не всегда так было. Рекомендовал его императору как своего преемника не кто иной, как сам граф Шлифен, не очень, кажется, его любивший, но признававший за ним большие дарования. Очень высоко ставил его и Людендорф. Гинденбург уже после марнского поражения, после отставки и опалы генерала Мольтке просил Вильгельма II снова назначить его германским верховным главнокомандующим. Но это были исключения. Общество забыло о Мольтке на следующий же день после его ухода. Почти незамеченной прошла и его смерть.