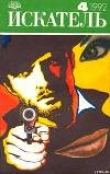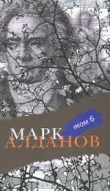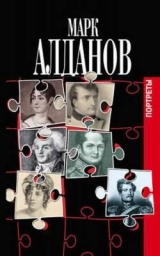
Текст книги "Исторические портреты"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 62 страниц)
VI
На каком-то второстепенном приеме в Эрфурте государственный секретарь Маре познакомился с одним третьестепенным немецким сановником. Маре был очень образованный человек, литератор и член французской Академии. Быть может, он знал немецкий язык, так как в пору революций два с половиной года провел в австрийском плену, был выпущен в обмен на дочь Людовика XVI. Он счел нужным доложить императору: в свите великого герцога Веймарского находится известный писатель тайный советник Гете. «Гет!» – Император велел пригласить его на следующее же утро.
Это одна из наименее понятных психологических особенностей столь сложной психологической биографии Наполеона: в молодости он необычайно увлекался «Страданиями молодого Вертера». За много лет до того роман имел огромный успех в мире. Госпожа де Сталь говорила, что он «вызвал больше самоубийств, чем самая красивая из женщин!». Но именно Наполеону, казалось бы, этот роман о молодом человеке, кончающем с собой из-за любви, должен был бы быть довольно чужд. Как бы то ни было, он принял Гёте чрезвычайно любезно. Когда тайного советника ввели в его кабинет, император молча долго на него смотрел, затем сказал: «Вы человек!» (Гете дает две версии – по другой: «Вот человек!») Вопросы вначале были неинтересные: «Сколько вам лет?», «Вы женаты?», «Ведь вы первый драматург Германии?» На этот последний вопрос Гёте скромно ответил, что есть Лессинг, Шиллер. Наполеон сказал, что из книг Шиллера читал только «Историю тридцатилетней войны» и что она ему не нравится. «Вашего "Вертера" я прочел семь раз и взял его с собой в Египет». Выразил сожаление, что Гете сделал Вертера честолюбивым (этого из романа не видно), ему следовало бы быть воплощением одной любви. В устах Наполеона замечание неожиданное. Аудиенция продолжалась более часа. Правда, входили другие люди, и император отрывался от разговора с Гете. Дарю, очевидно, желая придать веса приглашенному немецкому писателю, сказал, что мосье «Гет» перевел кое-что с французского. На это ценное замечание Наполеон внимания не обратил. Пригласил Гёте в театр: вы увидите, как там спят принц-примат и король Вюртембергский. Посоветовал написать что-либо в честь императора Александра. Гете – не совсем точно – ответил, что никогда этого не делает: можно ведь потом и пожалеть. «Однако наши великие поэты писали в честь Людовика XIV». – «Да, может быть, они потом и сожалели, государь». И сам Гёте, и его ответы очень понравились императору. Он предложил ему переехать в Париж: «Напишите "Смерть Цезаря". Вы можете написать это лучше, чем Вольтер. Надо показать, что Цезарь мог бы осчастливить человечество, если б ему дали на то время...»
Гете в этом убеждать не надо было. Он и сам называл убийство Юлия Цезаря «наиболее безвкусным актом в истории». В Париж он не поехал (хотя наводил справки, – оказалось, там жить слишком дорого и неудобно). Из кабинета же Наполеона не ушел совершенно очарованным только потому, что уже был совершенно очарован и прежде.
Он всю жизнь ненавидел революцию. Так часто цитируются слова, сказанные им на поле сражения при Вальми: «Здесь сегодня началась новая эпоха в мировой истории, и вы можете сказать, что при этом присутствовали». Эти слова могли озадачить тех немецких офицеров, которым были сказаны, – они, впрочем, едва ли очень интересовались мнением штатского, не знатного, поэта, неизвестно зачем оказавшегося на фронте. Почему эти слова поразили историков и биографов, малопонятно. Если говорить правду, замечательного в них было немного. Новая эпоха началась не в 1792 году, а в 1789, а это тогда же признан почти не Выдающиеся люди Европы. Можно было и не сочувствовать французской революции, но нельзя было отрицать ее мировое значение. Ничего не было неслыханного и в том, что народная армия одержала победу над профессиональной. Это бывало не раз в истории, как не раз бывало и обратное. Вдобавок командовали французской армией при Вальми старые кадровые, израненные в боях офицеры, Дюмурье и Келлерман. Но уж во всяком случае, сшив Гёте никак не выражали сочувствия революционным идеям.
Об его проницательности гораздо больше свидетельствует мнение, высказывавшееся им задолго до революции. Он говорил, что весь мир пронизан «подземными ходами, погребами и клоаками», о которых никто не думает и не подозревает. В этом он вполне сходился с Наполеоном; только говорил он это в очень спокойное время, в очень тихой стране, в очень мирной в уютной обстановке. Позднее как государственный деятель на своем третьестепенном посту он стоял за социальные реформы и, если не первый, то один из первых высказывался за раздел между крестьянами огромных государственных имений. Но надежд, вызванных французской революцией у столь многих людей в Европе, никогда не разделял. Несколько позднее знакомым из более высокого круга иронически говорил, что «Марсельеза» – «не песня для богатых людей». Падению Лафайета он в своей «Французской кампании. 1792» уделяет несколько строк, неизмеримо меньше, чем описанию встречи с княгиней Фюрстенберг. Революционеров же он неизменно недолюбливал и писал об «апостолах свободы» очень ядовитые статьи. Как же ему было не приветствовать появление Наполеона? С его точки зрения, этот человек взял от революции именно то и только то, что взять было нужно, ввел хорошие гражданские законы и, главное, установил порядок, совершенный порядок. Быть может, Гёте придавал другой смысл словам, приписывавшимся ему то с ненавистью, то с восторгом: «Я предпочитаю несправедливость беспорядку». Но «беспорядок» он в самом деле ненавидел больше всего на свете, а революция именно была воплощением беспорядка. Наполеон, по его мнению, устранил или ослабил возможность взрыва «подземных ходов, погребов и клоак». Свободы император оставил не очень много. Однако ее было еще меньше в побежденных им странах. Наукой и искусством во Французской империи можно было заниматься, никому не угождая, ни перед кем не подличая. Во всяком случае, нельзя было попасть на эшафот, как Шенье или Лавуазье в пору революции. Теперь же Французской империей понемногу становилась вся Европа – и даже не понемногу, а очень быстро. «Нельзя терпеть власть иностранного завоевателя!» – к этому доводу Гете был совершенно равнодушен. «Националистом» никогда не был, да и патриотом был сомнительным. Французскую культуру ценил чрезвычайно высоко. Победам, соображениям дипломатического «престижа», из-за которых так часто возникают войны, не придавал ни малейшего значения. Быть может, шел и дальше. У Достоевского Смердяков говорит: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем бы даже были бы другие порядки-с». Как ни кощунственно сопоставление имен, Гёте «только немного другими словами» говорил нечто сходное. Со времен Аустерлица он, как бы назло немцам, называл Наполеона: «Мой император». Вдобавок знал цену своим немецким принцам, хотя относился к ним благодушно. Во Франции же появился человек гениальный, человек огромного ума, необыкновенной энергии и силы воли, как же было не желать ему полного успеха. В пору немецкой освободительной войны 1813 года Веймар был занят французами. Гёте очень гостеприимно принимал у себя в доме французского командующего, генерала Травера. Затем Веймар освободили союзные войска князя Коллоредо-Масфельда, который остановился в его доме. В тот день, когда эти войска прошли дальше, Гёте записал в дневнике: «Ушел Коллоредо. Дом вычищен» («gereinecht»). И – больше ничего. Другим проявлением его патриотического восторга было то, что он в пору освободительной войны пустил в ход свои связи для освобождения сына от воинской повинности: написал лично великому герцогу и своего добился. «Пораженцем» по нынешней терминологии Гёте все-таки не был, «оборонцем» тоже не был. Точнее всего общие его политические мысли можно было бы, думаю, передать так. Аксиома первая (наполеоновская): «революция – величайшее из всех зол». Аксиома вторая (никак не наполеоновская): вслед за революцией худшее из бедствий – война, она тоже отвратительный вид «беспорядка». Конечно, Гёте и самый худой мир предпочитал самой блистательной ссоре – пусть они не мешают мне заниматься моим делом, оно гораздо важнее и интереснее их дел.
Отчего же он все-таки выделял из них Наполеона, чистое воплощение войны? Объяснить это можно разве тем, что в пору Эрфурта Гете считал войны конченными: император оказался непобедимым – и слава Богу! Но если б даже его свергли, то посадили бы на его место людей, которых с ним смешно сравнивать и которые, вероятно, начали бы свои уж совсем ни для чего не нужные войны. С другой же стороны, как Наполеон мог бы без дальнейших войн установить свой «порядок» во всей Европе? Быть может, Гете рассчитывал, что этот порядок без всяких насилий понемногу распространится в мире под влиянием французского примера и преимуществ императорского строя.
Приехал он в Эрфурт, вероятно, для того же, для чего когда-то молодой Декарт, во многом столь к нему близкий, отправился во Франкфурт на коронацию Фердинанда II: «чтобы увидеть первых актеров мира на самом пышном его театральном зрелище». В Эрфурте было два гениальных человека, из этих двух Гёте один составил вечную ценность человечества. Но он был «в другой плоскости». Делать ему там было, собственно, нечего и высказывать свои мысли некому. Быть может, он надеялся, что увидит, как устанавливается вечный мир. Так же в недавнее время на это надеялись Вудро Вильсон и Франклин Рузвельт. То, что за Эрфуртом последовало, конечно, было для него трагической неожиданностью. Тем не менее его отношение к Наполеону не изменилось. Бюст императора стоял в кабинете Гёте до конца его дней. Наполеон тоже не раз вспоминал о нем. В пору своего последнего германского похода, проехав ночью через Веймар, он велел передать Гете привет.
Александр I, отправляясь в Эрфурт, не имел, по-видимому, общей идеи о том, куда надо вести мир. О Священном Союзе он тогда еще не думал. Во внутренней политике был настроен либерально. За четыре года до того поручил барону Розенкранцу написать проект русской конституции – тот «едва поверил ушам». Теперь царь находился под сильным влиянием Сперанского, которого взял с собой в Эрфурт. Однако ни из чего не видно, чтобы Сперанский там принимал большое участие в работе. Наполеону он очень понравился. Через четыре года после падения Сперанского император настойчиво расспрашивал русского посла, за что Сперанский был арестован и сослан. Посол отвечал уклончиво: да он и сам этого не знал, как, собственно, и до сих пор толком не знают историки.
Сперанский, один из самых замечательных государственных людей в русской истории, по-видимому, мало занимался внешней политикой. В его больших и разнообразных познаниях она составляла некоторый пробел. В Эрфурте на вопрос царя, как ему нравится за границей, он отвечал уклончиво: «У нас люди лучше, но здесь лучше установления». Вероятно, давал советы умеренности, а тесного отношения к переговорам не имел, тем более что знал, как недовольны другие министры переходом к нему множества дел. В Петербурге его уже называли fa tutto и ненавидели как «поповича» и «иллюмината». «Поповичем» он был, а «иллюминатом» не был. Ум у него был, напротив, чрезвычайно трезвый, хотя Вигель и считал его дьяволом, слышал идущий от него серный запах и видел в его глазах синеватое пламя. Большинство правых сановников вместе с Карамзиным находили, что России «никакой конституции не нужно: дайте нам 50 умных и добродетельных губернаторов, и все пойдет хорошо». Сперанский ставил себе колоссальную задачу глубоких внутренних преобразований, для которых был необходим мир. Это не значило, что он считал мир приемлемым любой ценою, но и ни к каким войнам и завоеваниям не стремился. В нелюбви к войнам Сперанский сходился с Гёте (оба были масонами, хотя масонство сыграло лишь небольшую роль в жизни того и другого). Его и до сих пор некоторые историки считают слепым обожателем Наполеона, будто бы желавшим преобразовать Россию по французскому образцу. Но трудно понять, что общего между наполеоновским строем и конституционным проектом Сперанского с его четырьмя Думами, из которых высшей была Государственная. И, уж конечно, он не мог не понимать, что для наполеоновского строя нужен Наполеон.
Не может быть сомнения в том, что Сперанский хотел мира. Верил ли он в прочный мир, это сказать трудно. Колебался и царь. Колебался, повторяю, и сам Наполеон. Но «амплитуда колебаний» у них была разная и очень сложная. Для Наполеона основная дилемма состояла в том, завоевывать ли всю Европу или же удовлетвориться ее половиной (без России и Англии). Однако в пределах этой дилеммы могли быть и были разные комбинации. В ту пору многие выдающиеся специалисты внешней политики меняли свои планы с такой быстротой, что их просто нелегко принимать всерьез. На наших глазах тоже происходили очень быстрые перемены, скажем от больших симпатий к плану Моргентау до нынешнего отношения к Германии. Тогда это делалось еще быстрее. Так, например, внешняя политика Меттерниха за три года совершенно менялась три раза в самом основном, каждая новая веха быв прямо противоположна предшествующей. Очень менял свои взгляды и Александр. Скорее всего, он уже в Эрфурте чувствовал, что дело кончится русско-французской войной. Но, как и Наполеон, хо тел выиграть время. Каждая сторона думала, что время работает на нее. И, как почти всегда бывает, невозможно было установить, на кого работает время. Кое в чем оно работало на одну сторону, кое в чем на другую.
VII
Так думали наиболее замечательные из бывших в Эрфурте людей.
С внешней стороны все, разумеется, шло до конца превосходно. Праздник следовал за праздником, шампанское лилось потоками, спектакли шли «с аншлагом». Гёте, получивший приглашение от самого Наполеона, лишь с трудом достал билет. Когда в Вольтеровом «Эдипе» актер воскликнул: «Дружба великого человека – благодеяние богов», – Александр встал со своего кресла на эстраде и крепко пожал руку Наполеону. Короли, принцы и сановники разразились в партере рукоплесканиями. Эту сцену описывают решительно все писавшие об Эрфурте. Партер и в самом деле считал сцену «исторической». Думаю, что она была обдумана и подготовлена заранее: актер, наверное, подал этот стих как следует и после него на мгновение остановился – для того, чтобы мог быть совершен исторический жест. Кто выбирал пьесы, не знаю, но чуть ли не в каждой из них были слова, которые можно было бы признать потрясающими по знаменательности. Так, в корнелевской трагедии были стихи: «Небо, давая нам корону, прощает нам все преступления, которые ради нее совершаются». Это могло быть отнесено к казни герцога Энгиенского. Наполеон так и объяснил Талейрану: «Это превосходно, особенно для немцев. Они все еще в тех же настроениях и по-прежнему говорят о смерти герцога. Надо их мораль расширить». Еще в какой-то пьесе говорилось: «Он завоевал мир, а теперь хочет стать его умиротворителем» («pacificateur»). Все взгляды обратились на Наполеона. «Пасификатор» про себя, быть может, произносил непристойные слова.
Второстепенные короли и принцы, ни на что историческое особенно не претендовавшие, были, впрочем, недовольны репертуаром: из Парижа можно было бы привезти что-либо повеселее «Эдипа» и «Магомета». Веселье начиналось после спектаклей. Особенно веселились великий князь Константин Павлович и брат Наполеона, король Вестфальский: они даже за шампанским перешли на «ты» и почти не расставались. Уезжая, король хотел на память подарить великому князю меч, Константин Павлович весело ответил: «Только не меч! Меч мне уже привез твой брат!» – и выразил другое пожелание.
Разговоры Наполеона с Александром велись без протоколов и чаще всего с глазу на глаз. Как почти всегда в таких случаях, современники и даже историки знают происходившее лишь «в общих чертах». Невесомое не может не ускальзывать от людей, которые в переговорах не участвовали; иногда оно ускальзывает и от тех, кто в них участвует. Нам известно, что шли переговоры бурно. Однажды Наполеон в ярости бросил свою треуголку на пол и стал топтать ее ногами. Царь чуть было тотчас не уехал в Петербург. Сущность «соглашения» известна, но какие доводы пускались в ход, об этом мы порою можем лишь догадываться по тому, что было раньше и позднее. По-видимому, французский император пользовался самыми разными доводами. Зная о настроении петербургских сановников, гвардии, дворянства, он намекал, что дело может кончиться в России плохо: война с ним – затея очень опасная, мало ли что может означать для царя еще новый Аустерлиц или Фридланд. Так как главная его цель заключалась в том, чтобы ухудшить отношения между русскими и немцами, он не раз напоминал царю и его приближенным о Палене и о Беннигсене, подчеркивая их немецкие имена. Сам он, собственно, ничего против русских немцев не имел, но играл и на этом приблизительно по тем же причинам, по каким американский коммунистический журнал называл Кривицкого «Шмелькой Гинсбургом»{116}116
См. об этом заметку М. Номада в «Нью лидер» 17 декабря 1951 г.
[Закрыть]. Быть может, отчасти поэтому царь взял с собой в Эрфурт почти исключительно людей с чисто русскими фамилиями (Румянцев, Сперанский, Толстые, Волконский, Трубецкой, Гагарин, Шувалов, Балабин, Долгорукий и др.). Было только три человека нерусской крови: один приглашенный был польского происхождения, другой шведского, третий еврейского. Со всеми приближенными царя, особенно со Сперанским, Румянцевым и Петром Толстым, Наполеон был чрезвычайно любезен: если не ошибаюсь, всем сделал в Эрфурте подарки.
VIII
С Эрфуртским свиданием произошло то, что происходило с большинством таких конференций. Было достигнуто соглашение, из которого ровно ничего не вышло. Как будто было разрешено все, на самом деле не было разрешено ничего. Делу мира оно только повредило.
Для соблюдения формы Наполеон и Александр решили обратиться к Англии с торжественным предложением заключить окончательный и прочный мир на началах uti possidetis{117}117
Формула взаимного признания прав воюющих сторон на занятие ими территорий.
[Закрыть]. Оба императора отлично знали и ни от кого не скрывали, что предложение не имеет ни малейшей надежды на успех. Оно успеха и не имело.
Франция предоставила России относительную свободу действий на Балканах. Но Наполеон в мыслях не имел отдавать России Константинополь и явно надеялся на то, что русская армия на Балканах завязнет. Действительно, о завоевании Константинополя и речи не было. Правда, новая русско-турецкая граница прошла по реке Прут. Однако потери русской армии в этой войне были огромны: она потеряла почти половину своего состава (при одном неудачном штурме Рушука потеря была почти в 8000 человек). Вдобавок так называемая военная партия в России не слишком интересовалась этой войной и ее результатами{118}118
Умнейшие русские генералы XIX века и вообще не считали нужным завоевание Константинополя. Знаменитый Тотлебен, фактически командовавший русскими войсками в пору войны 1877—1880 годов, шел даже и дальше. Он писал 6 января 1878 года с театра военных действий: «Мы вовлечены в войну мечтаниями наших панславистов и интригами англичан. Освобождение христиан из-под ига ислама – химера. Болгары здесь живут зажиточнее и счастливее, чем наши русские крестьяне; их задушевное желание, чтобы их освободители по возможности скорее покинули страну. Они платят турецкому правительству незначительную подать, несоразмерную с их доходами, и совершенно освобождены от воинской повинности. Турки вовсе не так дурны, как об этом умышленно прокричали: они народ честный, умеренный и трудолюбивый» (Русская старина. Ноябрь, 1886. С. 468). «История русского империализма» вообще пока не написана. В ней окажутся и факты совершенно неожиданные.
[Закрыть].
Со своей стороны, император Александр, весьма недавний союзник австрийского императора, принял перед Наполеоном обязательства быть его союзником в случае войны между Францией и Австрией. Такая война действительно возникла в следующем году, и Александр I «выполнил обязательство»: русские войска были двинуты против Австрии. Но это была даже не drôle de guerre, a просто комедия с немногочисленными человеческими жертвами. В пору русско-австрийской войны 1809 года царь в письме к Наполеону издевался над австрийцами: «Этот эрцгерцог, который хочет померяться силами с императором Наполеоном! Какое безумие!» Но чрезвычайный австрийский посол князь Шварценберг «в частном порядке» оставался в Петербурге, и в разговорах с ним Александр I желал Австрии полной победы и обещал этому не мешать. Русским генералам давались соответственные инструкции. Все же «генерального сражения» между русским и австрийским войсками избежать никак нельзя было. Оно произошло при Подгурже 14 июля 1809 года, и в нем с русской стороны были убиты два казака и ранены два офицера. За всю войну были выданы две награды.
Так было в главном. Так было в мелочах. Наполеон и Александр в Эрфурте обещали друг другу встретиться не позже чем через год. На самом деле они больше никогда не встречались. В виде личной услуги царю Наполеон согласился уменьшить прусскую контрибуцию со 150 миллионов до 130; это тоже оказалось комической уступкой, так как с Пруссии не удалось получить и 130 миллионов. Обе стороны обещали немедленно извещать одна другую о получаемых ими дипломатических предложениях, и никогда они так тщательно не скрывали всего друг от друга, как после Эрфурта. И еще очень увеличился шпионаж.
Из плана брака Наполеона с великой княжной также ничего не вышло. Талейран посоветовал царю первым заговорить об этом с Наполеоном, а затем сослаться на необходимость преодоления разных семейных препятствий, затянуть дело и провалить его. Александр I так и сделал. Наполеон сначала был доволен, затем разгадал замысел и затаил злобу. Позднее любезно сообщил царю, что женится на дочери австрийского императора, так как великая княжна слишком молода. Вышло, следовательно, что отказался он. Царь очень обиделся.
До последнего дня Эрфуртского свидания императоры были, казалось, в самых лучших отношениях. Впрочем, и четырьмя годами позднее, в самый день отъезда царя из Петербурга в Вильно, за два месяца до начала Отечественной войны, когда все в мире ждали ее со дня на день, Румянцев, по приказанию Александра, вызвал к себе французского посла Лористона и объявил ему, что в Вильне, как и в Петербурге, император Александр останется «другом и самым верным союзником императора Наполеона». Приблизительно то же самое говорил и Наполеон.
Тем не менее есть все основания думать, что в Эрфурте оба императора чрезвычайно раздражали друг друга. Мелких уколов с обеих сторон было немало – обычное явление на международных конференциях, одна из причин, по которым они чаще всего ухудшают отношения между правителями, а иногда и ускоряют катастрофы. Едва ли в какой-либо другой среде эти булавочные уколы, личные столкновения, незначительные как будто обиды и инциденты имеют такое значение, как в дипломатической. Проходят они как будто незамеченными, а через много лет из разных мемуаров видишь, какое значение они имели. Независимо от глубоких политических причин распри между демократиями и СССР, вполне возможно, что Сталин, Молотов, Вышинский сами по себе «действуют на нервы», например, Черчиллю. Это, разумеется, случай особый. Но и в пределах демократий личные отношения между Клемансо и Вильсоном, иногда совершенно терявшими самообладание, тоже никак не способствовали переговорам 1919 года, и без того не слишком удачным. Так было и в Эрфурте. Там все завидовали Наполеону, и у всех он вызывал скрытое раздражение: его Франция была слишком могущественна. Теперь по сходным, хоть никак не тождественным причинам на европейских конференциях вызывают раздражение Соединенные Штаты. Но и другие государственные люди в Эрфурте, как и теперь, от беспрестанных встреч никак друзьями не становились. Под конец Венского конгресса они просто ненавидели друг друга. Каждый второстепенный дипломат был уверен, что он умнее и искуснее Талейрана, – вроде как у Достоевского Ракитин был убежден, что пишет стихи лучше, чем Пушкин.
Оба императора покинули Эрфурт 14 октября, разумеется, с объятиями и дружескими словами. Один ускакал на восток, другой – на запад. Уезжавший с Наполеоном Талейран, пожимая руку Александру, шепнул ему: «Как жаль, что вы не можете с ним поменяться колясками!» Будущий «кузен Анри» жаловаться, собственно, не мог: и деньги получил, и племянника устроил. Но, по-видимому, был не очень доволен и он. Уж он-то, наверное, ясно видел, что ничего хорошего из Эрфурта не выйдет.
Как мелкий курьез отмечу, что чрезвычайно недовольна была даже та красавица артистка, которая приехала из Парижа в Эрфурт покорить сердце царя. Она действительно очень понравилась Александру I. Дело было почти сделано, но вышла неожиданность. Наполеон «отсоветовал» царю это похождение: пойдут сплетни и, по его сведениям, красавица больна дурной болезнью. Рассказывает это человек, бывший в Эрфурте, знавший все ходившие там сплетни, иногда слышавший их от самого Наполеона. Сам царь будто бы шутливо приписывал эту историю «личной злобе» Наполеона против артистки. Если личная злоба была, то едва ли артистка была ее предметом. По-видимому, Наполеон находился в Эрфурте в состоянии постоянного бешенства, тщательно, иногда тщетно, скрываемого.
Нервы у него были тогда совершенно издерганы. Он был лично бесстрашен, но как государственный деятель опасался всего: войны, мира, обмана со стороны монархов, предательства со стороны своих, роялистских заговоров и якобинской революции. Он взял с собой в Эрфурт мешочек с ядом! Его камердинер, спавший в Эрфурте рядом со спальней императора, рассказывает, что в ночь на 4 октября он вдруг услышал из спальной глухой дикий крик. Он вскочил. «Как будто кого-то душат! У меня волосы встали дыбом, и холодный пот выступил на всем теле!» Покушение! Убивают императора! Вместе со спавшим в той же комнате вооруженным мамелюком бросился в спальную. Никаких убийц не было, но Наполеон, лежа поперек кровати, бился в конвульсиях. Лицо его дергалось. «На него было страшно смотреть». Оказалось – кошмар. «Какой-то медведь грыз мою грудь!..» Император долго не мог прийти в себя. «Воспоминание об этом сне преследовало его очень долго. Не знаю, рассказывал ли Его Величество об этом сне императору Александру», – добавляет камердинер, верно, слышавший где-либо слова о «русском медведе».
Дипломатические встречи обычно ставят себе одну из трех целей (часто две или все три сразу): попытку «очаровать» партнера, выявление его целей и взглядов, пропаганду.
И Наполеон, и Александр имели твердую репутацию «шармеров». За Наполеоном ее признавали все видевшие его в лучшие минуты. Александра Сперанский (и не он один) называл «сущий прельститель», Армфельд говорил о нем: «Ангел! И умный ангел!» Эта несчастная вера знаменитых государственных людей в свое необыкновенное обаяние и его важность при личных встречах стара, как мир. Сказывалась она в Эрфурте, дала потрясающие результаты в Тегеране, в Ялте: даже маршал Петэн, «шармер» весьма сомнительный, надеялся очаровать Гитлера и Геринга. Теперь она, кажется, слабеет. На последней, только что удачно закончившейся сессии ООН было за 92 дня сказано 10 720 000 слов, но говорившие, по-видимому, уже не надеялись очаровать друг друга.
Когда теперь в связи с сессиями Объединенных Наций говорим о «пропаганде», что, собственно, имеется в виду? Какая-нибудь трехчасовая речь Вышинского никакого пропагандного значения не имеет прежде всего потому, что ее никто не читает. Полностью она печатается в официальных изданиях, почти недоступных читательской массе и совершенно неинтересных. Быть может, из ста тысяч европейских или американских читателей стенограммы речей в ООН просматривает один. Конечно, газеты дают извлечения размером от 20 до 200 строк. Но и в них, как, впрочем, и в стенограммах, никогда не бывает ничего такого, чего нельзя было бы прочесть в любом номере «Правды», «Известий» и сотен других таких же изданий. Разница лишь в том, что в коммунистической печати, особенно французской, все эти ценные мысли высказываются много занимательнее, чем в речах Вышинского или Малика. Газета, конечно, и лучше понимает, как надо эти мысли подавать своей национальной аудитории. Агитаторы где-нибудь в Персии или Пакистане нисколько не нуждаются в протоколах сессии ООН, да и, по-видимому, никогда в них не заглядывают. Говорю это и без поправки на отрицательное действие всякой пропаганды. Быть может, немало американцев «левеют», читая, например, речи Маккарти, и «правеют», заглядывая в «Нью мэссез».
В сущности, пропагандный эффект имеет только торжественная обстановка встреч. В несколько месяцев воздвигается с затратой огромных сумм ни для чего не нужное временное здание. Эрфуртское свидание недешево обошлось французской казне. Но затраченная ею сумма – гроши по сравнению с тем, во что обошлась, например, постройка здания около Трокадеро для сессии ООН (это здание скоро начнут сносить). Со всего мира съезжаются тысячи делегатов, экспертов, журналистов. «Вступительная речь»... «Заключительная речь»... «Большой прием в честь делегатов»... «Инцидент»... «Стычка»... «На трибуну поднимается Ачесон»... «Американский делегат дает отповедь Малику»... «Наш товарищ Вышинский произносит одну из лучших своих речей»... Эти заголовки в газетах нам смертельно надоели, но я допускаю, что какое-то очень небольшое пропагандистское влияние имеют. Только все это взаимно нейтрализуется и, главное, в одно ухо влетает, из другого вылетает.
До некоторой степени тем же в иных формах того времени занимался в Эрфурте Наполеон. Он так и говорил: «Я хочу удивить их своим блеском». Домом фабриканта Трибеля было трудно удивить царя. Но «два императора, четыре короля, тридцать принцев», исторические жесты на спектаклях труппы Тальма – все это могло немного подействовать на воображение Европы. Однако и пользы Наполеону было от этого мало. Когда пришли неудачи, короли и принцы быстро перекрасились и, должно быть, с неловким чувством вспоминали и восклицание «Дружба великого человека – благодеяние богов», и историческое рукопожатие, и рукоплескания. Разумеется, пропаганда велась и за кулисами: оба императора старались кое-как повлиять на королей и принцев. Но это делали именно обе стороны, и не очень успешная пропаганда уравновешивалась не очень успешной контрпропагандой. Настоящие пропагандисты – только факты. Так это и теперь. С той разницей, что Наполеон и Александр били в своих странах полновластны, тогда как Ачесон большой власти не имеет, Вышинский сам по себе не имеет никакой власти, и оба должны сноситься со своими столицами; таким образом, несмотря на колоссальные преимущества личных свиданий, все и в наше время сводится к «почте» – в ее нынешнем техническом облике.
И, наконец, выяснение целей партнера. Эта задача очень важна и необходима Иногда (не в Эрфурте) она в былые времена достигалась, прежде всего потому, что особенно страшных целей ни у кого не было. Все же для осуществления этой задачи нужна, чтобы люди не лгали. В политике без обмана обходятся редко, но ведь «количество переходит в качество». Даже такой реальный политик, как Бисмарк, часто говорил своим собеседникам правду, особенно за шампанским. Последнего обстоятельства и не отрицал, сам признавал некоторую свою слабость к хорошо пившим людям и с симпатией выделял одного французского политика, который его перепивал (что граничило с чудом). В Эрфурте был почти сплошной обман. Теперь же на правду со стороны партнера демократии, надеюсь, потеряли надежду: пора бы.