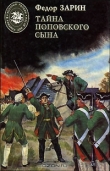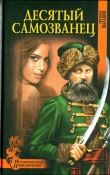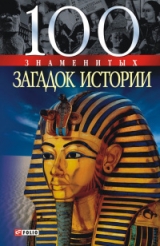
Текст книги "100 знаменитых загадок истории"
Автор книги: Мария Панкова
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц)
Некоторые историки полагают, что причиной всему была зависть короля. По их мнению, видя любовь народа к Жанне, он решил положить конец славе Девы и единолично присвоить все лавры. Жанна д’Арк, сожженная на костре, была предпочтительнее воскресшей Жанны д’Армуаз. Однако есть веские причины усомниться в этой интерпретации событий.
Прежде всего, Жанне уже во второй раз за ее короткую жизнь приписывают отступничество. Это никак не соответствует тому образу, который складывается при анализе ее собственных слов во время обвинительного процесса. Далее, если бы любовь народа к Жанне была так велика (и доверие к «воскресшей» д’Армуаз, надо заметить), ни о какой публичной казни не могло быть и речи. Да народ просто растерзал бы охрану и освободил Деву (ведь пришлось бы иметь дело не со всемогущей инквизицией, а только со светскими властями). Но почему-то никто не упоминает о каком-либо возмущении. Следовательно, сомнения в «подлинности» воскресшей Девы все-таки были, и немалые.
Еще одно косвенное доказательство дают документы, приводимые историками для подтверждения своей версии. Одним из свидетельств является счетная книга Орлеана, где сохранились две записи о выдаче денег. Первая относится к 1436 году, когда брат Жанны якобы ездил в Люксембург для встречи с сестрой. Вторая, датированная 1439 годом, говорит о получении суммы в 210 ливров самой Жанной. Деньги были выданы в благодарность за спасение города. Эти свидетельства сами по себе означают только то, что некто (необязательно сама Жанна) получил на руки определенную сумму. Брачный контракт, в котором указаны имена Жанны и ее соратников, мог быть легко подделан.
Проверенным принципом при изучении запутанных дел служит определение заинтересованных сторон. Кому было выгодно «воскресение» Жанны? Королю? Едва ли, он уже добился всего, чего хотел. К тому же, если бы инициатива исходила от короля, не было бы последующего разоблачения… Каким-то политическим силам? Народу? Но образ Орлеанской Девы, мученицы, отдавшей свою жизнь за Францию, не нуждался в дополнениях. В последнее время историки склоняются к мысли, что наибольшую выгоду от возвращения Жанны получили ее братья. Именно они были инициаторами всей авантюры. Именно они первыми признали в Жанне д’Армуаз свою погибшую сестру. Но, видимо, их предприятие зашло слишком далеко, и король решил положить конец вымогательству.
Трудно сказать, на чьей стороне истина. И кто на самом деле сгорел на костре инквизиции в Руане. Впрочем, кем бы ни была Жанна д’Армуаз, свою роль она сыграла безупречно. Великая актриса, великая самозванка… Бледное подобие Орлеанской Девы.
РАЙ И АД ЖИЛЯ ДЕ РЭ
Знакомство с жизнью Жиля де Рэ заставляет вспомнить древнюю мудрость о том, что в душе каждого человека заключены и рай, и ад. Преданный соратник Жанны д’Арк, рыцарь без страха и упрека, заслуживший титул маршала Франции, – и чудовище, убийца детей, дьяволопоклонник…
Жиль де Рэ познал на своем веку столько, что этого с лихвой хватило бы на не одну человеческую судьбу. Были взлеты и падения, небывалая роскошь и разорение, благочестие и неверие… Он был сожжен по обвинению в колдовстве, противоестественных пороках и массовом ритуальном детоубийстве.
Жиль де Рэ родился около 1404 года в замке Машкуль на границе Бретани и Анжу. Его отец, Ги II де Лаваль, умер в конце октября 1415 года, а мать, Мари де Краон, вскоре вышла замуж за барона Сью д’Этувиль, вверив Жиля и его брата Рене заботам своего престарелого отца Жана де Краона, барона Шантосе и Ля Сюз. Молодой барон проявил себя практически во всех высоких искусствах того времени. Он знал древние языки, великолепно фехтовал, считался знатоком соколиной охоты, с детства увлекался книгами, собрал прекрасную для того времени библиотеку.
По настоянию деда Жиль женился в шестнадцать лет на Катрин де Туар. Невеста приходилась Жилю двоюродной сестрой, поэтому вопрос о венчании решался непросто. Но связи и деньги помогли уладить все недоразумения. Этот семейный союз, как и многие браки того времени, строился на расчете: к владениям семьи де Рэ прибавилось обширное поместье в Бретани. Кроме того, через жену Жиль породнился с будущим королем Карлом VII. Отчуждения между супругами не было. Катрин пользовалась уважением мужа, особенно после рождения дочери. Но в удовольствиях на стороне Жиль себе не отказывал – опять же, по обычаю того времени.
Уже в молодости в нем проявилась тяга к мистицизму, ко всему, что лежит за гранью человеческого понимания. Когда в Шиноне появилась Жанна д’Арк, Жиль де Рэ встал под ее знамя. Точно неизвестно, выполнял ли он поручение короля или, по легенде, был избран из множества претендентов самой Жанной. Но Орлеанской Деве Жиль был предан до самой ее смерти, прошел с ней весь путь от Орлеана до Парижа, участвовал в коронации Карла VII. Немногим известно, что большую часть расходов по созданию армии, которую возглавила Святая Жанна, нес Жиль де Рэ. За выдающиеся заслуги он был произведен в маршалы Франции, удостоившись чести включить в свой герб королевские лилии. Но в то время для него было важнее другое: быть свидетелем чуда, защищать посланницу Бога. Жанна не принадлежала этому миру, она беседовала со святыми, и Жиль, находясь рядом с ней, чувствовал близость Небесного Престола. Он был единственным человеком, который попытался спасти Деву. Но собранное им войско опоздало, и Жанна погибла. После ее гибели Жиль отказался служить королю, предавшему героиню Франции. В честь Жанны д’Арк он заказал «Орлеанскую мистерию» и в течение десяти лет оплачивал ее ежегодные постановки.
С гибелью Жанны что-то оборвалось в душе Жиля де Рэ. Возможно, смерть Девы оказала на него столь сильное потрясение, что поколебалась сама его вера… А может быть, его мистицизм только углубился, и Жиль решил самостоятельно разгадать тайны бытия… Нам известны лишь внешние обстоятельства его жизни. Расставшись с королевским двором, Жиль де Рэ вернулся в замок Тиффож. Благодаря своему богатству, он создал в своих владениях королевство в королевстве.
Барон жил, окружив себя пышной свитой, содержал более 200 телохранителей, причем не простых солдат, а рыцарей, дворян, пажей высокого ранга, каждый из которых был разодет в парчу и бархат и имел собственную свиту. Церковь в его замке пышностью напоминала Ватикан. Каждый день в ней проводились праздничные мессы, служба шла с соблюдением всех ритуалов. Церковные одеяния блистали золотом и драгоценными камнями. На алтаре стояли массивные золотые подсвечники, чаши для причащения и омовения, дароносицы, купели, сосуды для мира были золотыми, гробницы, из которых самой роскошной была гробница Святого Оноре, усыпали драгоценности.
Дом Жиля де Рэ был открыт для гостей днем и ночью. Хозяин охотно принимал у себя художников, поэтов, ученых. Столы были накрыты круглосуточно. Гостеприимный де Рэ кормил не только охрану и служащих, но и путешественников, проезжавших мимо замка. Сам он любил редкие пряные блюда и дорогие вина с Кипpa или с Востока, в которых были растворены кусочки янтаря. На дармовое угощение, как мухи на мед, слетались прихлебатели, и огромное состояние растаяло меньше чем за восемь лет.
Чтобы исправить положение, Жиль де Рэ начинает закладывать свои замки, продавать земли. Жена уехала от него к родителям, его младший брат Рене потребовал раздела имущества и добился разрешения короля на это. В 1436 году Карл VII запретил Жилю дальнейшие продажи. Но покупатели все же находились: слишком лакомым куском были владения де Рэ. Вскоре он оказался на грани катастрофы и решил обратиться к алхимии, надеясь вернуть утраченное богатство и, может быть, обрести в придачу вечную молодость.
Во времена де Рэ существовал эдикт Карла V, запрещавший под страхом тюремного заключения и даже виселицы заниматься черной магией. Оставалась в силе и специальная булла папы Иоанна XXII, предававшая анафеме всех алхимиков. Эти крайние меры способствовали популярности чернокнижия. Привлекал и сам «запретный плод», и кажущаяся легкость обогащения. Впрочем, история не сохранила ни одного имени алхимика, сумевшего отыскать философский камень и раскрыть тайну получения золота из других металлов. Жиль не избежал общей участи.
Вначале он пытался освоить старинные манускрипты самостоятельно. Но сделать это оказалось не так просто: тексты были неясными, сложные аллегории перемежались в них метафорами, символами, туманными притчами и загадками. Тогда он воспользовался помощью известного оккультиста, своего кузена Жиля де Силле, священника из церкви Святого Мало. Как только слух о его занятиях просочился за стены замка, Жиля де Рэ осадила целая толпа шарлатанов. В Тиффоже запылали печи, и новоявленные помощники с немалым рвением принялись за опыты. Когда Жиль убедился, что понапрасну тратит деньги, не получая никакого результата, он решил просить помощи у более могущественных сил. Дважды он обращается к колдунам (Жану де ла Ривьеру и дю Меснилю), подписывает собственной кровью обязательство отдать душу дьяволу… Но вскоре убеждается, что перед ним очередные мошенники.
Если в начале жизни рядом с Жилем де Рэ была святая, теперь пришел черед демона. Роль искусителя в судьбе Жиля сыграл итальянский колдун Франческо Прелати, магистр черной магии, алхимик и сатанист. Этот ловкий мошенник убедил своего ученика, что в обретении богатства невозможно обойтись без помощи Сатаны. У Прелати был личный демон по имени Барон, являвшийся, впрочем, только своему хозяину. Путем ловких манипуляций и фокусов Франческо продемонстрировал Жилю возможность общения с нечистой силой. Для того чтобы обрести власть над демоном, не хватало только одного: кровавой жертвы. Сатану, говорил Прелати, надо услаждать кровью детей. Тогда он будет благосклонен к своим слугам и осыплет их богатством.
Началась череда убийств. Народная молва приписала Жилю гибель 800 детей. Материалы инквизиторов рисуют еще более страшную картину: посланники Жиля охотились за детьми, то заманивая их в замок подарками, то просто похищая. С 1432 по 1440 гг. продолжались оргии, и в дьявольском притоне умерщвлялись дети из разных концов страны. Их участь была ужасной. Вначале Жиль удовлетворял свою похоть, а затем собственноручно убивал детей, принося их в жертву Сатане. По свидетельствам слуг, Жиль перерезал своим жертвам горло, вырывал внутренности, расчленял трупы, коллекционировал понравившиеся головы…
Действительно ли Жиль де Рэ был виновен в тех злодеяниях, которые ему приписывают? Прямого ответа на этот вопрос нет, однако косвенные свидетельства позволяют утверждать, что многие материалы обвинения были сфабрикованы, арест Жиля был спровоцирован, а обвиняли его заклятые враги.
Уже упоминалось о том, что Жиль де Рэ большинство своих поместий не продавал, а отдавал в залог с правом выкупа в течение шести лет. Его соседи – герцог бретонский Жан V и его канцлер, епископ нантский Малеструа – довольно быстро сообразили, что в случае смерти Жиля его владения останутся невыкупленными и перейдут в собственность кредиторов. Проследив за владельцем замка Тиффож, они выяснили, что он занимается магией и, по слухам, приносит человеческие жертвы Сатане. Этого было вполне достаточно, чтобы осудить барона, однако его могущество было все еще велико, и напасть на него в открытую враги не решились. Благоприятный случай не заставил себя долго ждать. Жиль поссорился с Жаном Ферроном, лицом духовного звания и братом одного из кредиторов. В порыве гнева он преследовал противника до церкви, затем вошел в храм с оружием и силой увел Феррона в свой замок, где заковал и бросил в подвал. Это грозило нешуточными неприятностями.
Герцог бретонский послал к строптивому барону свое требование: немедленно освободить пленника. Жиль избил посланника и его свиту, и герцог осадил замок Тиффож. Барону пришлось капитулировать. Он сделал попытку примириться с герцогом, был даже радушно принят у него в замке. А в это время недоброжелатели усердно распускали слухи о его связи с Сатаной.
Первую атаку на барона де Рэ начал епископ Малеструа. Он сделал заявление о всех известных ему злодействах Жиля, об умерщвлении им детей при его эротических неистовствах, о служении дьяволу, занятиях колдовством. Епископ вызвал Жиля на духовное судилище и тот, получив эту повестку, явился на суд без всякого сопротивления. Близкие слуги Жиля и Прелати были арестованы и отправлены в Нант. Только двое из них, Силье и Брикевиль, попытались скрыться. К обвинению епископа вскоре присоединились инквизиция и гражданский суд.
Первое открытое заседание суда было заранее отрепетированным спектаклем. Со всех окрестных земель были собраны родители, у которых пропали дети. Их убедили в том, что во всем виноват Жиль де Рэ. 8 октября 1440 года зал суда был переполнен народом. Матери выкрикивали проклятия в адрес барона и благословляли суд, положивший конец злодеяниям. Слуги Жиля были предварительно «обработаны» в застенках судилища, и их показания выставили Жиля де Рэ чудовищем.
Обвинение, насчитывавшее около 500 пунктов, охватывало три главных вопроса: оскорбление служителя церкви (за совершение насилия над Ферроном); вызывание демонов; убийства детей, отягощенные издевательствами и сексуальными извращениями. Прокурор, ознакомившись с обвинением, дал заключение о распределении подсудности. Многие пункты не были подсудны епископскому суду, и к процессу подключились инквизиторы.
Жилю не дали адвоката и не допустили в суд его нотариуса. Он отрицал свою вину, клеймил судей, но на его крики не обращали внимания. Когда после чтения обвинительного акта барон коротко ответил на обычный вопрос, что весь этот документ – сплошная ложь и клевета, епископ торжественно произнес его отлучение от церкви. Де Рэ требовал над собою другого суда, но его протест объявили произвольным и необоснованным.
Тем не менее, повторный суд состоялся. А вместе с ним в истории де Рэ появились новые загадки. Когда он вновь предстал перед судом, это был совсем другой человек. Жиль кротко покорился суду, преклонил колено перед епископом и инквизитором, даже стонал и рыдал, принося искреннее раскаяние и умоляя, чтобы с него сняли отлучение. В своих злодействах он тут же принес повинную. В процессе дознания Рэ был подвергнут пытке, пока не пообещал сознаться «добровольно и свободно» (как отмечено в судебных отчетах). Чтобы Жиль не отрекся от признания, ему была обещана милость в виде удушения перед сожжением. Но существует и другая версия. Жильберу Пруто удалось отыскать документы, подтверждающие, что во время суда Жиль де Рэ находился в «мистико-алкогольном умопомрачении», вызванном насильственным принятием ежедневно пяти литров «ипокраса» (местного вина крепостью в 22°), куда подмешивалась еще и белена.
Суд продолжался недолго. Особенно ценны были показания Прелати, который дал удивительно обстоятельную и пространную картину магии и некромантии, которым при его участии предавался Жиль де Рэ. Удивительно, но Прелати, явный некромант, человек, обладавший прирученным чертом, избежал не только смерти, но и вообще наказания. Его выпустили на свободу живым и здоровым. А Жилю зачитали приговор: «Повесить и сжечь; после пыток, перед тем как тело будет расчленено и сожжено, оно должно быть изъято и помещено в гроб в церкви Нанта, выбранной самим осужденным».
Накануне казни гордый барон рыдал и стонал перед народом, просил прощения у родителей загубленных им детей, молил примирить его с церковью, просил своих судей молиться за него. Картина раскаяния великого грешника произвела глубокое впечатление. После его казни немедленно была устроена торжественнейшая процессия. Духовенство и целая толпа народа, только что перед тем его проклинавшая, с молитвенным пением шла по улицам, моля за упокой его души.
История Жиля де Рэ окружена таким густым туманом легенды, созданной в ходе процесса, что уже невозможно разглядеть подлинные черты бывшего сподвижника Жанны д’Арк. Жиль де Рэ превратился в «Синюю Бороду» народных сказаний. В одной бретонской балладе имя Синей Бороды и Жиля де Рэ так чередуется в куплетах, что оба лица, очевидно, считались за одно. Народная фантазия превратила замученных детей в убитых жен. А синий цвет бороды, вероятно, объясняется просто: Жиль рано поседел, а испарения химических препаратов окрасили его бороду в синий цвет.
БЫЛ ЛИ ЗЛОДЕЕМ РИЧАРД III?
Как историческая личность, английский король Ричард III, чье правление длилось не более двух лет, занимает в истории Англии не столь уж важное место. Однако благодаря таланту Томаса Мора и гению Уильяма Шекспира Ричард III стал воплощением демонического злодейства, хотя он был ничем не хуже большинства других королей, да и прочих «выдающихся деятелей», у которых и жестокости, и вероломства было, наверное, побольше.
Начнем с Томаса Мора. Биографию Ричарда III (1452–1485), последнего из династии Йорков, Мор писал в 1513 году, основываясь при этом на рассказах своего друга и наставника архиепископа Кентерберийского Джона Мортона, активного участника войны Алой и Белой розы. Сказать, что Мортон был беспристрастным историографом, никак нельзя. Будучи сторонником ланкастерской партии, он затем перешел на сторону Эдуарда IV, а после его смерти был участником попытки клана Вудвиллов захватить власть. Когда же королем стал Ричард III, Мортон бежал к его сопернику и претенденту на корону Генриху Тюдору, при котором получил пост лорд-канцлера и должность архиепископа Кентерберийского, а в завершение карьеры, по ходатайству Генриха, был возведен Папой Александром VI Борджиа в сан кардинала.
Несомненно, Мортон изображал Ричарда в самых черных красках, каким и воспроизвел его Томас Мор в своей хронике «История Ричарда III». Правда, Мор преследовал и собственную цель, ему важно было осудить королевский произвол, жестокость и деспотизм, что можно было сделать на примере Ричарда III, признанного властью злодеем.
Другие историки эпохи Тюдоров, писавшие о войне Алой и Белой розы, особенно приглашенный Генрихом VII гуманист Полидор Вергилий, официальный историограф короля, столь же пристрастны в освещении истории Ричарда III («История Англии» Полидора Вергилия, начатая в 1506 г., была опубликована в 1534 г.).
Именно этими версиями и воспользовался Шекспир, писавший о деяниях Ричарда III, спустя более чем столетие. В его изложении картина представляется следующей. После смерти Эдуарда IV в апреле 1483 года королем был провозглашен его сын, малолетний Эдуард V, а регентом назначен брат Ричард, герцог Глостерский, впоследствии знаменитый Ричард III.
По описанию драматурга мрачная фигура хромого Ричарда предстает в образе коварного и зловещего убийцы, устранявшего одного за другим родственников, стоявших на пути к трону. Считалось, что именно по наущению Ричарда был убит в Тауэре Генрих VI, казнен взятый в плен его сын принц Эдуард, что по приказу Глостера умертвили его брата Джорджа, герцога Кларенского (по слухам, убийцы утопили его в бочке с вином). Этот горбатый, уродливый человек шел к трону, не останавливаясь ни перед какими преступлениями.
Прежде всего Ричард поспешил расправиться с родственниками королевы – Вудвиллами, которые могли оспаривать у него влияние на Эдуарда V. Брат королевы Энтони Вудвилл (граф Риверс), ее сын от первого брака лорд Грей и другие вельможи были схвачены и переданы в руки палача. Еще до этого Глостер женился на Анне Уорик, дочери убитого им или при его участии графа Уорика и невесты (у Шекспира – жены) принца Эдуарда, сына Генриха VI. Сцена обольщения Глостером Анны у гроба короля Генриха VI принадлежит к числу наиболее известных мест в трагедиях гениального драматурга. В ней Шекспиру удалось показать всю силу безграничного вероломства и кошачьей изворотливости герцога Глостерского, сумевшего привлечь на свою сторону женщину, страстно его ненавидевшую за преследование и убийства ее близких. Ричард предстает в этой сцене не просто злодеем, но человеком выдающегося ума, огромных способностей, служащих ему, чтобы творить зло.
Разумеется, Ричард хорошо знал, что покойный Эдуард IV, прижив двух сыновей от законной супруги Элизабет Вудвилл, до этого брака был помолвлен еще с двумя невестами, одна из которых была дочерью Людовика XI. Поэтому у него были все основания посчитать брак Эдуарда с Элизабет Вудвилл незаконным, что и было сделано в июле 1483 года, после того как на заседании Королевского совета епископ Батский провозгласил покойного короля двоеженцем, а его двух сыновей, в том числе и наследника Эдуарда V, – бастардами, то есть незаконнорожденными. Эдуард V был лишен престола и вместе со своим младшим братом Ричардом посажен в Тауэр. Мальчиков после этого видели лишь несколько раз, и об их дальнейшей судьбе долго не было ничего известно. Однако уже тогда ходили слухи, впоследствии подтвердившиеся, об умерщвлении принцев. Убийство детей считалось особенно тяжким преступлением и по тем суровым временам. В шекспировской хронике, когда Ричард предлагает осуществить его герцогу Бэкингему, даже этот верный сторонник кровавого короля отшатывается в ужасе. Правда, палач вскоре нашелся – Ричарду представили сэра Джеймса Тирела, который в надежде на милость монарха согласился исполнить его черный замысел. Слуги Тирела, Дайтон и Форрест, по словам их хозяина, «два стервеца, два кровожадных пса», задушили принцев.
Ричард, хотя и смущен содеянным, все же упрямо идет к своей цели. Главное для него – не допустить к престолу Генриха Тюдора, который готовился во Франции к высадке на английскую землю, пытаясь привлечь на свою сторону всех недовольных правлением Ричарда со стороны представителей Йоркской партии. Первая попытка Генриха высадиться в Англии осенью 1483 года закончилась провалом. А поднятое восстание против Ричарда потерпело полную неудачу. Флот Генриха разметало бурей, и король с трудом добрался до Бретани. В августе 1485 года Генрих снова высадился со своими сторонниками у себя на родине, в Уэльсе, и двинулся навстречу спешно собранной королевской армии.
Битва при Босворте была скоротечной. Водрузив корону поверх шлема, Ричард III лично ринулся в схватку. Конь под ним был убит железной стрелой из арбалета (именно на основе этого эпизода и родилась знаменитая шекспировская строчка в трагедии «Ричард III» – «Коня! Коня! Полцарства за коня!»). Одержимый стремлением вступить в рыцарский поединок с Генрихом, Ричард потерял осторожность, оторвался от своих и оказался окруженным врагами. Один из оруженосцев Тюдора нанес ему сзади и слева страшный удар боевым топором в плечо. Он оказался такой силы, что король Ричард был разрублен чуть ли не до седла, его шлем смялся в лепешку, а золотая корона отлетела в кусты.
Подобрав символ власти, Генрих Тюдор под приветственные крики тут же и короновал сам себя. А обнаженное тело Ричарда III перебросили через спину лошади. Длинные волосы бывшего короля подметали дорожную пыль. В таком виде труп доставили в Лондон. Династия Йорков перестала существовать!
Такова общая картина драмы, какой она представлялась Шекспиру на основании указанных выше источников. Ее исторический фон вполне можно считать достоверным. Другой вопрос – оценка самого Ричарда III и степень ответственности за приписываемые ему преступления. Здесь важно заметить, что после изложенных драматургом событий в течение более ста лет престол находился в руках победителя Ричарда Генриха Тюдора (впоследствии короля Генриха VII) и его потомков. Во время написания трагедии на троне царствовала внучка Генриха VII, королева Елизавета I. И это обстоятельство, несомненно, предопределяло отношение любого писателя той эпохи к фигуре Ричарда III, от которого Англию «спас» основатель новой династии Тюдоров.
Но именно с эпохи Елизаветы I начали появляться историки, которые называли себя «защитниками самого очерненного короля», всячески оспаривая свидетельства хронистов династии Тюдоров в отношении того, действительно ли Ричард был таким ужасным тираном, каким его изображает Шекспир. В частности, под сомнение ставился факт убийства Ричардом в мае 1483 года собственных племянников, малолетних принцев – Эдуарда V и Ричарда. В ходе предпринятых историками разысканий так и не удалось окончательно установить вину или невиновность Ричарда, но не подлежит сомнению, что как сам характер короля, так и прочие преступления, приписываемые ему в пьесе, представляют собой яркую художественную инсценировку тюдоровских искажений и измышлений. Вопреки Шекспиру, Ричард не был «горбатой гадиной», сухоруким и колченогам. Это был привлекательный, хотя и довольно хрупкого сложения принц, который слыл ведущим полководцем в королевстве, так что его можно назвать самым удачливым, после брата Эдуарда IV, воителем Европы той эпохи. В годы правления Эдуарда IV он вовсе не пускался в злодеяния и заговоры, а был верным и неизменно преданным помощником брата во всех его делах. В годы поражений и побед (1469–1471), когда Эдуарду, наконец, удалось сокрушить коалицию Йорков и Ланкастеров, Ричард, герцог Глостер, констебль и адмирал Англии, лорд Севера, был главной опорой брата. Стоит отметить его успехи в деле управления севером Англии и победы, одержанные над шотландцами (1480–1482).
Для того чтобы восстановить подлинную картину тех драматических событий, ученые не раз обращались к документам, относящимся ко времени правления Эдуарда IV и особенно самого Ричарда III, изданным при Ричарде законам, королевским распоряжениям, донесениям дипломатов и другим немногочисленным материалам, которые не были уничтожены победившими Тюдорами. В частности, в документах, относящихся ко времени, предшествующему битве при Босворте, нет никаких упоминаний о физических недостатках «горбуна» Ричарда, которые в тюдоровский век выдавали за внешнее проявление дьявольской натуры последнего короля Йоркской династии! Они рисуют Ричарда способным администратором, неизменно сохранявшим верность Эдуарду IV, даже когда ему изменил другой брат короля – герцог Кларенс. Все его действия не обнаруживают ни особого пристрастия к интриге, ни жестокости, которая отличала бы его от других главных участников войны Алой и Белой розы.
Что касается умерщвления принцев, то эту легенду некоторые исследователи называют самым известным детективом в истории Англии. Как это ни удивительно, но версия об убийстве Ричардом его племянников, рассказанная Шекспиром, принимавшаяся за истину миллионами зрителей и читателей его драматических хроник, повторявшаяся на протяжении столетий в сотнях исторических книг, базируется на весьма шаткой основе. Конечно, участники тайного злодейства, заботясь о своих интересах, а не об удобствах будущих историков, по самой логике вещей не должны были оставлять такие следы, которые можно было бы счесть за несомненные доказательства вины герцога Глостера. Трудно предположить, чтобы он отдавал своим шпионам письменные распоряжения об убийстве племянников, а те представляли верноподданнические, тоже письменные, отчеты о совершенном преступлении. А если и существовали такого рода документы, восходившие ко времени убийства и к непосредственным его участникам, то у них было очень мало шансов осесть в государственных и частных архивах и сохраниться до тех дней, когда исследователи стали разыскивать следы былой трагедии.
Любопытен и другой факт. В 1674 году при ремонте одного из помещений Белого Тауэра (здания внутри крепости) рабочие нашли под лестницей два скелета, которые предположительно могли быть останками Эдуарда V и его брата. Их предали захоронению в Вестминстерском аббатстве, издавна служившем усыпальницей английских королей.
В 1933 году останки были извлечены и подвергнуты серьезному медицинскому обследованию. Вывод гласил, что кости принадлежат подросткам, одному из которых 12–13 лет, а другому – 10. Примерно столько же лет было принцам в 1483–1484 годах. Но утверждение медиков, что обнаружены следы насильственной смерти от удушья, оспаривалось как недоказуемое – на основании сохранившейся части скелетов. Некоторые эксперты высказали предположение, что старший из подростков был моложе Эдуарда V. Выражалось даже сомнение в том, что скелеты принадлежат детям мужского пола. Как бы то ни было, экспертиза не установила главного – возраста этих останков (это, кстати, сложно определить даже сейчас). В одном можно согласиться с выводами комиссии – если два найденных скелета – дети Эдуарда IV, то они действительно были убиты весной 1483 года, то есть в начале правления Ричарда III или спустя несколько месяцев. Но это «если» сводит на нет доказательную силу вывода.
Такова основная версия загадки Ричарда III, на основе которой Шекспир написал свое произведение. Насколько она верна, сказать трудно, поскольку, как мы видим, имеется много неточностей, что свидетельствует об одном: пока не установлено, что найденные останки точно принадлежат принцам, сделать окончательное заключение невозможно. Только время может показать, что скрывается за «загадкой» личности Ричарда III и можно ли вообще ее разгадать.
Скорее всего, правду уже не узнать ни нам, ни нашим потомкам, несмотря на верность старой английской пословицы, которая гласит: «Правда – дочь времени». Но известно другое – иные легенды поразительно живучи, и не так-то просто истребить их из человеческой памяти, какие бы доказательства ни появились в ходе дальнейших исторических исследований судьбы одного из самых загадочных английских правителей.
ХРИСТОФОР КОЛУМБ, НЕ ОТКРЫВШИЙ АМЕРИКУ
Имя Христофора Колумба приобрело мировую известность после открытия Америки. Сегодня исследователи ставят под сомнение славу первооткрывателя, предлагая альтернативные версии событий, сопутствовавших знакомству европейцев с Новым Светом.
Если исходить из официально признанной биографии Колумба, становится ясно, что о его жизни известно не так уж и много. Христофор Колумб (исп. Colon, Cristobal; итал. Cristoforo Colombo), знаменитый испанский мореплаватель, родился в 1451 году в Генуе. Рано стал моряком, плавал по Средиземному морю вплоть до острова Хиос в Эгейском море. Возможно, был купцом и командовал судном. В середине 1470-х годов Колумб осел в Лиссабоне. Под португальским флагом плавал на север, в Англию и Ирландию, а возможно, и в Исландию. Посетил Мадейру и Канарские острова, ходил вдоль западного побережья Африки до португальского торгового пункта Сан-Хорхе-да-Мина (современная Гана). Своим планом экспедиции в Азию Колумб пытался заинтересовать Португалию и Британию, но дважды потерпел неудачу.