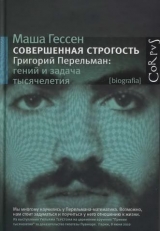
Текст книги "Совершенная строгость. Григорий Перельман: гений и задача тысячелетия"
Автор книги: Мария Гессен
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Глава 4. Высший класс
Когда ученики Валерия Рыжика переходили в выпускной класс, он вызывал родителей некоторых из них на деликатный разговор и просил трезво оценить шансы поступления детей в вуз. Рыжик, которого не взяли в университет из-за того, что он был евреем, пытался предостеречь родителей, не уделявших национальному вопросу достаточного внимания, от лишней траты сил и времени.
Математико-механический факультет Ленинградского государственного университета держал квоту – два студента-еврея в год – достаточно твердо, но не проявляя чрезмерного усердия. Во всяком случае, известно, что, в отличие от МГУ, на ленинградском матмехе не штудировали родословные абитуриентов, выискивая у них еврейские корни. Однако в ЛГУ могли "срезать" поступающих, чьи имена выглядели "подозрительно".
"У меня была ученица Ольга Филипович, – вспоминал Рыжик. – Это не еврейская фамилия, но для кого-то звучит вполне по-еврейски, и ее на вский случай в университет не взяли – поставили непроходной балл за сочинение. Ее мать пришла жаловаться в приемную комиссию и заявила, что ее дочь заняла первое место на городской олимпиаде по литературе, а потом осторожно предположила: "Это из-за нашей фамилии?" Ей ответили: "У нас нет времени проверять". Так Ольгу переехала система".
Итак, родителей следовало подготовить к испытаниям и, если необходимо, обратить их внимание на вузы с более либеральными правилами приема. Рыжик сформулировал для себя правило: не говорить ученикам о трудностях, которые их ждут. Он предоставлял родителям возможность самостоятельно ознакомить ребенка с фактами. Сам он это делал только в случае крайней необходимости.
Рыжик ненавидел вмешиваться. И уж точно он не хотел становиться добровольным помощником абсурдной и жестокой системы дискриминации. Но когда он вынужден был это делать, он заводил с родителями "обычный разговор": нужно хорошо подумать над тем, в какой вуз отправить ребенка; должен быть запасной вариант; ребенку нужно как-то объяснить его неудачу.
Школьники уже были, кстати, не вполне детьми: школу в СССР заканчивали в 17-летнем возрасте. Но они были слишком юны, чтобы до конца осознать, как высока была ставка. Советская система поступления в вуз состояла из четырех-пяти устных и письменных экзаменов, явиться на которые абитуриент обязан был лично. Тем не менее выпускник школы вполне успевал попытать счастья в двух вузах за одно лето.
Провалившегося на вступительных экзаменах юношу ждала армейская служба. Когда Перельман заканчивал школу, шел третий год войны в Афганистане, и Советскому Союзу постоянно нужны были в этой стране не менее 80 тысяч военных. Вероятность отправить сына на войну пугала родителей более всего.
У исключительно одаренного математически юноши– еврея были три возможности получить высшее образование: а) идти не в ЛГУ, а в другой вуз, где правила приема были мягче; б) поступать в ЛГУ в надежде на то, что он окажется одним из двух евреев, которых ежегодно принимали на матмех; в) стать членом команды, которая представляла СССР на Международной математической олимпиаде (в сборную входили 4—8 человек) – этих ребят принимали в любой вуз страны без экзаменов.
Борис Судаков (Рукшин считал его не менее талантливым, чем Перельман, но в олимпиадах он выступал не очень удачно) выбрал первый путь. Александр Левин, признанный номер два в маткружке, выбрал вторую стратегию. А у Перельмана в последнем классе школы были одна серебряная и одна золотая медаль, заработанные на Всесоюзной математической олимпиаде, и ни у него, ни у окружающих не было сомнений в том, что он поедет на международные состязания и вернется победителем, обеспечив себе место в ЛГУ.
Это было большим облегчением для Валерия Рыжика: ему ужасно не хотелось вмешиваться в жизнь ученика, которого он очень уважал, – особенно оттого, что доказать существование дискриминации на вступительных экзаменах ни Грише, ни его матери было бы невозможно. Любовь Перельман, кажется, всегда обладала необычайным даром не замечать очевидное, и этот дар она передала сыну
Основная забота родителей – что, как и когда рассказать своему ребенку – была сопряжена со страхом: обычное дело в тоталитарном обществе, где преследовали инакомыслящих. Что, если ваш ребенок скажет не то, что нужно, не там, где следует, и тем самым поставит семью под угрозу? Мои родители, активные потребители самиздата и иногда его авторы, предоставили мне свободный доступ к информации, предупредив о необходимости держать рот на замке. Несколько раз я сболтнула лишнее, но, к счастью, это осталось незамеченным. Я всегда была благодарна родителям за то, что они относились ко мне как к взрослой, несмотря на риск, который кому-то казался неприемлемым. Другие родители воздерживались от обсуждения со своими детьми вещей, о которых нельзя упоминать в разговоре с чужими. Любовь Перельман, кажется, избрала еще более радикальную стратегию: она убедила сына, что мир таков, каким должен быть.
"Он не верил, что в СССР был антисемитизм", – Рукшин несколько раз заявил мне это с тем же радостным удивлением, с которым он делился со мной наблюдением, что Григорий Перельман никогда не интересовался девушками (это, по мнению Рукшина, являлось свидетельством беспримерной чистоты Перельмана). Когда я спросила Голованова – тоже еврея, – правда ли это, он смешался. Он не обсуждал это с Перельманом, но кто, находясь в здравом уме, верил, что в Советском Союзе не было антисемитизма? "Гриша – очень умный человек", – неоднократно говорил мне Голованов.
Как можно было верить или не верить во что-нибудь столь очевидное, как государственный антисемитизм в СССР? Но тут возникают два вопроса: что такое вера и что такое очевидность? Советский антисемитизм не поддавался количественному анализу. Он не был абсолютным: ограниченному числу евреев все-таки позволяли учиться на матмехе. И никогда о дискриминации по национальному признаку не объявляли открыто: когда еврея увольняли с работы или, например, лишали возможности поступить в вуз, в качестве официальной причины "пятый пункт", конечно, не фигурировал.
Когда Перельману было тринадцать, все победители ленинградских математических олимпиад его возраста оказывались, во-первых, воспитанниками Рукшина, во-вторых, евреями. Фамилии призеров и участников, специально отмеченных жюри, были, например: Альтерман, Левин, Перельман, Цемехман. Это не просто еврейские фамилии – это вызывающе, стопроцентно еврейские фамилии. Рукшин вспоминал, как университетский профессор (кстати, сам еврей), который возглавлял жюри в тот год, взглянул на список и вздохнул: "У нас должно было быть меньше таких победителей". Начиная с восьмого класса тех, кто занимал первое и второе места на городской олимпиаде, допускали к следующему туру соревнований. Победитель представлял свой город на Всесоюзной олимпиаде. Как и следовало ожидать, победителями в том году стали воспитанники Рукшина. Александр Васильев и Николай Шубин заняли первое место, Григорий Перельман с еще двумя мальчиками и девочкой из рукшинского кружка – второе.
Правила соревнований определяли, что в отборочном туре должны участвовать шесть подростков. Однако все шестеро оказались евреями. Фамилии первых двух, правда, не выглядели настолько "подозрительно", как "Перельман". Васильев – русская фамилия; Шубин – нет, хотя и не звучит для юдофобов столь вызывающе. Поэтому, чтобы избежать выволочки от начальства, организаторы соревнований решили отказаться от проведения отборочного тура и отправить на всесоюзную олимпиаду Васильева или Шубина.
Рукшин повел с ними войну за то, чтобы отборочный тур все-таки состоялся и Перельман принял в нем участие. Амбиции Рукшина столкнулись с несправедливостью системы, и тренеру почти удалось переломить ситуацию. Организаторы все же согласились провести отборочный тур, но состязаться должны были только Шубин с Васильевым. "Я просил, я ругался, я кричал, я пугал", – вспоминает Рукшин. Перельмана к состязаниям не допустили, но позволили ему прийти туда для того, чтобы просто попрактиковаться в решении задач.
Перельман отказался. "Он повторял, что в самом деле решил меньше задач, чем Шубин или Васильев, – рассказал Рукшин. – Я хочу сказать, что если советский режим и сумел воспитать правильного еврейского мальчика, который был уверен, что человека всегда награждают по заслугам, то это был Гриша". Рукшин все же убедил Перельмана пойти на состязания.
Гриша решил семь задач из семи (следующий результат – три из семи) и отправился на всесоюзные соревнования. Рукшин записал себе в актив еще одну стратегическую победу в войне с государственным антисемитизмом, даже если Перельман показал, что существование антисемитизма не может быть доказано. Так зачем тогда в это верить? Это как верить в то, что объект является сферой потому, что он похож на сферу – до тех пор, пока не найдешь в ней маленькое отверстие.
Мой отец не смог сдать экзамены в университет по той же причине, что и Рыжик. Моя мать ушла с экзамена после того, как увидела слово "еврейка", написанное в ведомости рядом со своей фамилией. Мои родители знали о дискриминационной практике приема в вуз, но оба полагались на свои способности и знания. Они говорили о моем будущем поступлении в институт с ужасом. Теперь я понимаю, что это был за кошмар – пытаться объяснить ребенку, что мир бывает несправедлив и что все его попытки исправить положение – тщетны. Этот ужас был одной из главных причин их решения эмигрировать из СССР.
Любовь Перельман всегда поступала так, будто реальность сообразовывалась с правилами. И в этот раз реальность решила сотрудничать с ней – с помощью небольшой группы поддержки Гриши Перельмана.
Осенью 1981 года Александр Абрамов, молодой тренер советской сборной на Международной математической олимпиаде, приехал в Ленинград, чтобы встретиться с Рукшиным и узнать, кто из подопечных последнего мог бы стать членом команды СССР. У Рукшина уже была репутация блестящего наставника. Он назвал два имени: Григорий Перельман и Александр Левин. Оба в тот год заканчивали школу, и это был их последний шанс попасть на международные состязания.
Члены рукшинского кружка считали Перельмана несомненным номером один, выиграть у которого не может никто, а Левина – номером два, уверенно идущим на расстоянии корпуса—двух за Перельманом. Городская олимпиада это подтвердила. Будучи подростками, да еще воспитанниками Рукшина, члены кружка рассудили, что Перельман и Левин – два сильнейших олимпиадных математика огромного СССР.
Если верить Рукшину, потенциал Левина был равным перельмановскому или даже превосходил его. И все же Левин уступал во многих отношениях. "Родители Левина не понимали, что это значит – быть математиком, – объяснил мне Голованов. – Мать Гриши это очень хорошо понимала, а они думали, что изучение математики может быть полезным сыну, например, для карьеры инженера". Другими словами, они не видели смысла в слепой страсти к математике, которую Рукшин пытался передать своим ученикам. Родители Левина считали, что сыну следует достойно окончить школу. "Он в десятом классе хорошо учился... и не всегда ходил на кружок, – вспоминал Голованов. – Это глупая история – как незакрытая дверь, из-за которой Константинополь взяли. Алика погубила его старательность". (Голованов напомнил о калитке в крепостной стене, оставленной византийцами незапертой. Эта оплошность привела к захвату города турками в XV веке.)
Это действительно странно: крайне редко, вопреки всему, олимпиадная задача всплывает где-нибудь еще. Но это все же случается: поскольку у каждой задачи есть автор и за ней стоит идея, исключить повтор невозможно.
В апреле 1982 года участникам Всесоюзной математической олимпиады предложили задачу, решение которой было аккуратно записано в тетрадях всех школьников, посещавших кружок Рукшина, – всех, кроме Александр Левина. В день, когда разбирали задачу, он не пришел на занятие. Левин не смог решить задачу – и не попал в математическую сборную СССР.
В отличие от самого Левина, Рукшина и даже Перельмана это устраивало. Теперь Рукшин мог отправить на Международную олимпиаду своего сильнейшего и единственно любимого ученика. Он потратил шесть лет на то, чтобы сделать из Григория Перельмана лучшего турнирного бойца.
Ленинградская городская математическая олимпиада была очень похожа на занятия петербургского математического кружка. Участники соревнований сидели в аудиториях над задачами. Когда кто-нибудь решал, что знает правильный ответ, он поднимал руку. Пара судей сопровождали его за пределы аудитории, выслушивали решение и тут же определяли, насколько оно верно. После этого школьник возвращался на свое место, чтобы обдумать другой вариант решения или приступить к следующей задаче.
Рукшин вспоминал, как в отборочном туре Перельман объяснял одно из своих решений. Он закончил говорить, и двое судей, объявивших, что его решение верно, уже собирались уйти. "Подождите! – вскричал Перельман, схватив судей за одежду. – Тут есть еще три случая!"
В этом проявились две черты характера Григория Перельмана. Первая, по словам Рукшина, заключается в том, что он "исступленно честен»: "Он был патологически честен даже тогда, когда ему было важно экономить время". Это слово – "исступленно" – описывает человека, органически не способного не только лгать, но и ограничиваться полуправдой. Ведь могло оказаться, что он ошибся: скажем, если объясненная им часть решения была правильной и вмещала полное решение, а остальное было лишним. На сленге математических олимпиад решение, которое автор считает верным и которое на поверку оказывается неправильным, называется "липой". Все, с кем я говорила о Перельмане, подчеркивали, что "липы" он себе не позволял никогда. Таков уж был его ум: Перельман не только был не способен лгать, но даже честно сделать ошибку.
Конечно, математики делают ошибки. Это часть их работы. В отличие от ученых-гуманитариев, они не могут допустить существования более чем одной истины. В отличие от ученых, которые занимаются естественными науками, математики не могут проверить свою гипотезу эмпирически. Им приходится полагаться на собственный ум и на своих коллег, чтобы убедиться, что их выкладки соответствуют законам логики. Это делает процедуру проверки в математике, вероятно, более важной, чем в любой другой науке. Это обстоятельство, кстати, объясняет двухлетнее "эмбарго", объявленное Институтом Клэя на вручение "Премии тысячелетия".
И все же математики делают ошибки, на поиск которых порой уходят годы. Иногда они находят их у себя сами. Это произошло, например, с Анри Пуанкаре, который понял, что не может доказать собственную гипотезу. Иногда ошибки отыскивают коллеги. Это произошло, когда Эндрю Уайлз опубликовал свое доказательство Великой теоремы Ферма. Оказалось, что в решении есть серьезный изъян, который Уайлз исправил сам – два года спустя.
Обычно юные математики менее дотошны, чем взрослые, и поэтому чаще ошибаются. Неудивительно, что Гриша Перельман не представлял себе, как он может совершить ошибку, – удивительно, что он и вправду никогда не ошибался. И потому Перельману, очевидно, было особенно обидно, когда на своей первой Всесоюзной олимпиаде в Саратове он занял только второе место. Оба его наставника, и Рукшин и Абрамов, заявили мне, что эта неудача разозлила Перельмана. Он решил, что больше никогда никому не проиграет. "Он почувствовал вкус свежей крови соперников, – описывал это состояние Рукшин. – Его амбиции выходили далеко за рамки его достижений".
Здесь Рукшин в своей обычной вычурной манере выразил глубокое знание характера Перельмана. То, что озадачило Перельмана на саратовской олимпиаде 1980 года, будет тревожить его всю жизнь: все пошло не так, как должно было произойти. Если Перельман был настолько хорош, что никогда не выдавал "липу", а его ум настолько силен, что не существовало задачи, которую он не смог бы решить, то почему ему не досталось первое место?
Единственное, чем можно было это объяснить, – непростительная человеческая слабость: Гриша Перельман мало занимался. Отныне он начал заниматься беспрестанно. Если другие учащиеся делили свое время на учебу и досуг, для Перельмана дни теперь делились на периоды, когда он мог без помех решать задачи, и все остальное время.
Национальная команда на Международной математической олимпиаде 1982 года должна была, согласно правилам, состоять из четырех игроков (плюс двое запасных). В январе 1982 года Абрамов собрал дюжину кандидатов в сборную в интернате в академгородке Черноголовка в 48 километрах к северо-востоку от Москвы. Туда же привезли своих кандидатов тренеры химической и физической сборных. В итоге примерно сорок сильнейших школьников страны собрались вместе.
Их поселили по четыре в интернатском общежитии, которое было расположено в том же здании. Им было по 15—17 лет. Но некоторые здесь, как и Перельман, были не по годам развиты: в свои пятнадцать с половиной лет он не был здесь самым юным учеником. Поэтому собравшиеся были не то чтобы взрослыми, и только несколько из них успели пожить вне родного дома в школе-интернате.
Они до сих пор помнят чувство, когда они впервые оказались предоставленными сами себе. Один из учеников вспоминал позднее, что на следующее утро после приезда в Черноголовку он увидел, что в кувшине на подоконнике замерзла вода, оттого что разбилось оконное стекло. Хотя в комнате было тепло, мальчика охватил ужас. Другой вспоминал свое прибытие в Черноголовку на автобусе из Москвы. Уже стемнело – в январе темнеет часа в четыре. Его поразили пустые неосвещенные улицы Черноголовки. Он долго не мог найти здание школы, а чемодан с вещами и авоська с продуктами оттягивали руки, замерзшие без варежек.
Для Григория Перельмана путешествие оказалось не столь страшным, поскольку в Черноголовку он приехал с матерью. Остальные подростки сочли это странным, даже унизительным для юноши, каким бы гениальным он ни был. Перельман не придавал этому никакого значения.
Столь же мало он обращал внимания на изматывающие физические упражнения, которые должны были выполнять школьники. В соответствии с заветами Колмогорова, мальчики занимались не только наукой, но и физкультурой.
"Они собирали математиков, физиков, химиков – человек 30—40 – в одном зале", – вспоминал Александр Спивак, будущий член сборной.
Спивак учился в колмогоровском интернате в Москве, где физвоспитание считалось важной частью учебной программы. Тем не менее ничего подобного прежде ему испытывать не приходилось. "Нас сначала заставляли бегать по периметру спортзала – еще, еще и еще. Потом начиналось самое интересное. Были длинные гимнастические скамейки – и фантазия физрука о том, что с ними можно делать. От них можно отжиматься. Их можно над собой поднимать. Можно вокруг них прыгать. Но главное – видишь перед собой скамейку. Все время скамейка, скамейка, скамейка".
Александр Спивак вспоминал, что один из юношей, не выдержав напряжения, упал в обморок. Остальные просто прекратили заниматься и дружно сели на скамейку. Григорий Перельман же, по словам Спивака, перенес испытание физкультурой "абсолютно героически»: в отличие от других, он не протестовал, не устраивал сидячую забастовку, да и вообще не подавал вида, что чем-то недоволен. При этом Перельман, правда, не получал и удовольствия от этих упражнений – они не были для него чем-то более легким, чем для других. В школе для него уроки физкультуры были пыткой. Его оценка по этому предмету никогда не поднималась выше тройки. Он не получил золотую медаль, несмотря на все усилия, так как не смог сдать нормативы ГТО, требовавшие от старшеклассников умения бегать, плавать, подтягиваться на перекладине и стрелять из малокалиберной винтовки. Но правила есть правила. Для подготовки к международным математическим состязаниям нужно было прыгать через скамейку, и Перельман прыгал.
Его поведение в спортзале способно отчасти объяснить, почему некоторым товарищам по сборной Перельман показался спортсменом. "Формально он не был, конечно, таким спортивным, как если бы он занимался теннисом или чем-то подобным, – вспоминает Сергей Самборский, в итоге занявший на Международной математической олимпиаде скамейку запасных. – Но поскольку мы все старались от уроков физвоспитания уклониться, то были, скажем так, бесформенными, а он был в форме. Если бы меня спросили, с каким видом спорта он у меня ассоциируется, я бы сказал – с боксом".
Похоже, что за четверть века воспоминание о Перельмане как об уверенном в себе человеке и математике заместилось у Самборского впечатлением о Перельманс-атлете. Гриша был бледен, чуть полноват, ростом гораздо ниже коллег по сборной. Он точно не был боксером. Он был олимпиадным математиком, уверенным в том, что теперь его никто не побьет.
Перельман вел себя дерзко. Самборский вспоминал: "Однажды один из наставников упрекнул его: "Знаешь, Гриша, все знают производные, а ты – нет". Это часть математического анализа, и, по правде, школьник это знать не должен. Перельман ответил: "Ну и что? Я все решу и без этого". Прозвучало это нагло, но он был прав". После Сергей Самборский прибавил (кажется, он запомнил Перельмана лучше, чем ему кажется): "Думаю, он показывал гораздо меньше, чем знал". Возможно, Перельман знал производные. Но он приехал для того, чтобы решать задачи, а не доказывать что-то наставникам.
Тем не менее все поняли, кто есть кто. Преподаватель Абрамов запомнил Григория Перельмана как единственного, кто мог справиться с любым олимпиадным заданием. Самборский охарактеризовал это положение так: "Он лучше всех решал задачи. Настолько лучше, что можно было бы сказать – он был лучше всех остальных вместе взятых. То есть был Гриша – и были все остальные".
В итоге к Перельману прибавились еще пятеро членов сборной. Их место в списке соответствовало количеству решенных задач. Шестым номером оказался 15-летний Александр
Спивак. Он был русским и приехал из уральской деревни в Москву, чтобы учиться в колмогоровском интернате. Ему было невдомек, что фамилия его походит на еврейскую. Поэтому он не понял, почему он неожиданно переместился в списке вниз, уступив шестое место этническому украинцу, который числился седьмым.
Для школьников зимняя школа состояла из череды состязаний, моделирующих обстановку на настоящей олимпиаде, изматывающих занятий по физподготовке, лекций известных математиков (имена многих были для юных математиков легендарными) и назойливой, но сравнительно тихой трескотни чиновников из Минобразования и партийных функционеров. Они осаждали школу и по временам отлавливали юношей в коридоре, чтобы лишний раз напомнить о том, какая это честь – представлять великий Союз на международной арене. Тренеры тратили половину времени на занятия, половину – на нейтрализацию беспокойных гостей. Выбора у них не было.
Включение Григория Перельмана в сборную, казавшееся на первый взгляд неминуемым, потребовало от его наставников тяжелой борьбы: фамилия кандидата для чиновников звучала вызывающе. Наставники Перельмана задействовали все свои возможности, и в результате бывший шестым Спивак со своей "подозрительной" фамилией был принесен в жертву.
Когда я встретилась с Александром Спиваком четверть века спустя, он показался мне школьником-переростком: громадный, с копной седеющих волос, в чем-то пестром и вязаном. Он попросил меня о встрече не в кафе, чтобы избежать дискомфорта от присутствия множества людей, а у меня дома. Он преподает математику в одной из московских математических спецшкол. Кроме того, он тратит значительную часть своего времени на составление сборников задач по математике для одаренных детей. Его манера отвечать на вопросы была обезоруживающей.
Вы помните, – поинтересовалась я, – как приехали в Черноголовку? Это случилось утром, днем или вечером?
Не вижу в этом ничего интересного, – заметил Спивак. – Было бы гораздо интереснее спросить у меня, где теперь все, кто там был.
– Ну хорошо. И где же?
– Не знаю.
Мои вопросы, касающиеся отношений между членами математической сборной, успеха тоже не имели. Спивак не видел ничего примечательного в совместном опыте, который, казалось бы, мог их сдружить. Когда я возразила, что стресс объединяет, он пустился в рассуждения о сложности задач, предлагаемых на разных состязаниях.
Однако Спивак сохранил яркие, эмоциональные воспоминания о том, как он старался попасть в состав команды. Он понимал, зачем это нужно – для того, чтобы поступить в университет. Даже если Спивака и не тревожило то, что фамилия его звучала как еврейская, он считал (по всей вероятности, справедливо), что не сможет написать вступительное сочинение. "[Я понимал, что] иначе я два года проведу в армии, а это, в общем, очень серьезно. И я не знаю, что бы со мной было после армии", – рассказал мне Спивак. Он начал пробивать себе дорогу на Международную математическую олимпиаду. Он просил, вынуждал своих наставников и чиновников кричать друг на друга и наконец, все еще будучи седьмым в списке, добился того, чтобы ему тоже разрешили выполнить так называемое заочное задание. Он получил, как и все, книжку с задачами, которые кандидаты в сборную должны были решить в промежуток между зимней школой и Всесоюзной математической олимпиадой в апреле.
В апреле юноши оказались в Одессе. Они провели на Черном море два дня, решая самые трудные задачи, какие им до тех пор попадались (по общему мнению, задания на Всесоюзной математической олимпиаде были сложнее, чем на международной).
Спивак чувствовал, что решается его судьба, и выложился полностью. Он работал лихорадочно, отчаянно и заполнил доказательствами две пухлые тетрадки. Перельман – если бы он был способен увидеть мир таким, каков он есть, – тоже мог бы сказать, что судьба его на кону. Но его уверенность в себе и в справедливости существующего порядка вещей были несокрушимыми. Он делал то, что и всегда: читал условие задачи, закрывал глаза, откидывался на стуле и начинал быстро тереть штанины руками. Потом потирал руки и, открыв глаза, записывал очень короткое и точное решение. Когда ему попадалась задача сложнее, он что-то про себя мычал. Перельман исписал всего несколько страниц. И он и Спивак получили отличные баллы.
В последний день соревнований после подведения итогов семеро победителей (в их числе Спивак) отправились с Колмогоровым на прогулку по Одессе. Ни Спивак, ни Самборский не запомнили, о чем говорил академик (он уже страдал от болезни Паркинсона, и понимать его речь – тем более что ходил академик по-прежнему быстро – было трудновато), но оба запомнили, что он неожиданно повел всех на пляж. "Ветер был пронизывающий, – вспоминал Самборский. – Мы пошли, потому что боялись его оставлять – он тогда уже не очень хорошо видел. На пляже Колмогоров разделся и направился к воде. Я боялся даже смотреть на нее – она была настолько холодная, что, кажется, там плавали льдинки. Волны свинцовые, пена, ветер настолько сильный, что сбивал с ног. Никто следом в воду не полез".
Вскоре появился смотритель: "Ребята, а вы бы дедушку-то позвали, иначе утонет – холодно же". Ребята переглянулись и решили, что "спасать дедушку" они не будут. По словам Спивака, было понятно, что "никто из нас больше двух-трех метров не проплывет". Самборский же вспомнил, что никто не хотел возражать Колмогорову.
Вообразите: холодным пасмурным апрельским днем 1982 года крупнейший отечественный математик XX века, совершающий свой последний математический вояж, идет купаться в ледяной воде, а величайший отечественный математик XXI века безучастно наблюдает с берега. Он оказался здесь, потому что ему поручили присматривать за "дедушкой". Ему мало дела до всех этих прогулок и разговоров, практически не имеющих отношения к математике. И ему совершенно не нравится эта вода, которой наслаждается еще не растерявший сил Колмогоров.
Период бурной экспансиии российской математики подошел к концу. Началось время замкнутого, уединенного, сосредоточенного индивидуализма. Но об этом, конечно, никто пока не догадывался.
Пока Перельман ждал Колмогорова на берегу холодного Черного моря, жюри Всесоюзной математической олимпиады подвело итоги соревнований. Рукшин, Абрамов и несколько других приступили к завершению долгой и тяжелой подготовки поездки Перельмана в Будапешт на Международную математическую олимпиаду.
В предыдущий год олимпиада проходила в столице США Вашингтоне. Лидером советской команды должна была стать старшеклассница из Киева Наталья Гринберг, еврейка. В 1980 году США бойкотировали Олимпийские игры в Москве. Год спустя Рональд Рейган заклеймил СССР как "империю зла", а Советский Союз фактически запретил еврейскую эмиграцию. Понятно, что Советы ни при каких условиях не могли позволить, чтобы еврейка представляла страну победившего социализма в Вашингтоне. В Москве опасались избыточного внимания американских СМИ к Наталье Гринберг, а также того, что она решит остаться на Западе.
Решив не рисковать, власти включили Наталью Гринберг в сборную (не сделать это было нельзя), однако незадолго до поездки сообщили ей, что ее документы, к сожалению, не будут готовы в срок. В итоге СССР выставил шестерых игроков (еще у одного члена советской команды внезапно возникли сложности с бумагами) вместо восьми, как требовали правила, и занял в Вашингтоне девятое место с 230 баллами.
Страны, занявшие первые семь мест, выставили по восемь игроков. Абрамов гордился этим достижением. Он убедился, что советская команда потеряла по крайней мере 84 очка, которые могли бы принести два дополнительных члена.
Наталья Гринберг эмигрировала в Германию и стала профессором математики в Университете Карлсруэ. Ее сын Дарий Гринберг трижды выступал в 2004—2006 годах в составе немецкой сборной на Международной математической олимпиаде, взяв дважды серебро и один раз – золото. После того как Наталья, участвовавшая в судействе, узнала о "золоте" сына, она поздравила его и его команду на математическом интернет-форуме. Ее запись заканчивалась так: "Бывший номер один советской сборной 1981 года Наталья Гринберг, которую в последнюю минуту лишили возможности представлять любимую страну на Международной математической олимпиаде в Вашингтоне". За четверть века боль и обида за то, что ей отказали в награде, ради которой она трудилась почти все детство и юность, не утихли.
Перельману, как всегда, повезло, и он, как всегда, не понимал этого. После того как советская математическая сборная заняла в Вашингтоне девятое место, СССР нужно было повысить свой статус. Математическая олимпиада 1982 года должна была пройти в Будапеште – столице Венгрии, входившей в Варшавский договор. С точки зрения советских руководителей это было более тихое и безопасное место, чем Вашингтон. В то же время советские школьники будут контактировать с иностранными, в том числе американскими.








