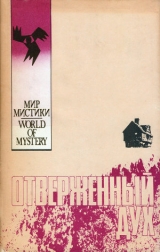
Текст книги "Отверженный дух"
Автор книги: Маргрит Стин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Впрочем, в любом случае, выпить было просто необходимо. Хозяин дома, как я заметил, приобрел полезную привычку запирать собственный бар, но в столовой еще оставался скотч, и где-то там же я видел сифоны.
Приготовив напиток, я расположился у окна и, надеясь растянуть удовольствие подольше, стал созерцать дворовый пейзаж: намокшую листву, поникшие верхушки, выжженные каштановые соцветья, а под всем этим – гравиевую дорожку, превращенную ливнем в небольшой горный поток.
Мысли неумолимо тянули меня в прошлое. Если бы Арнольд выбрал тоща литературу, где бы он жил сейчас? Квартира в фешенебельном Челси, скромный домик в сельской местности – и то и другое куда лучше соответствовало характеру моего друга, чем этот кирпичный гроб. Что за страх такой – кольнула вдруг мысль – загнал его сюда? Может быть, Фабиенн? Вряд ли: дитя природы – она и сама, наверное, первые годы чувствовала себя тут ох как неуютно…
«Нежно-лиловый пеликан в гнезде, на грудке распушив серебряное оперенье, воздушней самого дыханья…» – как все-таки свести воедино автора этих строк и того солидного господина, что случайно столкнулся со мною в дверях «Савойя»? Поразмыслив еще немного о времени и метаморфозах, я осушил стакан и вернулся в соседнюю комнату.
Доминик-Джон сидел в углу, повернувшись ко мне спиной, и был чем-то очень увлечен. Я окликнул его – просто так, конечно, из вежливости, – но он предупреждающим жестом властно выбросил руку вверх. Пришлось подойти поближе.
Правой ладонью, опущенной вниз, мальчик опирался на плоскую фанерку, выполненную в форме палитры; она стояла на двух колесиках и карандаше, острый конец которого упирался в лист бумаги. Я узнал старую планшетку: когда-то мы баловались ей с Арнольдом у него дома.
– Ну-ка, посмотрим, что получилось, – он отпихнул игрушку в сторону и склонился над листком. – Какая жалость. Так неплохо все начиналось, но вы потом помешали. Это «уиджа-борд», знаете?
Я сказал, что – так, слышал кое-что.
– Боюсь, вы не из тех, кто способен извлечь из нее много пользы, – вердикт прозвучал вежливо и беспристрастно. – А у меня получается очень неплохо, хотя – увы, не сегодня.
Он протянул мне лист, испещренный каракулями; я подумал, что на месте родителей предлагал бы такому своеобразному ребенку, как Доминик-Джон, игрушки попроще.
– Где ты ее разыскал?
– О, я часто с ней играю, в основном, правда, когда остаюсь один. Папа очень старается, но у него почти ничего не выходит. А вот кто у нас в этом деле спец, так это дедушка Льюис. Вы знаете моего дедушку Льюиса?
Я ответил, что знал когда-то, а сам удивился: что же такое известно внуку о проделках с планшеткой этого странного дедушки?
– Я-то сам не знаком с ним лично, – Доминик-Джон принял загадочный вид, – а так только, по фотографии, что у папы в кабинете. Зато мы с ним ведем регулярную переписку. Пожалуйста, только маме об этом не говорите, – он взглянул на меня искоса и очень подозрительно. – Папа – тот знает: через него мы записками и обмениваемся.
Мне стало совсем не по себе: что это еще за новые секреты у Льюисов от Фабиенн?
– Он должен вроде бы умереть скоро, – вяло протянул Доминик-Джон. – Не понимаю только, что этого все так боятся? Казалось бы, не хочешь – не умирай…
Не успел я обдумать как следует это последнее, весьма необычное заявление, как он протянул руку за листком.
– Что-то такое тут начинало вырисовываться… Но нет, не поймешь ничего. Вот это, допустим, «А»; а тут что? – Пусть будет «С»… А вы с закрытыми глазами рисовать умеете? Смогли бы нарисовать поросенка?
Я без ложной скромности взял карандаш и очень легко изобразил нечто совершенно непотребное. Мальчик внимательно изучил произведение, поднял на меня глаза и ослепительно улыбнулся.
– А ну-ка теперь я!
Он сел, скрестил лодыжки, положил на них блокнот и, откинув назад голову, крепко зажмурился. Затем на ощупь нашел карандаш где-то сбоку. Я не спеша отправился в соседнюю комнату за сигаретой. Внезапно сзади раздался крик: – Не туда! – Я остановился как вкопанный.
– В чем дело?
– Рука… идет не туда! – процедил сквозь зубы Доминик-Джон. Он по-прежнему сидел в той же позе, но лицо его было теперь белым как мел. Я невольно шагнул вперед.
– Прочь! – взвизгнул он.
В ту же секунду с правой его рукой, сжимавшей карандаш, произошло нечто странное: она дернулась, заметалась вдруг по бумаге – и остановилась.
Доминик-Джон медленно поднял веки и картинно уронил голову на грудь.
– Как интересно. И это уже во второй раз так. Посмотрите, – он протянул мне блокнот, – это не поросенок.
И верно. Передо мною была точная копия портрета из спальни. Поражало необычайное сходство: те же разной величины глазки, толстый нос, неприятно скривившийся рот. Я вгляделся: нет, это была не карикатура, и не механический дубль, хотя линия наброска очень странно обрывалась по краям, как если бы действительно оригинал обвели под копирку. Нет, твердая, опытная рука прошлась по бумаге, тонко и со вкусом подметила она некоторые неуловимые на первый взгляд детали. Работу хорошего портретиста мальчик исполнил в одно мгновение, с закрытыми глазами! Не могу даже описать чувство, овладевшее мною.
– Кто это? – проговорил я наконец.
– Вы же знаете, – удивился Доминик-Джон. – Та самая женщина из папиной комнаты. Мисс Сьюилл, женщина-ведьма.
3
За обедом, как я и предполагал, Арнольд с Фабиенн принялись уговаривать меня остаться. Призвав на помощь всю свою, заранее отрепетированную, искренность, я убедил их в том, что должен ехать во что бы то ни стало. Арнольд проглотил обиду и взглянул в окно: там по-прежнему бушевала стихия.
– Жаль. Я думал, завтра мы вместе подъедем к станции…
Стакан мелко задрожал у самых его губ. Заглянула Фабиенн.
– Поеду к маме. Обещала ей почитать вечерком: лежит там со страшной простудой. Вы бы камин разожгли: сразу поуютнее станет.
– А мы потом разожжем, когда жара спадет. Хотя, скорее всего, поднимемся ко мне: кое-что хочу там показать Бафферу.
Он встал и нетвердым шагом двинулся через холл; я последовал за ним. Мальчика видно нигде не было: Вайолет, должно быть, снова взялась за дело.
По пути Арнольд как бы между делом предложил выпить, и я отказался, заметив про себя, что не следовало бы ему этим увлекаться, тем более в таком состоянии. Впрочем, он меня, кажется, и не услышал.
– Примем по чуть-чуть, – он радостно подмигнул мне и притворил дверь с преувеличенной осторожностью. Затем, с видом отпетого взломщика, стал проникать в собственный бар. Я вспомнил, как распивали мы с ним тайком от Льюисов херес, доставленный контрабандой из ближайшей бакалеи. О, тогда в этом был особый смак! – для него особенно: я-то, слава богу, не страдал ни от каких запретов.
– Эй, эй, мне хватит! – вино полилось через край. Еще несколько капель окропило пол, когда он протягивал мне бокал трясущейся рукой.
– Э-э, Баффер, раньше тебя до третьей бутылки и слышно-то не было!
– Ну, ты вспомнил. Тем более, с тридцать девятого года я, знаешь, все навыки утратил.
Он рассмеялся и поднял бокал.
– Ну так – за новые навыки; и за добрые старые времена! – сделав несколько тяжелых, судорожных глотков, Арнольд перевел дух.
По лицу его расплылась знакомая, добродушная улыбка.
– Баффер, как здорово! Сколько дней… то есть, сколько лет ждал я этого момента! Как мы, бывало, спорили с тобой, ты только вспомни. Знаешь, когда-то я и с Фабиенн мог вот так просто, по-дружески поговорить. Но… кто-то настроил – ее против меня. Только не говори ничего, – он понизил голос, – я думаю, это Вайолет – ее почерк. Ну да, я все помню, она очень добра к нам… но и, знаешь, коварна! У-у, как коварна! Она подслушивает, – зашептал он лихорадочно, приблизившись ко мне вплотную. – Не возражай, я же знаю – все время стоит за дверями. Пусть даже без злого умысла – это неважно! А знаешь, в чем тут все дело? – я отшатнулся от этой незнакомой плотоядной ухмылки. – Возраст, старина, возраст. И нет мужчины. Кто бы ее изнасиловал в конце-то концов, а? Нашей девушке теперь если что и поможет, так это хороший…
Я остолбенел. За все те годы, что я его знал, Арнольд ни разу не позволил себе ничего такого, что нельзя было бы тут же повторить при женщинах. Бывало, вырвется у него: «A-а, чтоб тебе!» – тут же кто-нибудь из сестер воскликнет в ужасе: «Арнольд!..» – и быстро последует извинение Мы с ним даже и не обсуждали женщин – так, как это принято у подростков. В любой другой компании язык у меня быстро развязывался, но только не с ним: я уважал щепетильность моего друга и не нарушал этикета. Слово, которое произнес он сейчас, прозвучало для меня как гром среди ясного неба.
– Представь себе, она начала вдруг всем рассказывать, будто я делал ей предложение. Это ж только надо придумать такое!
– Я думаю, от меня бы ты этого не стал скрывать, верно?
– Ну конечно, Баффер! Сознаюсь, пофлиртовал с ней малость, – а с кем бы, скажи, еще? И, доложу тебе, она не стала изображать из себя недотрогу!
Я не нашелся, что сказать на это. И опять та же чужая, похабная ухмылка; да что это с ним стряслось, с беднягой?
– Но знаешь, по-настоящему я любил только одну женщину, Фабиенн, – продолжал он чуть спокойнее. – Из-за нее я даже с отцом поссорился. Вернее, не то чтобы поссорился… ослушался его впервые в жизни. Можешь себе представить – настоял на своем! – брови его скорбно взметнулись на лоб. – Ради кого бы еще смог я пойти на такое? Чего мне это стоило – ты и не представляешь.
– Она не понравилась отцу?
– Ты понимаешь, там не было ничего личного. Просто он внутренне ее не принял; тебя, кстати тоже – не знаю, заметил ты или нет…
– Еще как заметил! – не удержался я, но о взаимности предпочел не распространяться.
– На это нельзя обижаться, – поспешил он меня успокоить, – это не более чем природная опасливость: так же и абориген инстинктивно сторонится пришельцев. Льюисы ведь настоящие аборигены тех мест: сроднились давным-давно и с соседями, и с самой землей. Фабиенн же будто спустилась к ним с другой планеты: происхождение, воспитание, парижское образование – все в ней отцу было непонятно, чуждо. Ну а ты был вообще агентом вражеской разведки! – Арнольд рассмеялся. – Он так боялся внешнего мира; «Содом и Гоморра двадцатого века!» Не следует забывать: отец воспитывался в строгих традициях методистской церкви: естественно, он боялся, что ты будешь на меня дурно влиять.
– Ну вот еще! В отношении влияний дело-то обстояло совсем наоборот.
– Э-э, Баффер, не скажи, – вновь на душе у меня потеплело от его открытой, дружеской улыбки. – Сам, может быть, того не сознавая, ты дал мне ничуть не меньше, чем получил от меня. Только благодаря тебе я и смог выглянуть во внешний мир, ощутить жизненное пространство, почувствовал вкус свободы, – о ней у нас в семье просто не знали. Отец, конечно, прекрасно это понимал.
– Получается, он тебя как бы ревновал ко мне.
Арнольд нахмурился: такая откровенность с моей стороны явно пришлась ему не по душе.
– Понимаешь, с самого моего рождения мы жили друг другом – и друг для друга. Если и есть во мне что-то хорошее, доброе – в этом только его заслуга. Ну а когда теряешь единственного близкого человека, разве чувствуешь «ревность»? Нет, Баффер, это грубое слово – оно тебя недостойно!
– О боже… Арнольд! – выдохнул я с отвращением, но тут же и спохватился. Он принял мои извинения, причем с необычайной серьезностью.
– Ну хорошо, – сказал я, – с этим, кажется, разобрались: отец был не в восторге от твоего брака. А здесь вы давно живете?
– Тут разом все и не объяснишь, – Арнольд снова нахмурился. – Видишь ли, смерть мамы очень изменила обстановку в семье: круг наш резко сузился. Это была женщина большой, щедрой души: ты-то почти не знал ее: она всегда держалась в тени, старалась быть незаметной. Любовь, теплота, человечность – все, что переполняло нашу семью, – исходило, в основном, от нее. Но ее не стало, и… сестры тоже очень добры, но мальчика нашего они бы понять не смогли; отца бы он слишком волновал, а со здоровьем у старика стало к тому времени совсем худо. Тяжелый был, конечно, разрыв, но привыкли: я с отцом каждый вечер общаюсь по телефону, Доминик-Джон тоже установил превосходную связь… Слушай, пойдем-ка ко мне, – он вдруг будто испугался чего-то. – Там я приготовил для тебя массу интересных вещей. Тут же, в этих комнатах, шляется каждый кому не лень и… создает что-то такое, разъединяющее, не чувствуешь? И бренди тоже прихватим, – с этими словами он сунул бутыль под пиджак.
– Ты не подумай только, будто я здесь в алкоголика превратился, – заверил он меня торопливо. – Или что я в собственном доме уже сам себе не хозяин. Просто противно, понимаешь, когда из-за каждого угла за тобой шпионят, а потом перемывают косточки.
Послышались мягкие фортепианные аккорды и пронзительное детское пение: слегка визгливое, но вместе с тем мелодичное. Арнольд поднял палец и замер с улыбкой умиления на счастливом лице.
– Прелестный голосок, правда?
Я согласился. Хотя, скажем, и у металлического колокольчика голосок – ну чем не прелесть? Впрочем, Доминик-Джон пел, скорее, как жаворонок в поднебесье, – тоненько, чисто и головокружительно высоко.
Арнольд со смешно оттопыренным пиджаком зашагал по лестнице вверх, а мне снова на память пришел мой первый визит в Колдфилд. И пикник на «Шпоре»: так почему-то называли здесь невысокий хребет, протянувшийся среди болот невдалеке от трамвайной линии, ведущей к Блонфилду. Отдыхали тут, в основном, местные жители: туристской славой местечко не пользовалось из-за частых обвалов.
«Пикник» – как образ субботней или воскресной жизни – всегда представлялся мне чем-то стремительно-романтическим, но чтоб обязательно с прислугой: иначе кто будет распаковывать корзинки?
Льюисы умудрялись как-то жить без лошадей и лимузинов, в лучшем случае путешествовали на велосипедах, а чаще пешком. На осмотр достопримечательностей мы несколько раз выезжали поездом, но, конечно же, любимым их третьим классом. За ними всюду и я ходил, проклиная мысленно сэндвичи, которыми вечно набиты были карманы: о том, что сестры с матерью заранее часами нарезали и упаковывали всю эту снедь, как-то не вспоминалось.
В этот раз Арнольд прихватил с собой еще и пару бутылок пива, рассчитывая, в основном, на меня. Как только миссис Льюис принялась разливать всем чай из термоса, он скромно налил – себе и мне – по стаканчику. Женщины уставились на него в испуге.
Утро было просто сказочное: под ярким солнцем вся равнина пестрела и переливалась россыпями фиалок, внизу под утесом пенистыми волнами вздымался и падал болотный ковыль. Перед нами, во всем своем ослепительном величии, простирался счастливый мир живой природы; даже на меня, парня не слишком впечатлительного, эта грандиозная панорама произвела сильное впечатление.
Арнольд залпом осушил стакан.
– Ах, как хорошо! – воскликнул он в блаженном упоении и налил себе еще.
– О, Арнольд! – голос матери был Наполнен такой болью, такой глубокой скорбью, что в первый момент я всерьез за нее испугался.
Арнольд побагровел; улыбка его вдруг растянулась в звериный оскал.
– Неужели… ну неужели все вам нужно непременно опошлить?
Он вдруг вскочил, с диким воплем запустил поочередно стакан и бутылку в заросли вереска и бросился прочь.
Не сразу сообразил я, что же, собственно, произошло. Мне известно было, что Льюисы не употребляют спиртного, но чтобы из-за пива – такой скандал? Все мы в Хартоне глушили его галлонами, и Арнольд вроде бы не был исключением… Да, но мне-то что теперь делать? Я сидел среди них в полной растерянности.
– Вы, Баффер, нас не стесняйтесь, – Мэри взглянула на меня, как на нераскаявшегося грешника, и добавила поучительным тоном. – Сами мы не пьем, но никому не навязываем своих убеждений.
Наступила неловкая пауза.
– Пойду-ка я поищу стакан, – предложила Хелен, спасая положение.
Я, конечно же, отправился на поиски вместо нее и, ползая среди вереска, кое-как ухитрился прикончить свою бутылку. Стакан нашелся, но оказался разбитым.
– О боже, – прошептала Хелен с таким видом, будто у нее только что погиб по меньшей мере уотерфордский сервиз. «Это у нас наследственное», – вспомнил я; что верно, то верно, Льюисы мастаки были переживать по самым что ни на есть пустякам.
Вся компания погрузилась в траур, и даже Вайолет, похоже, прониклась вселенской женской скорбью. Мистер Льюис, впрочем, выглядел на редкость безмятежно, но при этом несколько странно: он восседал среди нас глуповатым улыбающимся истуканчиком и будто светился изнутри – должно быть, сознанием какой-то своей, ему одному известной, правоты.
Дожевав, мы снялись с места и безрадостной процессией двинулись обратно. Внизу, в лощине, я увидел Арнольда: он стоял, ковыряя кочку носком ботинка. Мэри решительно направилась к нему. Хотел было пойти за ней и я, но вмешалась Вайолет.
– Останьтесь, – шепнула она мне на ухо, – и приготовьтесь к сцене Великого Примирения.
Я ничего не понял и молча послушался. Мэри подошла к брату, схватила его за руку, что-то такое сказала и тут же бросилась к нам. Бесформенное личико ее пылало и подрагивало от каких-то неземных страстей.
– Все хорошо, мамочка, дорогая! Брат очень сожалеет о том, что так всех нас расстроил. – Она обернулась. – Арнольд!
То, что вслед за этим последовало, не раз потом заставляло меня содрогаться от омерзения. Арнольд, побагровевший от стыда и какой-то неимоверной внутренней боли, подошел и поцеловал мать. Миссис Льюис разразилась рыданиями. Поддерживая ее за руки с двух сторон, заплакали Мэри и Хелен. Арнольд взирал на всех с невыразимым ужасом, и в глазах его тоже стояли слезы.
– Ну же, ну же, дорогая, – мистер Льюис заботливо закудахтал, принялся гладить жену по плечу, но тут и сам не выдержал: снял очки, заморгал и стал протирать вспотевшие стекла.
Я набрал побольше воздуха в грудь и обернулся за поддержкой к Вайолет. Сжав губы в ниточку, она мелко тряслась: то ли от отвращения, то ли от распиравшего ее смеха. Я бы и сам, наверное, расхохотался, если бы не был так потрясен ирреальностью этой жуткой, нелепой и непристойной сцены.
Глава 6
1
– Арнольд, – сказал я, когда дверь за нами закрылась, – скажи мне, кто эта ужасная женщина?
Я кивнул на портрет, едва различимый в полумраке: шел всего лишь четвертый час, но тучи, нависшие над самыми верхушками каштанов, затмили свет.
– А, так значит, ты ее помнишь?
– Я помню, как мы раскопали ее на чердаке, как разволновался твой отец, а сам ты невесть чему обрадовался.
Арнольд беззвучно рассмеялся.
– Ну да; потом я взял ее с собой в Оксфорд, а как-то ночью вздумал выкопать из могилы, но трупа не нашел. Да, это она, мисс Сьюилл, та самая женщина, которую в 1765 году казнили, обвинив в колдовстве.
– Но откуда ты это знаешь?
– Отец рассказал после смерти матери. В том вся и прелесть такой работы: роешься месяцами в архивах, собираешь крупицы, и вдруг – как снег на голову – потрясающая новость.
– Каким же образом портрет оказался у отца?
– Он просто переходил от поколения к поколению; думаю, кто-то приобрел его на распродаже имущества покойной. Все-таки портрет самой настоящей ведьмы – какая-никакая, а реликвия; поэтому мы стали искать и узнали все-таки имя автора, – он бережно снял портрет со стены. – Пару лет назад я подчистил тут кое-что, и вот – гляди-ка, проступили инициалы.
«Дж. К.» – да, буквы были видны отчетливо. В сумеречном освещении эти кляксы, пятна и линии окончательно перестали походить на портрет; это было просто какое-то издевательство, насмешка над художественным вкусом: любой здравомыслящий человек давно бы отправил эту гадость на помойку.
– Автора звали Кок; имя, между прочим, в этих местах известное. Парень этот несколько лет разъезжал тут на муле от дома к дому и клянчил заказы. Так что любое семейство, прослеживающее свои корни по меньшей мере до начала восемнадцатого века, может похвастаться «своим Коком»; все его портреты, надо сказать, похожи один на другой и различаются разве что степенью уродства. Истощив ресурсы местного рынка, наш герой двинулся покорять Среднюю Англию, да где-то там и сгинул. К счастью, здесь он успел оставить после себя прелюбопытнейший документ. Слушай, как душно здесь! Откроем окно.
Арнольд протянул мне холст в старой рамке, отворил ставни, и комната тотчас наполнилась слабым назойливым шорохом: это гравий шумел за окном под напором дождя.
– Произведение курьезнейшее: характеризует Кока как отъявленного сплетника. Он останавливался в гостинице – по ту сторону Блонфилда – там-то и забыл, наверное, свой блокнотик. Сюжет мемуаров незамысловат – сплошное перечисление заказов и заработков – но выдает в нем деловую хватку. Вообще, Кок обладал, судя по всему, личными качествами, редкими для заурядного служителя Музы.
Арнольд стал выдвигать ящики стола; все они доверху были набиты бумагами.
– Неужели у тебя и блокнот этот есть?
– Отец нашел его в лавке букиниста и тут же выслал мне. Вот, гляди; не берусь определить жанр: то ли дневник, то ли гроссбух, а скорее нечто среднее.
Я взял у него из рук потрепанную книжицу в шершавом кожаном переплете, насчитывавшую не более десятка страниц, и начал читать от того места, где остановился его палец.
«28 янв. Портр. миссис Кларк с реб. 12 шилл. Мало, потому как о реб. уговору не было. Но как сказала плат. вообще не б.»
Пробежав взглядом по строкам, я нашел, наконец, знакомое имя.
«7 февр. Некая миссис Сьюилл, дама с реб. но вроде без м. Тихий ужас и кто только польстился. Но мне-то что за дело, раз согл. на 20 шилл. хоть и сомн. давать не давать. Едва дорисовал до чего же противн. тетка. Но обошлась культурно и была довольна, я-то сам – не оч.»
– Интересно, знал ли что-нибудь Кок о дальнейшей судьбе своей «противн. тетки»? – заметил я, расшифровав, наконец, каракули; основная идея автора состояла, по-видимому, в том, чтобы как можно больше буковок вместить в каждую строчку.
– В том-то все и дело, что знал. Вот, смотри! – Арнольд вырвал у меня блокнот и перелистнул несколько страниц. – Читай здесь.
«Снова в Блонфилде. От добрых людей узнал про миссис А. С. – уж месяц как ее вздернули. Год назад получил от нее 20 шилл. Знал бы – не согл. и на 20 ф. Повесили без шуму, в амбаре, вернулись за телом – а ее уж и нету. Одни грешат на родичей, другие на дьявола, потому как дураку понятно, что ведьму надо огнем жечь. В округе паника, все боятся подходить к амбару. Младенца забрали муж с женой, кто такие – неизвестно, приехали на суд, а потом их след простыл. Услыхав сие, ужаснулся и хвалу воздал Господу за нынешнее здравие свое.»
– Сдать бы все это: портрет – в местный музей, блокнот – в библиотеку. Но старый библиотекарь ушел на покой, да и читатель теперь другой: интересуется все больше справочной и научной литературой. Тебе не кажется, Баффер, что если так пойдет и дальше, то к концу следующего десятилетия гуманитарные науки вообще выпадут из учебных программ?
Он взял у меня блокнот и, открыв ящик, засунул его куда-то под стопки чисто отпечатанных и аккуратно перевязанных машинописных листов.
– Жаль, что раньше не нашелся этот блокнотик. Для моего исследования была бы неоценимая вещь.
– Ты его так и не закончил?
– Был у отца один друг, который обещал все это напечатать. Но потом он умер, в издательство пришли новые люди, да и спрос на такую литературу упал. Вот они все, – он выдвинул один ящик, другой, – незаконченные произведения Арнольда Льюиса! В чем-то, я думаю, и небездарные. Конечно, давно бы я все это собрал да сжег, вот только все думаю: может быть, Доминик-Джон когда-нибудь прочтет смеха ради?..
– Будет свободное время – закончишь, обязательно закончишь. Давно ты в отпуске был?
Вопрос подействовал на Арнольда очень странно: он резко развернулся вдруг, кольнув меня острым, подозрительным взглядом.
– А что такое?
– Ничего, просто так спросил.
Он как бы опомнился; что-то пробормотал смущенно себе под нос.
– Да, я уж тут много лет сижу безвыездно. Разве что к кому-нибудь из клиентов вырвусь на уик-энд. Все-таки, знаешь, отпуск в Англии – дело дорогостоящее: платишь колоссальные деньги и ничего особенного, в общем-то, за них не получаешь. Кроме того, с трудом представляю себе, как будет жить в отеле Доминик-Джон. Правда, у Фабиенн есть друзья во Франции и в Швейцарии, они приглашали нас к себе на лето… Вот я и уговариваю жену съездить с ребенком: лето в горах – какая польза для здоровья!..
– Ну, а сам-то ты?
– Мне нельзя, – отрезал Арнольд, – отец этого не перенесет. Понимаешь, он слышит мой голос каждый вечер, и теперь уже у него выработалась в этом потребность. И потом, если вдруг с ним случится что-то, а меня не окажется рядом, я себе этого потом никогда не прощу.
– С континентом у нас превосходная связь.
– А как же «семейная экономика»? – улыбнулся он. – Да если только отец прослышит про такие счета – запретит мне звонить вообще и тут же умрет от горя. Он и сейчас все никак не успокоится: хочет, чтобы мы оплачивали эти наши разговоры поочередно. В нашем маленьком мире, Баффер, в мире маленьких, бедных людей, на счету каждый пенни. Родители так жили сами – так и меня воспитали. Что это было – скупость? Не думаю: скорее – страх, подспудный ужас перед завтрашним днем. В страхе этом я вырос, и страх этот научился уважать, потому что ему-то, страху, всем и обязан. В юности я мечтал: встану на ноги, обрету свободу – заживу по-другому. И что же? У меня новый дом, новая жизнь, новые запросы – по твоим-то меркам скромные, отца же они на месте бы убили, – все новое, а я тот же. Я все так же считаю каждый пенни, высчитываю, экономлю и такое иногда откалываю – стыдно, просто стыдно в этом признаться!..
Арнольд на глазах у меня впадал в новую истерику, безо всякой причины. Он заломил руки, напрягся, задрожал.
– Я все время думаю об этом, и кажется, начинаю понимать, в чем самая главная моя ошибка. Я попытался оторваться от корней, изменить себе, зажить чужой жизнью!
– Ты поставил перед собой цель и достиг ее! А если не ради таких вот целей, то зачем вообще жить на белом свете?
– Нет, тут все не так, – он обхватил голову руками. – Ты говоришь – цель: но каждый шаг к ней стоит тысячи жизней. Вроде бы видишь путь – и снова мрак… Вдали сверкнет лишь искорка – а ты уж ослеплен… Видишь ступень: ставишь ногу – и падаешь в трясину…
Он отвернулся и, запнувшись обо что-то, побрел к ванной.
– Что тебе? Давай найду.
Зажав очки в кулаке, он уже шарил вслепую по полке, разбрасывая тюбики и опрокидывая флаконы.
– Ну что, Арнольд, что?
– Квадратный такой… с голубой этикеткой.
Я нашел пузырек, мензурку, развел капли в воде. Пока он пытался сделать глоток, зубы стучали так, что я испугался за прочность стекла.
Наконец он пробрался с моей помощью в кресло, запрокинул голову и закрыл глаза. Я молча стоял рядом, наблюдая за ним. Он выхватил из кармана платок, протер свое напуганное трясущееся лицо, напялил очки, но тут же снял их снова. Некоторое время серебристые глазки-пуговки бессмысленно поблескивали на свинцовом фоне.
– Прости меня ради Бога.
Я зажег для него сигарету; он впился в нее дрожащими губами и два-три раза жадно затянулся.
– Ты не волнуйся. Я не сумасшедший. Абсолютно в своем уме. И эти вампиры с Харли-стрит знают уже… я доказал им!
– Ты сам лучше не волнуйся.
Он рассмеялся.
– Нервишки пошаливают. Но ничего, я вот прошел уже курс лечения…
«Оно и видно, – подумал я, – вылечили тебя на славу».
– Зато теперь я знаю точно, что со мной. О да, теперь уж я знаю наверняка!
Мрачная напористость, маниакальная убежденность – тут же вспомнилось: глубокая ночь, лагерная камера, кто-то бредит в углу… Я продолжал поддерживать отношения с двумя своими товарищами по несчастью: оба все еще находились на попечении психиатров.
– Тут самое главное – не придавать этому большого значения. Говорить себе: все нормально… Да что у тебя вид такой напуганный, Баффер? Я все о себе знаю, могу рассказать, если очень хочешь.
– Ну и отлично: валяй прямо сейчас, – я вздохнул с облегчением: главное – дать ему выговориться.
– Фабиенн все прекрасно понимает, – он взглянул на меня заискивающе, будто требуя поддержки; я кивнул, – она такая благоразумная, мудрая, верная… Как жаль, что мне не удается примирить их!
– Кого с кем?
– Фабиенн с отцом. Глупый, бессмысленный конфликт; да и конфликта-то нет никакого, так – одно недоразумение. Но главное, каждый думает, будто я ничего не замечаю – вот что меня действительно приводит в бешенство!
– Давай не будем пока о бешенстве. Ты мне хотел о чем-то рассказать.
– Ну да. Началось все это в начальной школе, когда я почувствовал вдруг на себе страшный груз ответственности: понимаешь, мне во что бы то ни стало нужно было поступить в Хартон. И это давление…
– Давление со стороны родителей?
– Ты не подумай только, что я в чем-то их осуждаю, – заметил он, снова, кажется, понемногу раздражаясь. – Мог ли я знать тогда, чем они пожертвовали ради меня? В общем-то, и «давления» никакого не было – все это моя дурацкая впечатлительность. Просто я был младшим в семье, притом единственным сыном, ну и как следствие – всеобщим любимцем; а это нелегко – быть любимцем в такой семье, как наша, – он невесело усмехнулся. – Что было дальше, ты уже знаешь. Я благополучно получил аттестат, поступил в Хартон и… сорвался. Перешел в Оксфорд – то же самое. Один срыв, другой – возникает привычка, верно? Как вот теперь от нее избавиться?
Мне показалось, очень уж упростил он историю своей болезни.
– По-моему, ты никогда не мечтал сделаться маклером.
– О нет, я мечтал об одном: жениться на Фабиенн. И еще – вернуть отцу все, что было затрачено на меня: так хотелось, чтобы к старости они смогли бы хоть немного расслабиться, пожить чуть-чуть в свое удовольствие. И сестрам тоже помочь. Видишь ли, на прислугу мы, что называется, не тянули, а мама ослабла: значит, постоянно кому-то из сестер приходилось быть дома – вести хозяйство… Помнишь, когда-то я думал, что стану учителем: очень удобно – каникулы можно посвящать литературе, заниматься собственным творчеством. Но можно ли на учительскую зарплату содержать одновременно две семьи? А я ведь мечтал жениться. У отца оставались друзья на бирже, и путь в старую его контору был для меня открыт – а что оставалось делать? Боже, что за праздник был дома! «Арнольд не уезжает, он будет жить с нами…» Я даже о Фабиенн им тогда сказать так и не решился, не хотелось расстраивать. А потом мне предложили работу в Лондоне, и представь себе, я едва ее не лишился из-за очередного приступа – там еще, в Блонфилде. Сам виноват, конечно: устроил себе сущую каторгу. Поступил я туда простым клерком, но взвалил на себя наверное, треть всех дел, потому что компаньон мой завалил всю работу. А уж начав, бросить не мог: отцовская фамилия тоже ведь что-то значит. Да еще по ночам работал над монографией: помнишь, ты спрашивал? Одним словом, сломался.








