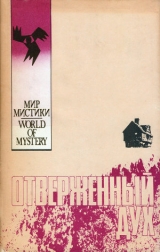
Текст книги "Отверженный дух"
Автор книги: Маргрит Стин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Annotation
Лорд Уиттенхэм принимает приглашение своего старого школьного друга Арнольда Льюиса, и решает провести уикэнд в его доме. Там он встречает жену Арнольда, которая любит мужа и боится за его рассудок, гувернантку – подругу семьи, и пугающе умного, одаренного, порочного, садистски-хладнокровного мальчика – сына Льюиса.
Но через некоторое время, Уиттенхэм начинает чувствовать довлеющее над живущими в доме ощущение отверженного духа, души непогребенной ведьмы, которая давным-давно умерла на виселице, и теперь стремится овладеть живыми…
Маргрит Стин
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Послесловие переводчика
notes
1
2
3
4
5
6
7
Маргрит Стин
Отверженный дух
Я не отдам себя ни Сну, ни Смерти —
Молнией-Мыслью вырвусь из клетки и обращусь в бессмертного Бога.
Старая Смерть возомнит, будто я мертв, но я подкрадусь тихо сзади,
Сброшу Костлявую с Трона во прах смертельным ударом,
Разом сорву надгробия панцирь, скину проклятия тяжесть,
Всепроникающим Духом вольюсь в сон роковой твой меж простыней кровавых,
Выкраду твой безобразный остов у обманутой Смерти
И сам стану смертью твоею, всепожирающим Адом безумья.
Бойся меня, ибо я не живая душа, но Дьявол…
Томас Ловелл Беддоуз
Глава 1
1
Увлекшись беседой, мы засиделись за кофе с бренди; когда я опомнился, было уже начало четвертого. Поезд от Паддингтона отходил в пятнадцать двадцать. Я извинился перед приятелем и бросился со всех ног в раздевалку, но старый гардеробщик уже закончил смену. Не успел мальчик за каких-нибудь пять минут разыскать мои зонт со шляпой, как неизвестно откуда рядом возник давний друг семьи, старый зануда, глухой, как телеграфный столб. В тот самый момент, когда я, наконец, высвободился из его объятий, прокричав ему в ухо, что вот-вот уйдет мой поезд, стрелки часов показывали пятнадцать минут четвертого. Я рванулся к двери, с ходу атаковал ее – и пал жертвой собственного спортивного азарта.
В тот миг, когда я попытался пробиться справа, слева кто-то нанес встречный удар. Совместными усилиями мы выбили дверь из рук подскочившего было ко мне швейцара, и вместо того, чтобы пулей вылететь на тротуар, я взмахнул пару раз руками и попятился назад, на ковер, изо всех сил пытаясь случайно не оскорбить слух присутствующих дам, приветствовавших мой маневр с большим оживлением. Через какой-нибудь час место, которым повстречал я судьбу свою, обещало превратиться в живописную шишку.
Тем временем дверь все-таки открылась, и передо мной выросла фигура высокого, достаточно упитанного господина.
– Мне очень жаль, что так получилось. Я не ушиб вас? – поинтересовался он очень заботливо.
Только я принялся доказывать, что сам во всем виноват, как он вдруг изумленно воскликнул: «Брайан?» – и через каких-нибудь полминуты я осознал, что жму руку Арнольду Льюису, своему школьному другу, с которым не виделся целую вечность. Поезд ушел, а вместе с ним испарился и последний мой шанс встретиться в этот день с агентом по продаже недвижимости. Очень скоро мы с приятелем, сияя от возбуждения, сидели за столиком, а официант спешил к нам с чашками кофе.
Арнольд Льюис принадлежал к той редкой породе людей, которые и в шестнадцать лет, и в двадцать пять, и в сорок выглядят совершенно одинаково. Кое-что, возможно, он и утратил, в шевелюре особенно, а в области талии наверняка многое приобрел, но в целом за те двадцать пять лет, что минули с момента самого первого нашего знакомства, совершенно не изменился. Передо мной восседал тот самый светловолосый, очень милый джентльмен неопределенного возраста, каким я помнил его еще по Хартону. В те годы меня в нем ужасно смешила степенность, действительно, очень странная для школьника; зато сегодня его манеры и внешность сделали бы честь, скажем, священнослужителю или, быть может, председателю ложи. Общую картину замечательно дополнял утренний костюм с бутоньеркой, надетый, как он тут же мне объяснил, по случаю чьей-то свадьбы.
Тонкое, породистое лицо его с годами, пожалуй, чуть отяжелело, но прежними остались чувственный, мягко очерченный рот, а главное – серебристо-чистые круглые глаза со зрачками-горошинками – глаза доброго домашнего попугая. Взгляд их пугал поначалу какой-то странной своей диковатостью, но, попривыкнув, и в этой экзотической особенности его облика можно было найти своеобразное очарование.
– Слушай, я все-таки не очень тебя ушиб?
Ну да, он все тот же, мой милый и искренний друг: добрейший чудак, которого всю жизнь больше всего на свете пугала опасность причинить страдание ближнему. Говорят, душевные слабости подобного рода несовместимы с самим понятием успеха в сегодняшнем мире; что ж, тем радостней было видеть перед собой живое исключение из правил. В какой-то момент история наших отношений словно вдруг ожила перед глазами, и стало нестерпимо грустно от мысли, что двое друзей, так сильно привязанных друг к другу, могут в один прекрасный день взять да и разойтись в разные стороны – на долгие-долгие годы.
Арнольд не раз порывался установить со мной связь, но; не получив в ответ ни одного письма, навсегда оставил попытки уследить за моими вечно меняющимися иностранными адресами. Я же, в свою очередь, и не пытался сблизиться с приятелем вновь, поскольку в те годы увлечен был идеями, которые он вряд ли одобрил бы. А потом началась война. Я почти сразу же попал в плен и несколько лет провел в лагере под Гамбургом. Лишь по возвращении узнал я, что мой брат Квентин погиб, выполняя боевое задание в составе саперной бригады, и в наследство мне перешли имение и титул – вместе с весьма сомнительными перспективами на сохранение их в будущем. Выслушав мою историю, Арнольд с большой неохотой перешел к рассказу о себе.
– Чем занимаюсь? Да ничем особенным: скромный биржевый маклер.
Я постарался ничем не выдать удивления: работу более неподходящую для него трудно было и вообразить.
– Отлично! Мне как раз нужен человек, который знает, как делать деньги, – я вовремя остановился, вспомнив, как много получил от него в свое время, ничего не дав взамен. Потом спросил о семье.
– Мама умерла во время войны. Отец, видимо, до конца жизни останется инвалидом. Сёстры, конечно же, со мной, дома.
– Как продвигается литературная деятельность?
– Литературная? – вопрос мой, кажется, застал его врасплох.
– Ну да; монография Беддоуза, анализ рукописей Донна, – я всегда гордился хорошей памятью, и, видно, не зря.
– А, все, на что «Эрроу пресс» зарились перед войной, – он невесело усмехнулся. – Бумажный дефицит решил все проблемы.
– Ну а фольклорные сборники, очерки местной истории?
– Ну и память у тебя, Баффер, – впервые он вспомнил о моем школьном прозвище, – Видишь ли… Как-то не вписывается все это в мой образ жизни. Когда приходится содержать семью…
– Так ты женат?
– Ну да! – в его тоне мне послышался упрек. – Ты не помнишь Фабиенн?
Фабиенн, Фабиенн… Отчаянное усилие – и необычное имя соединилось в памяти с несколько смутным, расплывчатым образом; кажется, Арнольд познакомил нас на одном из выпускных балов. Он, правда, становился на удивление скучен каждый раз, когда речь заходила о чем-то личном: вряд ли от него я тогда мог узнать об этой девушке многое. Я поспешил с запоздалыми поздравлениями; а заодно заметил, что неплохо бы как-нибудь познакомиться поближе.
– Ну конечно! – встрепенулся он. – Фабиенн будет в полном восторге. Мы ведь с ней часто о тебе вспоминали. Обязательно нужно встретиться… а хотя бы вот в этот уик-энд! – и он, в подтверждение серьезности своих намерений, достал из кармана записную книжку.
– А дети у вас есть? – спросил я робко. Одна уже мысль о доме, кишащем буйной человеческой порослью, некоторых убежденных холостяков доводит до нервных судорог.
– Один – Доминик-Джон. Когда в доме гости, он отправляется к бабушке, матери Фабиенн. Она, правда, слишком его балует: каких-нибудь несколько часов – и все мое воспитание насмарку. Парень не по годам развит, и давно бы пора ему в школу, да вот врачи советуют с этим повременить: насилие, мол, над психикой, и все такое.
Он перелистнул странички и ткнул куда-то карандашом:
– Подходит?
– Да, кстати, – вспомнил я уже на остановке такси, – я-то пытался успеть на поезд. А ты куда так мчался?
– Вот уж действительно, кстати. Я ведь совсем забыл, что шел на прием к врачу.
– Что-нибудь серьезное? – спросил я почти автоматически: и без вопросов ясно было, что на здоровье мой друг не жалуется.
– А тебе-то что?
Я поднял глаза и обомлел: вместо знакомого лица на меня глядела холодная маска, злобный огонек горел в глазах. На этот раз я, наверное, не сумел скрыть изумления. Потому что лицо его вдруг исказилось гримасой ужаса; челюсть отвисла, дряблые щеки мелко задрожали.
– Баффер, милый, неужели я тебя чем-то обидел?
Я заставил себя рассмеяться. По правде говоря, этот приступ раскаяния озадачил меня не меньше, чем всплеск раздражения.
– Ты только не думай, будто я пытаюсь влезть в твои личные дела.
– Да я и не думаю ничего такого! – выкрикнул он отчаянно. – Просто не понимаю, что со мной случилось.
Он прикусил губу, пытаясь сдержать набежавшие слезы; затем с жаром ухватил меня за локоть.
– Прошу тебя, забудем об этом! Ты спрашивал, что со мной? Да ничего страшного: Фабиенн считает, что мне нужно иногда… консультироваться.
Он кивнул швейцару, остановившему для нас такси, и легонько подтолкнул меня вперед.
– Ну давай. «Живи до ветхой старости и пусть корона Славы благословит чело твое…» До пятницы!
2
Пока автомобиль рассекал просторы безбрежного моря огней на мокром асфальте вечернего Стрэнда, я все пытался вспомнить, откуда же эта строка. Мгновенное озарение – и память перенесла меня в Хартон, на много лет назад.
«Величие – награда тем сердцам, любовью обделенным,
Что ищут тайное бессмертье духа.
Живи до ветхой старости…»
Томас Ловелл Беддоуз, «Насмешка над смертью»… Тусклый свет настольной лампы и две мальчишеские головы, склонившиеся над книгой. Арнольд только что прочитал мне стихотворение, сочиненное во время каникул; кажется, тогда он уже заканчивал Хартон. Да, это был его последний семестр. Свой поэтический цикл он назвал на мой взгляд несколько странно – «Геспериды»…
«
Я мечтал бы родиться у Тейде,
Под ее виноградною плотью,
Алым плодом в серебряной сети,
В аромате лимонном, в соцветье папайи.
Я б мечтал умереть у Тейде
В час алых грив и безумных скачек,
В серебре и золоте, в ярком соцветье молний.
Тейде ачукам. Тейде ачукерахам. Тейде ачуайаксеракс!»
С каким трепетом выговаривал он заклинания Гуанче, и какая же память была у него на разные диковинные созвучия! В поэзии Арнольда сплелись мотивы Суинберна, Китса и Шелли – о чем я тогда не мог, конечно, и подозревать: ведь именно он заставил меня впервые прочесть этих поэтов – и полюбить на всю жизнь. Но была в его строках и какая-то своя, особая прелесть; что-то новое, доселе неслыханное. В тот вечер он прочел мне и другое свое стихотворение, «Эстрелитца», появившееся позже в оксфордском поэтическом сборнике; ранее редактор в Хартоне это произведение отверг, ссылаясь на некие «болезненные настроения»:
«В дьявольской пляске холодно-прозрачной сини
Ведьмы с когтями птичьими, девы страшного мира…»
Хорошо помню лихорадочный восторг, с каким обрисовывал он передо мной одно за другим удивительные растения своего заветного Острова: «Абутилонг – воплощенная красота: похож на фритиллари, но обитает на ветвях… Хибискус – это плоть и пламя… Тут же и клавеллонес, источающий пряный свой аромат, и заросли каллы: стебли с цветами гнутся – то ли от пчел, то ли от тяжелых капель ночной росы…» И уж совсем очаровательными вышли у него шелковистые вытянутые головки эстрелитцы, по-птичьи выглядывающие из-за каменных стен.
– Чем же ты все-таки собираешься заняться после университета?
– А что бы ты мне посоветовал? – спросил он насмешливо.
– Да ты просто родился поэтом!
Он не стал ни смеяться над моей наивностью, ни отчитывать за комплимент, а сразу вдруг заговорил о другом. И все-таки в тот вечер в своей беседе мы вновь вернулись к той же теме: стали спорить о творчестве и вдохновении, о том, что есть гений, и прав ли был Сэмюэл Батлер в своем афоризме: «Гениальность – что деньги: у всех есть понемногу». И еще: осознает ли в себе «искру божию» сам гений; Нельсон, скажем, или Шекспир – подозревали ли они о том, что судьба обрекла их на бессмертие? Тут-то и высказал Арнольд мысль, которую я потом не раз вспоминал:
– Ты знаешь, человек, который сумел бы меня убедить в том, допустим, что я гениален, в сущности подтолкнул бы меня к самоубийству. Потому что, как мне кажется, гений не в силах смириться с той ненавистью, которая окружает его в сегодняшнем мире. Одной лишь мысли об остервенелой толпе, готовой разорвать на части каждого, кто не вписывается почему-либо в рамки общепринятого, достаточно, чтобы порвать с этим миром. И эта глупая слава: ну почему готова она в любую минуту свалиться на первого попавшегося шарлатана в науке или искусстве, но всегда избегает того, кто честен и чист душою? Гений и смерть всегда рядом: только она срывает покровы безвестности, при жизни гениев не признают!.. А было бы здорово когда-нибудь вернуться сюда «призраком в лунном сиянии» и обнаружить, что ты, оказывается, знаменит!..
Что ж, по крайней мере, теперь я за него мог быть спокоен: джентльмену, столкнувшемуся со мной в дверях лондонского отеля «Савой», эта страшная участь, судя по всему, уже не грозила.
3
Дружба наша изумляла многих общих знакомых: всем казалось странным, что два человека, столь различных вкусов и привычек, происхождения и воспитания, могут найти между собой что-то общее. Все началось в Хартоне, когда мне, очень самонадеянному мальчишке, по окончании начальной школы в «наставники» достался Арнольд Льюис: староста курса, глава сразу нескольких научных обществ – одним словом, яркий представитель гнусного сословия «умников», яростно презираемого нашим «спортивным большинством».
В то время школьное будущее рисовалось мне несколько в ином свете: я не прочь был бы попасть в услужение к мастеру крикета, футбольной звезде, или, на худой конец, к кому-нибудь из «голубых кровей». Но оказаться в одной связке с Льюисом по кличке «Сидень» – это была незадача. Интеллектуалы в Хартоне, за исключением считанных единиц, сумевших проявить себя одновременно и в учебе, и в спорте, держались замкнуто, своим кругом, избегая вступать в контакт с общей массой юных и очень агрессивных обывателей.
По причине слабого зрения Арнольд на спортивных площадках не появлялся, зато, как выяснил я позже, великолепно плавал – только это и заставляло местную элиту кое-как с ним считаться. Если бы не бассейн, Арнольда Льюиса для Хартона просто не существовало бы. Не замечать моего «шефа» было, в общем-то, нетрудно: если и выделялся он чем среди сверстников, так разве что тихим, спокойным нравом и скромностью. Хотя держался он при этом с большим достоинством, я бы даже сказал, величавостью; похоже, Арнольд принадлежал к тому редкому типу людей, которые чувствуют себя как-то неловко в современной одежде и охотно сменили бы костюм, скажем, на римскую тогу. Впервые увидев его обнаженным – на стартовой тумбе, с полотенцем через плечо, я поразился благородству этого торса, красоте мускулатуры: казалось, один из гомеровских героев ожил вдруг и сошел с иллюстрации Флаксмана [1]в наш хилый, уродливый мир.
Разумеется, поначалу я ни о чем таком не подозревал и «шефа» своего тихо ненавидел, полагая, и возможно, справедливо, что общение с ним не способствует росту моего авторитета у сверстников. Очень скоро, однако, я понял, что посачковать с ним особенно мне не удастся. Без грубости и рукоприкладства он сумел очень быстро убедить меня в том, что хитрить с ним бессмысленно, и любая моя попытка уклониться от выполнения своих обязанностей будет пресекаться немедленно. За выполнением всех своих поручений Арнольд следил необычайно ревностно, иногда даже в ущерб себе: мог, например, хладнокровно ссыпать в огонь пережаренные гренки и полвечера простоять над душой – до тех пор, пока я, наконец, не приготовлю что-нибудь съедобное. Разумеется, этой своей неизменной вежливостью «шеф» страшно меня расстраивал: в Хартоне царил культ грубой силы, здесь почитались высокомерие и жестокость, а все человеческое отметалось, становилось объектом насмешек и глубочайшего презрения. К счастью, мне хватало, по крайней мере, благоразумия, чтобы скрывать свои чувства.
Комнаты старшеклассников, при всей своей меблированной безликости, все же отражали в той или иной мере степень состоятельности хозяев. Арнольд жил скромно, не позволяя себе ничего лишнего; всего-то и было тут три ярких пятна: мятно-зеленые шторы слегка ядовитого оттенка, явно уже отслужившие свой срок в родительском доме, репродукция Дюрера да бледная печатка «Лас Менинас». В моде у нас тогда были Роландсон и Гилрей, спортивные плакаты; особым шиком считались фотографии артистов театра и балета с автографами. Отдельные эстеты покушались на искусство Николсона и Тулуз-Лотрека. [2]Ни кожаные переплеты старых учебных дипломов, ни ветхий граммофон, заваленный операми Бородина, Римского-Корсакова и прочей классикой, не поражали моего воображения. Однажды я разбил две самые любимые его пластинки; извинился, конечно, но – так, между делом: подумаешь, кусок пластмассы – всегда можно новый купить.
Арнольд постоянно носился с какой-нибудь книгой и время от времени зачитывал мне что-нибудь вслух. Макс Беербом и Шоу, Бутчер и Ланг, фрагменты Библии и Платон в переводе Джоэтта – все это, разумеется, нисколько не волновало мой слабый и ленивый ум. Подозревая об этом, он и читал-то, по-видимому, в основном, для себя – правда, всегда волнуясь отчего-то, краснея и запинаясь; я терпеливо сносил это форменное издевательство и потихоньку давился от смеха. Особенно когда он начинал вдруг изъясняться по-французски: ну уж это было пижонство! Одна фраза Алена-Фурнье тем не менее навсегда врезалась в память: «Je cherche le clef… dans les pays desires, et peut-etre, apres tout, c’est la mort», [3]– может быть, потому что сама мысль эта незримой нитью прошла через годы нашей дружбы.
А затем мне довелось, наконец, увидеть Арнольда Льюиса в ярости. Как-то раз я жарил пирожки на кухне и вернулся в комнату, не успев вымыть руки; он попросил достать какую-то книгу – ну и я, естественно, жирными своими пальцами потянулся к полке. Внезапно с Арнольдом произошло нечто невообразимое.
– Мерзкая тварь! – зашипел он вдруг по-змеиному. – Гнусный ублюдок падшего общества варваров! Подлый продукт грязного совокупления!..
Он вперился в меня взглядом – и будто два серебряных клинка вонзились в мозг; он протянул руки – и одного взгляда на эти скрюченные пальцы, готовые впиться в тело и разорвать его на части, оказалось достаточно – я выскочил из комнаты как ужаленный. Долго потом бродил я по темному узкому коридору, пропитавшемуся древним сосисочным духом, пинал многострадальные плинтусы, отмеченные вниманием тысяч таких же, как я, оболтусов, и все не мог понять: чем же был все-таки вызван этот приступ нечеловеческой, смертельной ненависти? В тот момент я испытал нечто гораздо более сильное, чем просто страх; во всяком случае, все самые увесистые кулаки Хартона вместе взятые не смогли бы напугать меня сильнее.
Должен заметить, что рос я очень робким и застенчивым мальчиком: ни громкий титул, ни гарантируемые им якобы привилегии почему-то не прибавляли мне уверенности в себе. Отец мой в те годы служил губернатором одной из колоний (позже так трогательно переименованных в «доминионы»), так что родители на время отъезда сдали дом местному торговому магнату, а меня с вещичками отправили в интернат. С этого момента каникулы я стал проводить в Спирмонте у родственников, ко мне – да и, похоже, к детям вообще – никаких симпатий явно не питавших. В имении нашем я не был с шести лет и почти не сохранил никаких воспоминаний о доме.
Вскоре разразился большой семейный скандал: разочаровавшись, очевидно, в перспективах военной карьеры, мой брат Квентин женился на вдове американского промышленника и поселился на роскошном калифорнийском ранчо. Отец пришел в неописуемую ярость, которую излил, в основном, на меня; на свадьбе, где мне пришлось быть «пажем», он наградил меня чаевыми, а мать в последний день даже не вышла со мной попрощаться. С родителями, не считая этой, не слишком радостной встречи, я не виделся более пяти лет, и вряд ли все это способствовало успешной адаптации в Хартоне: никому не нужный и всеми покинутый, я страдал здесь от невыносимо тоскливого одиночества, – впрочем, до той лишь поры, пока на моем жизненном пути не появился Арнольд Льюис.
Не сказал бы, что та беспричинная вспышка гнева тотчас вынудила меня признать его авторитет. Но с этого момента я постепенно стал понимать, что уже не одинок в своем, с самого начала таком суровом, жизненном плавании; что есть у меня надежный защитник в этом жестоком мире – мире, к которому, при всем своем напускном геройстве, я был, конечно же, совершенно не подготовлен.
А потом наступил тот страшный для меня семестр, когда у Арнольда произошел «нервный срыв» – от переутомления, как всем нам тогда объяснили. Вообще-то его нашли в пруду, среди тростника, почти уже захлебнувшимся, и это вполне можно было бы списать на несчастный случай, объяснить, скажем, внезапной судорогой, если бы не одно странное обстоятельство: выписавшись из больницы, он не приступил к занятиям, как этого можно было ожидать, а отправился домой. Тут-то и пошли гулять по классам разговоры о неудавшемся самоубийстве. Я хоть и падок был на дешевую мелодраму, но версию эту отверг с ходу: нет, не такой он парень, мой Арнольд Льюис. Наверное, в тот момент я впервые почувствовал, кем был он для меня эти несколько месяцев. Тогда я еще плохо осознавал всю тяжесть постигшей меня утраты.
Начался новый семестр, и удары судьбы посыпались на меня один за другим. Новый «шеф», один из тех бодрых молодчиков, в услужение к которым я когда-то так стремился, превратил мою жизнь в сплошную пытку. В Хартоне, как и в любом, наверное, закрытом заведении, гомосексуализм был явлением вполне обыденным, так что отбиваться мне приходилось попеременно – то от садистов-мучителей, то от пылких поклонников. И не было рядом со мной никого, к кому можно было бы обратиться за помощью и поддержкой, да что там – просто за теплым словом.
В тот самый момент, когда я, восстановив против себя всех, начиная с директора и кончая одноклассниками, готовился уже с треском вылететь из школы, Арнольд внезапно вернулся. Я бросился перед ним на колени, стал умолять его снова взять меня к себе, но – увы, такие вопросы в Хартоне решаются жребием. Арнольд пообещал лишь «присмотреть» за мной, и слово свое сдержал: сначала, призвав на помощь все свое влияние на школьное руководство, спас меня от неминуемого исключения, затем помог положить конец некоторым очень сомнительным знакомствам и, наконец, пошел на открытый конфликт с человеком, из-за которого, собственно, все эти мои постыдные неприятности и начались. Без ненужных упреков и нравоучений, бережно и тактично взялся он по крупицам восстанавливать во мне чувство собственного достоинства, утраченное, казалось бы, навсегда. А в конце семестра взял да и пригласил на каникулы к себе в Колдбридж – вот это уж был для меня поистине гром среди ясного неба! К тому моменту ежегодные наезды в Спирмонт стали для меня совершенно невыносимы. Там изо всех сил пытались, конечно, смириться с периодическими появлениями хорошо оплаченного маленького постояльца, а может быть, даже считали своим родственным долгом по три месяца в году терпеть в доме отбившегося от рук племянничка, но уж во всяком случае не пытались скрыть отношения к моей, должно быть, необычайно докучливой персоне.
Здесь же – впервые меня приглашали домой просто так, по-дружески, без каких-либо особых расчетов. Это было как откровение, как первый солнечный лучик в моем темном мире, мире одиночества и тоски. Нет, ничего подобного со мной в жизни до этого не случалось.
Глава 2
1
Узнав о моем намерении взять такси до самого Стэйнса, Арнольд пришел в ужас.
– Но зачем, прямая ветка от Ватерлоо; я успеваю на 10.04 – присоединяйся и поехали вместе!
Я отказался, сославшись на дела; в тот день я действительно был занят по горло. Друг мой был, наверное, прав: время тяжелое, сплошные затраты, а тут тебе – персональный «даймлер». Но у меня была и своя правда: годы, проведенные в плену, только усилили во мне тягу к «красивой жизни»; научили, во всяком случае, легко избегать всего, что связано хоть с какими-то неудобствами.
Мы выехали на Грэйт Уэст Роуд, и я от нечего делать вновь принялся воссоздавать мысленный образ жены Арнольда; до сих пор в памяти моей Фабиенн так и оставалась смутной, неясной тенью. Одна из сотен миловидных девушек, мелькавших на ежегодных балах, в момент знакомства она, должно быть, не произвела на меня глубокого впечатления. Наверное, я танцевал с ней хотя бы однажды, потому что, как теперь выяснилось, мне «нравился ее аромат», о чем Арнольд не преминул напомнить.
Это была стройная девушка, одетая мило и изысканно: впрочем, иначе я и не стал бы с ней танцевать. Что ж, читатель успел уже получить полное представление о моих юношеских добродетелях; вряд ли теперь это первое впечатление я смогу чем-то испортить.
Начнем сначала: Фабиенн – необычное имя, вызывающее почему-то ассоциации с ароматом римского гиацинта. Миниатюрная фигурка, короткая стрижка, завитки у висков, серебристые блестки, вечернее платье с открытой спиной… Нет, по таким приметам, пожалуй, я и сам бы ее не узнал среди дебютанток того года. Слегка подрагивающие, будто пугливые зрачки, – тут я, кажется, наконец, вышел на след, – широкий, нетерпеливый рот; интересно, кстати, будет взглянуть, что с ним сделало неумолимое время.
Автомобиль остановился неподалеку от новенькой, аккуратной виллы из красного кирпича. Обширный, прекрасно ухоженный земельный участок, веранда, сплошь заставленная садовым инвентарем – что ж, нечто подобное, признаться, я и ожидал увидеть. В высоком окне-фонарике тут же показалась фигура хозяина: он радостно поприветствовал меня у порога и провел в очень современный, прекрасно обставленный кабинет, где тут же и приготовил коктейли. Мы подняли бокалы, встретились взглядами и… вспомнили, кажется, одновременно о том, как яростно порицалось в семействе Льюисов их винное зелье. Мне тут же пришел на память один занятный случай, но – об этом чуть позже.
Итак, школьный друг мой проделал немалый путь от порога желтого домика на мощеной улочке шахтерского городка, вот только никак не мог я сказать ему об этом – так, чтобы не обидеть снисходительностью. Я от души похвалил фарфоровую безделушку на одном из шкафчиков, и Арнольд удивился: это же «фамилле роуз», в Уиттенхэме таких – целая коллекция!.. Но при этом лицо его осветилось мягкой радостной улыбкой: он явно гордился своим новым домом, и, в общем, не без оснований.
– Фабиенн сейчас спустится. Она укладывает сына в постель.
Я проследил за направлением его взгляда и увидел фотографию мальчика на столе. Да, подтвердил Арнольд, это Доминик-Джон. Я вгляделся и ахнул: это был маленький Арнольд – тот же милый овал лица, тонко очерченный рот – но еще и подправленный, подретушированный, казалось, самой природой. Мальчик, если камера не лгала, был ослепительно красив. Но особенно поразили меня глаза: широко распахнутые, яркие, будто сияющие каким-то волшебным светом.
– А Фабиенн помнит тебя прекрасно, – продолжал тем временем хозяин какую-то свою прежнюю мысль. – И что ты сказал о ее «аромате» тоже помнит. Вот бы еще нашла она те свои, старые духи!.. А, это ты, – осекся он вдруг на полуслове.
В комнату вошла красивая женщина с эффектной проседью в волосах и, улыбаясь, направилась к нам. Необычайно элегантная и по-своему привлекательная, она как будто не имела ничего общего с тем портретом, что так усиленно воссоздавал я в своем воображении. Неужели это и есть Фабиенн? Необычный зеленоватый оттенок платья отражался, казалось, в глубине ее глаз.
– Надеюсь, вы друг друга еще не забыли, – бросил Арнольд небрежно.
– Не сомневаюсь в том, что лорд Уиттенхэм меня не помнит, – она изящным движением протянула мне руку, – Вайолет Эндрюс. Кажется, я называла вас Баффером.
– Тебе то же, что обычно? – Арнольд направился к бару.
– Розовый джин? Но ведь у нас сегодня маленький праздник, не так ли? А вы что будете пить? – она обернулась ко мне, но, услышав о «Белой Леди», скривила губы.
– В таком случае я предпочту шампанское. Кстати, у Фабиенн это любимый сорт. Сейчас она спустится, и мы с ней раздавим бутылочку.
Арнольд нагнулся к основанию серванта, чтобы достать шампанское из ящика со льдом. Похоже, подумал я, эти двое с трудом переносят друг друга. Кто, интересно, пригласил Вайолет на эту встречу – или она напросилась сама? При всей своей спокойной самоуверенности женщина эта не производила впечатление навязчивой гостьи: нет, она явно была не из тех, кто изо всех сил напрашивается в чужую компанию.
– Что же она задерживается? – резко спросил Арнольд. – Я голоден, Баффер – тоже; пора бы нам всем и за стол.
– Сейчас придет. Приготовление ко сну без переговоров у нас не обходится. Вы, должно быть, еще не видели Сына? – иронической паузой она тонко выделила заглавную букву в последнем слове. – О, с этим юным джентльменом скучать не приходится. Принципиально не употребляет однозначных слов; о манерах уж я и не говорю…
– Пусть бы он составил о мальчике собственное мнение, – Арнольд все более раздражался. Мне, в общем, тоже показалось, что для своего сарказма Вайолет выбрала не самую подходящую мишень.
– Пойдем, вымоешь руки, – он повернулся ко мне, – переодеваться не обязательно. Будем считать это маленьким ужином в узком семейном кругу.
И он провел меня к уборной в дальнем углу гостиной. Когда я вернулся, Вайолет Эндрюс уже делала вид, будто пристально разглядывает что-то в саду. Арнольд стоял спиной ко мне, обнимая за талию невысокую худенькую женщину. Заслышав мои шаги, он стремительно повернулся и увлек ее за собой.
– Дорогая, это Брайан. Баффер, познакомься – моя жена.
Крошечное личико, будто высеченное из гранита; спокойный, тяжелый взгляд. «Нетерпеливый» рот расплылся неровным пятном – возможно, из-за привычки покусывать губы. Передо мной стояла не пожилая, но очень изможденная, будто внезапно состарившаяся женщина; глубокие борозды пролегли по выпуклому лбу, густая сеть морщин мелкими лучиками разбежалась от уголков глаз. Под складками дорогого платья, явно наброшенного впопыхах, угадывалась уродливая худоба. Неухоженными и безжизненными казались волосы, реденькие на висках, слегка рябоватые из-за пробивающейся седины.








