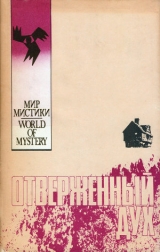
Текст книги "Отверженный дух"
Автор книги: Маргрит Стин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
– Здравствуйте, – тихо сказала она и не глядя протянула мне руку.
Я пожал ладонь – сухую, грубую и мозолистую, – ладонь старой крестьянки. За столом я случайно взглянул на ее руки – распухшие суставы, грязные, обгрызенные до основания ногти – и с этого момента не мог уже смотреть на холеные кисти, длинные пальцы и изысканный маникюр Вайолет Эндрюс. От такого контраста становилось как-то не по себе.
С самого начала и до конца нашей трапезы я все пытался понять, почему так страстно жаждал Арнольд познакомить меня со своей женой. Все это время он неустанно суетился вокруг нее: пытался втянуть в разговор, интересовался мнением по разным вопросам, расточал мелкие комплименты и постоянно нахваливал ужин, на редкость отвратительный, даже с учетом всей ограниченности нашей послевоенной кухни. Нежелание Арнольда пользоваться услугами черного рынка выглядело, конечно, очень патриотично, но боюсь, даже я со своим более чем скромным кулинарным опытом смог бы приготовить из имевшегося набора продуктов нечто чуть более съедобное.
– Какой фантастический соус, дорогая, неужели ты сама придумала такую прелесть? – восхитился он какой-то консервированной жижей, да так искренне, что я уж подумал, не случилось ли что у моего друга со вкусом. – А может быть, это одна из тайн твоих французских кулинарных книг? Фабиенн изумительно готовит, – заметил он со всей серьезностью, – у нее уйма всяких кулинарных секретов. Ты бы видел, как она колдует на кухне, – это же просто ведьма над чаном! Ты обязательно должна, дорогая, показать ему потом свою batterie de cuisine. [4]Представь себе – с десяти лет собирает рецепты. Ну а я – тот скромный счастливец, что вкушает плоды! – в этом очень торжественном заявлении мне почудилась нотка угрозы. То ли он как бы заранее предупреждал о чем-то?..
Весь этот бред Фабиенн преспокойно пропустила мимо ушей. Сгорбившись над скатертью, она ковырялась в тарелке с видом, не оставлявшим никаких сомнений в ее оценке собственных блюд. Вайолет поспешила сменить тему разговора, и я ее в этом стал всячески поддерживать. Арнольд внимал нам с застывшей улыбкой, не спуская с жены восхищенных глаз. Зрачки за толстыми линзами сузились и превратились в крошечные точки. Внезапно он выпалил – словно никто из нас за все это время не произнес ни слова:
– Потрясающий успех, дорогая! Ты знаешь, Баффер, я раньше уговаривал ее – ни в какую; и вот она снова в этом платье – в честь твоего приезда, – губы его задрожали, речь стала почти невнятной. – Ну скажи, оно удивительно ей идет!
Платье, если и не модель Бальмейна, то вполне удачная его копия, сидело на бедняжке из рук вон плохо: пепельно-розовый цвет только сгущал желтизну усталого лица, декольте и длинные узкие рукава подчеркивали худобу. Я открыл было рот в надежде выдавить из себя какой-нибудь гнусный комплимент, но тут она подняла голову, посмотрела на мужа, и – в удивительном взгляде этом было столько чувства, столько жгучей ненависти и чистой любви, что слова так и застряли у меня в горле. Арнольд выдержал испытание – как статуя выдерживает удар молнии, как скала принимает на себя солнечный луч. Нервы у меня не выдержали, и я опрокинул вино на скатерть. Минутная суматоха – мои искренние извинения, шумные утешения, поиск солонки – все это как-то разрядило грозовую атмосферу.
– Вы не волнуйтесь, ничего страшного, – впервые за этот вечер Фабиенн взглянула мне прямо в глаза, и я понял, что она догадалась о моем умысле. Кажется, впервые во взгляде ее мелькнуло нечто, похожее на интерес; впрочем, искорка была слишком слабой, чтобы я мог принять ее за первый знак дружеского расположения.
Кофе подали в комнату, которую Арнольд назвал «ланжем». Он выставил на стол бренди с сигарами, затем, взглянув на часы, извинился и вышел. Женщины переглянулись.
– Как поживает папа Льюис? – насмешливо поинтересовалась Вайолет, размешивая сахар в чашечке.
– Арнольд каждый вечер звонит отцу; так уж у них заведено, – объяснила мне Фабиенн; вопрос повис в воздухе.
– Ну что, какие новости? – снова спросила Вайолет, когда Арнольд вернулся. Мне показалось, что он чем-то сильно взволнован: бутыль с остатками бренди ходуном ходила в его руках.
– Папа всем передает огромный привет. Я сказал ему, что ты у нас, – улыбнулся он в мою сторону и добавил, обращаясь к жене, – он хотел поговорить с Доминик-Джоном.
– Но ты же не стал будить мальчика? – в ужасе воскликнула Вайолет.
– Конечно, не стал, – ответила Фабиенн за мужа. Она поднялась, взяла с камина фарфоровую шкатулочку и вытряхнула что-то оттуда себе на ладонь.
– Вот, опять ты забыл… как всегда.
– Какая ты у меня заботливая, – он проглотил таблетку и зачем-то повернулся ко мне с самодовольной ухмылкой, – спасибо тебе – за все твое долготерпение.
И вновь я заметил, как дрожит, опускаясь, его рука.
– Кажется, пора уже приглашать тебе няню.
Сами по себе слова эти были брошены как бы невзначай, но тон их меня удивил. Нет, подумал я, в лабиринте супружеских взаимоотношений постороннему делать нечего: тут сам черт ногу сломит. Весь вечер – холодное равнодушие, почти жестокость, и вот – гляди-ка, то ли сигнал, то ли знак, во всяком случае, явный намек на что-то, известное лишь им двоим.
Вайолет быстро поднялась и объявила, что ей пора спать.
– Завтра утром с Доми позавтракаем – и сразу к бабушке.
Вслед за ней вышла и Фабиенн.
– Вайолет так добра. Если бы ты знал, сколь многим мы ей обязаны. – За свою недавнюю грубость с мисс Эндрюс он, похоже, решил извиниться передо мной.
– Она все еще преподает? – спросил я без особого интереса.
– Да, но уже не в школе. Старое место она оставила – условия не устраивали, платили мало – и теперь занимается с нашим Доминик-Джоном. А нам – что же, очень удобно: куда лучше, чем держать в доме незнакомого человека, – добавил он с чисто льюисовской рассудительностью и поднялся, чтобы наполнить мне стакан.
– Вот ты и встретился, наконец, с Фабиенн. – Лицо его сияло, он явно ждал поздравлений. Радуясь про себя, что момент этот не наступил чуть раньше, я пробормотал нечто невразумительное, чем Арнольд, впрочем, остался вполне удовлетворен.
– Что же ты-то все никак не женишься, а, старина? – спросил он с искренним участием.
Пришлось пуститься в пространные объяснения о том, что жизнь, в общем, до недавнего времени и без супруги складывалась сносно, но что сейчас, после смерти отца и брата, придется, видимо, об этом подумать – хотя бы ради сохранения титула. Арнольд слушал, посмеиваясь.
Затем мы стали вспоминать о войне. Будучи уже в Лондоне, мой друг, оказывается, вступил в отряд гражданской и противовоздушной обороны, участвовал в рейдах по Ист-Энду и Пикадилли – одним словом, понюхал пороху, и ничуть не меньше, чем я под Гамбургом. Когда я спросил, не страшно ли было, он рассмеялся:
– Страшно до чертиков!
– Изувеченные тела… Это ужасно! – я не сомневался ни на секунду, что мы с ним говорим об одном и том же.
Арнольд бросил на меня странный, почти остекленевший взгляд.
– Правда? Вполне возможно. Не помню, чтобы я задумывался об этом.
2
– Надеюсь, ты не будешь возражать, – он распахнул передо мной дверь на площадке второго этажа, – если мы поместим тебя вот тут, в моем кабинете? Нет, меня ты этим нисколько не стеснишь, – добавил он поспешно, – тем более, я сам виноват: когда приглашал тебя, совсем забыл, что у нас ведь одна комната для гостей ремонтируется, а другая отдана Вайолет. Фабиенн предлагала повременить немного с твоим приездом, но я решил – нет уж: такая встреча, после стольких лет!..
– Ну конечно, нужно было повременить, – начал было я, – сколько у вас хлопот из-за меня…
Он нетерпеливо отмахнулся.
– Летом я все равно сплю в другой комнате, мы называем ее «речной». Живописнейший вид открывается из окна: водная гладь, и тут же этот пресловутый «садик», – он рассмеялся, но вдруг помрачнел, – такое уж у нее хобби: все жилы вытягивает. Устал я с ней спорить об этом: все равно бесполезно – только нервы друг другу портим… Ну да ладно, спи спокойно. Ванная – вон там, а тут – найдется, что почитать на ночь.
И он широким жестом обвел книжные полки, которыми сплошь были заставлены стены, от пола и до потолка.
– И снова мы с тобой вместе. Здорово, а, Баффер? – по старой привычке он положил мне на плечо руку. – А Фабиенн ты – ну просто-таки очаровал.
Я вздрогнул. К чему такая необязательная ложь – чтобы я почувствовал себя «как дома»? Или он хочет таким образом загладить ту неловкость, что возникла в самом начале вечера? Я забормотал что-то насчет «взаимности»; внезапно яркий злобный огонек вспыхнул в его глазах и почти физически, как хлыстом, ударил меня по лицу.
«Все это выдумки, знаю прекрасно и без тебя, – казалось, говорил его взгляд, – но это мои выдумки, и только попробуй вмешаться – убью!» Безмолвная эта угроза будто повисла в воздухе между нами… и растворилась.
– Если услышишь ночью шаги – не пугайся. Я часто просыпаюсь, Доминик-Джон – тоже. Иногда он ко мне спускается, бывает, я к нему поднимусь. Бессонницей никогда не страдал? Страшно неприятная штука.
Некоторое время я стоял перед книжными полками, с замиранием сердца отмечая старые, потрепанные корешки хартоновских учебников и хрестоматий, книг, которые когда-то перечитали мы вместе с ним. Вернее, читал-то, конечно, он – и уж потом мне выдавал задания. Под самым потолком располагался длинный ряд неодинаковых томиков – целая библиотечка, собранная в студенческие годы по рынкам, дешевым лавкам и букинистическим магазинам.
Как-то раз Арнольд признался мне, что если книга – пусть даже очень старая и неинтересная – однажды побывала у него в руках, выбросить он ее уже никогда не сможет: сегодня, кажется, я успел уже убедиться в этом. Книгами здесь были заставлены стены всех комнат и коридоров, в которых я успел побывать: только это, кажется, и скрашивало общее впечатление от этого довольно-таки унылого дома: типичной загородной «резиденции» процветающего биржевого маклера – места встреч «на природе» и приятного общения с той самой публикой, которая бедных Льюисов всегда страшно смущала.
Сегодня светская жизнь для него стала превращаться в будни, ушли в прошлое страхи и комплексы, но книги остались – остались живым напоминанием о прежнем Арнольде, мыслителе и поэте, неустанном исследователе «мира невидимого и непостижимого», в тайны которого тщетно пытался посвятить он меня еще в школе. Я подошел к старому письменному столу; да, это был кабинет – Арнольд не только спал здесь, но и работал. Мысль эта почему-то меня очень тронула: все-таки от чего-то из-за меня ему пришлось отказаться! На столе я увидел студийную фотографию Фабиенн: должно быть, она была сделана почти сразу же после свадьбы. Вот же он – знакомый застенчивый взгляд, а вот и выразительный, так запомнившийся мне рот. Красавицей ее и тогда назвать было трудно, но с первого взгляда поражало лицо: доверчивое, чего-то ждущее – с наивностью олененка, впервые выглянувшего из чащи в незнакомый, таинственный мир… В таком доме и при такой-то жизни – что могло за каких-то десять-двадцать лет эту очаровательную девушку превратить в старуху?
А вот еще снимок, совсем уж трогательный: Фабиенн с младенцем, в классической позе юной матери. Тонкая рука грациозно опустилась на детское плечико, другая живым козырьком изогнулась над головкой. Наконец, на трех снимках, сделанных в разное время, – сказочно красивый мальчик: Арнольд в миниатюре – маленький Доминик-Джон. Я поймал себя на мысли, что уже почти с нетерпением жду встречи с этим чудом природы; до сих пор дети, причем, мальчики почему-то в особенности, вызывали во мне лишь какое-то глухое ощущение неосознанной неприязни.
Я принял ванну, потушил весь свет, оставив лишь ночник, и собрался было влезть в пижаму, как вдруг заметил на стене странный портрет. Шаг, другой, еще совсем немного… и яркой вспышкой сознание высветило воспоминание: тихий дождливый вечер, чердак дома Льюисов, и мы с Арнольдом распластались в пыли среди старого хлама. Не знаю, что уж искали мы так увлеченно среди сундуков: наверное, все-таки не мышиное гнездышко с детенышами – крошечными, скользкими, омерзительными, – заняться которым Арнольд, разумеется, тут же мне и поручил. Когда я вернулся…
– Гляди-ка, Баффер, – воскликнул он, – впервые вижу такое. Здорово, правда?
Предки мои в разное время позировали Рейнольдсу и Гейнсборо, Ромни и Косуэю; нет, при всем желании я не смог бы разделить его странного восхищения этой грубой, почти детской мазней. Перед нами был портрет некрасивой и немолодой рыжеволосой женщины с толстой шеей и массивной грудью. Одета она была в яркое голубое платье: на него-то незадачливый живописец и затратил, по-видимому, большую часть времени и стараний. Восторг моего приятеля окончательно перешел все границы, когда на обратной стороне холста обнаружилась бирка с надписью «мисс А.С.». Пока мы рассматривали картину, скрипнули пару раз ступеньки лестницы, и на чердак, по обыкновению своему подслеповато щурясь, прошаркал мистер Льюис.
– Чем это вы тут, мальчики, занимаетесь? – в его пронырливой улыбочке светилось жадное любопытство.
– Папа, кто это? – Арнольд протянул ему портрет; улыбочку как ветром сдуло.
– Убери ее, Арнольд, убери сейчас же.
– Но почему? Кто это? Расскажи о ней.
– Убери скорее! Твоей маме она очень не нравится.
– Ну и что? Зато она нравится мне. – Арнольд поражал меня своим мягким, но поистине неодолимым упрямством. – Можно я возьму ее с собой? Маме не нравится – ну и отлично. Вот я и увезу ее в Оксфорд!
Что могло так очаровать его в этой гнусной штуковине? Я терялся в догадках. Странным показалось мне и то, что мистер Льюис тоже как-то по-своему заволновался, задрожал всем телом и крепко стиснул пальцы.
– Она не имеет ровно никакой ценности, мой мальчик! – Об этом, полагаю, можно было лишний раз не напоминать. – Прикрой ее, прикрой сейчас же!
– Но кто она такая, эта «мисс А.С.»?
– Ты слышал, что я тебе сказал? Убери!
Что еще удивляло меня в приятеле, так это готовность добродушно и безропотно сносить нагоняи от старших. В семье, поистине боготворившей его, Арнольд для всех оставался непослушным малюткой, милым несмышленышем, причем ролью своей совершенно не тяготился.
Вот и сейчас он лишь рассмеялся, завернул портрет в бумагу и сунул его за сундуки. Мистер Льюис тут же повернулся и заковылял прочь…
Я стоял в полумраке, вглядываясь в темное, угрюмое лицо. Какой она была, эта странная женщина? Несомненно, тщеславной: достаточно, во всяком случае, тщеславной, чтобы заказать собственный портрет. Ну и, конечно, весьма недалекой – иначе сумела бы по достоинству оценить работу… Впрочем, грубый набросок этот, как ни странно, производил-таки впечатление, и на редкость отталкивающее. Такими живыми были эти глаза-миндалинки, и такой гладкой каждая черточка этой злобной физиономии, что мурашки побежали у меня по коже. Пожалуй, только платье не вызывало тут омерзения, но и оно, при всей своей марльборианской фасонистости, принадлежать могло, скорее, богатой торговке, нежели женщине с хорошим положением в обществе.
Опустилась душная, липкая ночь. Где-то вдали прогремели раскаты грома; приближалась буря – одна из тех, что долго и тяжело висят над Темзской долиной, наливаясь разрушительной силой, сжимая свинцовым обручем под собой все живое пространство, а потом вдруг снимаются с места и уносятся, чтобы пролить дождь на соседнее графство. Я полежал немного, сбросил простыни и снова стал пытаться заснуть; наконец не выдержал, поднялся и, не включая света, поднял шторы, чтобы впустить в комнату немного свежего воздуха.
Свет луны, окончательно утонувшей в клубах облаков и пара, смешал тени деревьев и пятна клумб в один серо-болотный мрак. Я стоял, вглядываясь в сад, пытаясь распознать хоть какие-нибудь очертания; вдруг что-то светлое мелькнуло в траве. Снизу, с веранды до меня донесся приглушенный голос Арнольда: «Ты здесь?».
Светлое пятнышко – сверху мне это хорошо было видно – сжалось за кустом. Арнольд, в купальном халате, накинутом поверх пижамы, прямо под моим окном сошел с веранды на гравий и, неуклюже перебирая босыми ступнями, зашагал по лужайке. Пока он шел так, озираясь по сторонам и тихо окликая беглеца, пятнышко стремительно перемещалось от одного укрытия к другому. Вдруг длинная молния острым зигзагом рассекла над деревьями мрак; в ту же секунду фигурка с пронзительным птичьим криком выпрыгнула вверх и завертелась волчком.
– Тс-с-с! – зашипел Арнольд.
Крик повторился; теперь в нем явно звучала насмешка. Арнольд попытался схватить мальчика и промахнулся. Что-то в высшей степени непристойное было в этой нелепой погоне грузного, неповоротливого мужчины за обнаженным ребенком, который то легким перышком отскакивал в сторону, то, затаившись, подпускал к себе преследователя, чтобы потом в последний миг невероятным образом извернуться и капелькой ртути выскользнуть из протянутых рук.
Но по мере того, как продолжалась эта дикая пляска, и мальчик, мотыльком порхая по лужайке, заставлял отца раз за разом глупо прыгать, спотыкаться и падать на колени, до меня постепенно стало доходить, что все это – никакая не погоня, скорее игра, или, может быть, танец, и что нечто подобное мне уже однажды пришлось наблюдать в доме Льюисов.
Мальчик взвился в воздух, описал немыслимый пируэт и рухнул в траву. Отец замер на секунду, нагнулся было, чтобы ухватить белое тельце, но ребенок вдруг подпрыгнул необъяснимым образом, метнулся к дорожке и с тоненьким легким смехом влетел в дом. Поплелся обратно и Арнольд; до меня донеслось его тяжелое дыхание, затем скрип, звуки шагов и наконец стук закрывавшегося окна.
Не знаю, долго ли еще стоял я так, уставившись в темный сад, пульсирующий нервными бликами жаркой летней ночи, но когда вернулся в постель, то понял, что выспаться в эту ночь мне не суждено. С детства не страдая сомнительным даром богатого воображения, я всегда предпочитал рациональный анализ чувственному восприятию; то, что происходило сейчас, никак не укладывалось в рамки объяснимого. Война, должен заметить, не оставила глубоких ран в моей психику, и бессонница, которой страдал я, как впрочем и все остальные, в лагере военнопленных, последнее время о себе не напоминала.
Меня охватила необъяснимая тревога; откуда-то сверху спустился удушливый страх. Я забился под одеяло и некоторое время лежал съежившись, будто ожидая удара от невидимого, затаившегося в темноте врага. Постепенно напряжение стало спадать, но тут же в голову полезли самые неприятные мысли, воспоминания, обрывки разговоров, и через час она у меня уже гудела, как потревоженный улей. Несколько раз я ловил себя на том, что беседую вслух – с кем-то, видимо, очень уж мне досадившим, – наконец вспомнил, с чего все началось, и хлопнул себя по лбу: какой идиот! Я встал, пошел в ванную, принял хорошую дозу сельтерской, затем вернулся в комнату и поднял шторы. За окном уже было утро. Позади осталась бессонная ночь, первая за многие годы. Где-то вдалеке прогрохотал грузовик, бодро зашелестела ему в ответ листва. Как не вязалась эта обыденная идиллия за окном с призрачными видениями минувшей ночи! Да не приснилась ли мне вся эта свистопляска?
Возвращаться в постель не имело смысла: помочь теперь мне могли лишь прохладный душ да бодрая прогулка. Дом уже проснулся: где-то что-то стучало и звякало, отдаленное шипение пробуждало надежду на ранний завтрак. В тот момент, когда я растирал себя полотенцем, на площадке открылась дверь.
– Доминик-Джон, ты куда? – послышался голос Фабиенн.
– К себе в спальню.
– В таком случае, откуда?
– Из папиной.
– Ты что же, всю ночь там провел?
– Нет, до этого он был у меня: ушел только час назад.
– Ты спал хоть немного?
– Конечно.
– А папа?
– Откуда же мне знать, если я спал? – звонко ответил детский голосок. – Я пойду еще полежу, почитаю немного.
– Завтрак нести?
– Будь добра: кофе с молоком, гренок с хлопьями и бо-ольшой банан, только чтоб без черноты!
– Ну иди ложись, сейчас принесу.
– Да, и еще: постучи, пожалуйста, когда будешь входить. Терпеть не могу, когда я читаю вслух, и кто-то входит без стука.
– Ну конечно, мой милый, – согласилась Фабиенн на удивление кротко.
Я подумал, что мальчику, и верно, стоило бы постучать, да только совсем по другому месту.
Глава 3
1
Пока я шел по тропинке вдоль канала, мысли вновь унесли меня в прошлое, к тому моменту, когда я, впервые попав в тесный льюисовский лабиринт бесчисленных знаков, символов и условностей, почувствовал себя вдруг пришельцем с другой планеты. Мои родители, по-видимому, отнесли бы Льюисов к разряду людей «простых, но светских»; во всяком случае, оба этих затхлых словечка как нельзя лучше характеризовали всю женскую половину семейства: вечно опечаленную миссис Льюис и ее милых, невзрачных и очень невинных дочерей, Мэри и Хелен.
Отец Арнольда, насколько мне было известно, отошел от дел, но по-прежнему оставался совладельцем небольшой маклерской конторы в Блонфилде, частичке той гигантской мусорной кучи, в которую жадность человеческая превратила божественные ландшафты Саут-Райдинга. Девушки жили с родителями: Мэри посещала педагогический колледж, Хелен подрабатывала в приемной местного доктора, надеясь в будущем здесь же получить место медсестры: обе старательно, по крупицам, закладывали фундамент будущего, стремительно растрачивая ту единственную ценность, которой обладали в настоящем, – собственную молодость. Уже через несколько часов после нашего знакомства сестры, одна из которых была всего-то на два-три года старше, превратились для меня в каких-то пресных тетушек, временами чем-то полезных, в основном как бы несуществующих.
Когда Арнольд сказал мне, что живет в загородном доме, я, естественно, вообразил себе этакий особняк, обитатели которого заняты охотой и лошадьми вперемежку со зваными ужинами и прочими светскими мероприятиями. Лишь сойдя со ступенек поезда и увидев своего приятеля, со всех ног несущегося ко мне по платформе, я осознал свой позорный промах.
– Смотри-ка, я и не сообразил, что ты прикатишь первым классом! А каким же еще, скажи!.. Ух ты, это все твои вещи? Слушай, без такси нам, пожалуй, не обойтись.
С этими словами он подхватил пару огромных кожаных саквояжей, вместе с которыми мне сейчас очень хотелось бы провалиться сквозь землю. Отчаянно пытаясь отвлечь внимание приятеля от коробки с цилиндром и зачехленного охотничьего ружья, сваленных угрюмым носильщиком на тележку, я уже благодарил бога за то, что он надоумил меня, по крайней мере, оставить дома клюшки и удочки: поскольку ни о рыбалке, ни о гольфе Арнольд не упоминал, я не решился смущать его столь явными намеками.
Невдалеке от станции мы нашли частную колымагу с табличкой «такси» и покатили по грязным безликим улочкам типового шахтерского гетто. Машина шла весело, то подскакивая на булыжниках, то скользя с присвистом по трамвайным путям; рельсами здесь, казалось, было пронизано все пространство, включая и ворота заводских строений; бесчисленные трубы извергали клубы зловонного дыма, тут же и оседавшего копотью на мокрых от дождя крышах.
– Видишь, болота тут совсем близко, – Арнольд указал куда-то вбок, где среди общей серости действительно промелькнула зеленая полоска, – жаль, что в первый день такой дождь. Но ничего, давление растет, завтра все будет в лучшем виде!
Вдали показался пенистый желтоватый поток, затем деревянный мостик, а где-то за ним – россыпь крошечных мельниц на зеленой равнине. Возомнив, будто мы покидаем-таки эту преисподнюю, я готов был уже вздохнуть с облегчением, но в ту же минуту автомобиль свернул на боковую улочку и резко затормозил.
– Ну вот и приехали! – радостно объявил мой друг.
Сначала в глаза мне бросился табачный киоск с газетами, затем какая-то контора, затянутая в ржавые жалюзи, наконец между ними, чуть в глубине, за металлической оградой с закопченным орнаментом взору моему предстал маленький домик-кубик из желтого камня какой-то местной породы; за стенками высоких окон виднелось что-то очень знакомое, мятно-зеленого цвета.
Встречать гостей вышла вся семья. Меня первым делом провели в спальню, затем показали ванную – судя по количеству полотенец она была явно одна на всех – и усадили за «большой чай» с пирожками и пирожными, домашними вареньями и консервированными фруктами, ветчиной и говяжьим языком; были тут и сооруженьица, которые Мэри именовала «бламонж» – мы их в детстве называли просто «формочками».
Трапеза эта, очевидно, заменяла здесь ужин: за ней в половине десятого последовал «вечерний чай» – точнее, какао и кофе с молоком и всякой всячиной вприкуску – а затем началась молитва. Все опустились на колени, каждый у своего стула, а мистер Льюис принялся читать, но не по-церковному, а каким-то смешным экспромтом, с оглашением нужд и недостатков всех присутствующих. Прикрыв ладонями нижнюю часть лица, я изо всех сил пытался не расхохотаться, хотя от стыда впору было выбежать вон.
В этот час Спирмонт расслаблялся: лакеи расставляли столики для баккара и винь-ет-уня, мужчины за вином обсуждали перипетии дневной охоты, женщины в спальнях зевали, сплетничали и ждали мужчин. Меня, в основном, не замечали, – разве что кузен то и дело появлялся рядом, чтобы подпустить лениво очередную шпильку, – так что я сидел себе в кресле и делал вид, что смакую портвейн; изнывал, конечно, мучался, но знал, по крайней мере, свое место. У Льюисов меня каждую минуту поджидал сюрприз. Впереди был целый месяц: не слишком ли поспешил я принять приглашение?
Арнольд зашел ко мне перед сном пожелать мне спокойной ночи и, конечно, обо всем догадался.
– Что, Баффер, не по себе с непривычки? – тон, впрочем, он выбрал весьма легкомысленный. – Ты, главное, не пугайся. На самом деле, вот увидишь, все они – очень милые, добрые люди. Ну, принято так у нас; уклад, понимаешь, такой…
Что ж, уклад так уклад; утешившись этой здравой мыслью, я в скором времени и заснул.
Первая неделя вся ушла у меня на привыкание к странностям новой жизни. Более всего меня угнетала их навязчивая добросердечность: чопорные ужимки, стыдливые гримаски, бесконечное взаиморасшаркиванье – она не предназначалась исключительно гостю, как могло показаться вначале, а густо пропитывала всю домашнюю атмосферу. Для начала пришлось попросить, чтобы меня не называли «мистером Блонтом».
– А как же прикажешь тебя величать – «ваша честь»? – смеялся Арнольд, – совсем как-то неудобно. Что поделаешь: пэр в нашем доме нечастый гость.
Наконец я для всех стал просто Баффером; девушки осмелели: теперь они уже могли обменяться со мной безобидной шуточкой, а то и позволить гостю какую-нибудь совсем уж интимную вещь: принести ведерко дров, например, или сходить в киоск за газетами. Правда, чем настойчивее втягивали меня в семейный круг, чем добрее и ласковее все ко мне становились, тем острее за всем этим я ощущал какую-то напряженную настороженность. И только Арнольд, как прежде, изо всех сил старался хоть чем-то облегчить мне жизнь.
Стыдно, конечно, было плохо думать о близких ему людях, но что я мог поделать, если они постоянно заставляли меня краснеть, и все больше от злости? С детства привык я ругать себя мысленно за «снобизм», но с Льюисами в этом отношении тягаться было трудно. Все чаще слышал я о неких «счастливчиках», которым, знаете ли, «все преподносят на ложечке, с самых пеленок», все больше тщетных усилий тратил на то, чтобы как-то совладать со сложностями местного этикета.
Разумеется, оплошности я совершал на каждом шагу, да такие, что вспоминать о них было потом смешно, хотя и грустно, конечно, – именно оттого, что забыть обо всем я уже и не смог. Все они так или иначе касались пресловутого «режима экономии», о котором никогда прежде мне слышать, а тем более, думать, не приходилось.
Выходя из комнаты, я постоянно забывал выключать за собой свет; то и дело невпопад ворошил угли в камине. Однажды, от широты душевной, нарезал для тостов весь белый батон, хотя требовалось всего-то ломтика два или три. А потом, пытаясь проиллюстрировать Арнольду какой-то свой дурацкий тезис, исчеркал карандашом полпачки вензельной писчей бумаги.
Девушки на моих глазах терпеливо выключали свет и приводили в порядок камин. Хелен покорно собрала за мной лишний хлеб в кулек: «Ничего, вечером будет пудинг», – а Мэри – застукал-таки я ее за этим делом! – с помощью ладоней и ластика восстановила большую часть бумажной продукции и вернула ее на прежнее место – разглаженной, ровненькой стопкой.
Почему-то осознание того факта, что все эти досадные мелочи связаны с объективными трудностями, – ценами, скажем, на уголь, хлеб или бумагу, – не только не успокаивало меня, но раздражало еще сильнее. Дело в том, что я знал уже к тому времени: скупость – удел людей не бедных, нет (одна моя очень состоятельная кузина страсть как любила подсчитывать среднее количество угольков в ведерке и, соответственно, его оптимальную теплоотдачу), но прежде всего пошлых и вульгарных.
Арнольд, в противоположность им всем, был необычайно щедр, даже, пожалуй, расточителен.
Однажды промозглым, дождливым вечером он принес матери два восхитительных букета лилий. Простуженная миссис Льюис сидела у слабого огня и куталась в шаль. Увидев цветы, она так вся и сжалась от страшного предчувствия; глаза ее широко раскрылись.
– Откуда это у тебя?
– Из Блонфилда. Правда, красивые?
– И это – мне?
– Ну конечно, – он широко улыбнулся, радуясь своему подарку.
– Но разве сегодня мой день рожденья? Или какой-то другой праздник?
– Неужели я должен непременно ждать какого-нибудь праздника, чтобы подарить тебе цветы, мама? Вечер такой отвратительный – хотелось хоть чем-то тебя развеселить.
– Ах, Арнольд, но нельзя же так тратиться, спасибо тебе, конечно, но лучше бы ты этого не делал.
Вид у нее при этом был такой несчастный, что стало ясно: себе этим «подарком» он испортил настроение на весь вечер. В ту минуту я просто готов был возненавидеть миссис Льюис.
Временами на Арнольда находило жуткое веселье. Особенно запомнился мне один вечер, когда в комнате вдруг словно вырос невидимый барьер: по одну сторону – мы с ним, по другую – в каком-то тревожном смятении – все остальные. Была с нами и Вайолет Эндрюс. Она вместе с Мэри училась в Блонфилде, нередко присоединялась к нам в наших прогулках по болотам и мне страшно не нравилась. Безвкусная провинциальная барышня; типичная школьная «училка», только еще и претенциозная донельзя – и что только увидел в ней Арнольд? В те годы я искал свой юношеский идеал и готов уже был поверить, что живое его воплощение обрел в лице своего друга.








