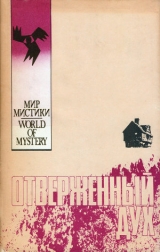
Текст книги "Отверженный дух"
Автор книги: Маргрит Стин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Вы мне еще и не верите! – она повернулась ко мне с сердито-театральным взмахом кисти. – Я, конечно, все это напридумывала! Мне, наверное, страшно не терпится породниться с сестричками-неврастеничками да с этим гнусным папашей… Вы ничего тут не замечаете, – продолжала она, не обращая внимание на мою вытянувшуюся физиономию, – да и зачем – вам и так неплохо, вам с ними не жить. А окажись вы на моем месте – не так бы еще, наверное, заговорили.
Я так растерялся, что залепетал нечто несуразное: дескать, поздно уже, и пора выключать свет… Она визгливо расхохоталась.
– Лучший способ решить проблему – не заметить ее, так ведь? Ну да ладно. Честно говоря, я уже как-то сама привязалась к Льюисам, может быть, вытерпела бы и этого папочку… Кстати, известно ли вам что-либо о его «болезни»?
Что-то такое об этом Арнольд мне говорил: кажется, опухоль какая-то была выявлена в мозгу, но к счастью, вроде бы, незлокачественная… Вайолет скептически пожала плечами.
– Ну разумеется. Ему объяснили все именно так.
– А что на самом деле?
– Если хотите знать мое личное мнение, – она напустила на себя загадочный вид, – то дело здесь куда серьезнее. И мне кажется, в такой ситуации сына следовало бы подготовить к худшему. Но мне надоело уже спорить об этом с девчонками: эти северные примадонны разве признаются, что в семье у них что-то неладно, что-то не как у всех?
Я окончательно растерялся: с одной стороны, хотелось выведать об этом побольше, с другой – стыдно было сплетничать о собственном друге у него за спиной.
– Конечно, вы еще слишком молоды, чтобы меня понять! – Я не замедлил обидеться: заканчиваю школу, готовлюсь в универ, и вот, на тебе! – Но все равно, Баффер, отвела с вами душу – и на том спасибо. Боже, как я несчастна!..
Она стремительно бросилась к двери. Я предусмотрительно зажег для Вайолет свет в холле, потом нашел свою книжицу и уже поднялся было по лестнице – как вдруг столкнулся с ней на площадке. Девушка схватила меня за рукав, затащила к себе в спальню и затараторила, не позаботившись даже о том, чтобы закрыть как следует дверь:
– Могу я вас попросить об одном одолжении? В следующем семестре, пожалуйста, присмотрите за Арнольдом!
Просьба была совершенно абсурдной: он уже год как в Каботе, я только еще собираюсь в Кортхаус – о каком присмотре могла идти речь? Я стоял обалдевший – и от недавнего признания, и оттого, что попал в такую дурацкую ловушку: Арнольд-то еще читает, наверное, – а ну как услышит шум и выйдет взглянуть, чем это мы тут занимаемся? Он любил, вообще-то, посмеяться над «буржуазными предрассудками», но, обладая завидным чувством юмора, оставался при этом в глубине души пуританином – может быть, и не столь фанатичным, как его родители, но достаточно строгим, чтобы оскорбиться моим присутствием здесь, в такой час. Хуже всего – он-то как раз будет спокоен, разозлюсь именно я, ну и, одним словом, каникулы будут испорчены.
– Честное слово, я сделаю все, что будет в моих силах…
Но не так-то просто от Вайолет было вырваться.
– Вся эта «психическая» белиберда… Мы ведь знаем, как она опасна! Но нас он не слушает, а отец – тот во всем этом только его поощряет. Теперь еще новость: оказывается, он и в студенческом кружке теперь что-такое «исследует» – сам мне признался. Вот бы вы уговорили его все это бросить, а? – голос ее звучал умоляюще. – Вредно ему это, он ведь такой впечатлительный! А от вас он совершенно без ума; ваше мнение для него много значит… Он непременно вас послушается!..
Да, как же!.. Я, конечно, стал успокаивать ее, причем совершенно искренне: судя по последнему нашему разговору с Арнольдом, он в этом семестре намеревался забросить подальше все посторонние дела и вплотную заняться учебой. За несколько дней до этого мы снова вышли с ним на болота, и он всю дорогу очень серьезно говорил о своем будущем, о том, что ему обязательно нужно получить диплом к концу следующего года.
– Ты ведь и сам знаешь, в каком мы положении: стыдно мне у мамы с девочками тянуть последние гроши. А ведь им так и придется меня содержать, пока я не найду себе, наконец, работу.
Я как раз намеревался по возможности бурно отметить свое поступление в университет и намекнул другу на то, что очень рассчитываю получить от него моральную поддержку. Он покачал головой.
– Нет, Баффер, на общественной жизни ставим жирный крест. Из всех своих банкетных списков смело вычеркивай меня раз и навсегда. Тем более, Кабот и Корт-хаус не общаются, в чем ты и сам очень скоро убедишься. Но я тебя всегда буду рад видеть: захочешь – забегай.
3
Стыдно было теперь, вспоминая те годы, осознавать, как же мало усилий приложил я к тому, чтобы хоть как-то поддержать нашу дружбу. Верно, впрочем, было и то, что Кабот и Кортхаус «не общались»: в первом собралась интеллектуальная элита, во втором – благородные отпрыски, для которых университет служил всего лишь ступенькой в безоблачное будущее, расписанное на многие годы заранее. Несколько раз, правда, я забегал к нему в каморку на Каули Роуд, но долго там не выдерживал: теснота и полумрак, книжные завалы и невыносимая капустная вонь из общей кухни приводили в смятение, гнали вон. Какими бы крепкими ни казались мне узы нашей давней дружбы, они были явно бессильны перед той пропастью, что пролегла между двумя такими далекими, совсем непохожими Оксфордами – его и моим.
– Вы правы, мы виделись нечасто.
Вайолет курила, стоя у плиты; молчание ее начинало меня раздражать – в нем каждый раз чувствовался упрек. Интересно бы узнать, подумал я, чем же тогда закончилась вся эта история с «предложением»…
Будто уловив ход моих мыслей, она неожиданно рассмеялась.
– Вы знаете, а он ведь тогда всего лишь пошутил! То есть, это просто была очередная его нелепая выходка, вроде той дикой пляски, помните? Или регулярных сцен раскаяния, когда ему начинало казаться вдруг, что он обидел кого-то – сестер или маму…
Вот о чем уж я предпочел бы забыть. Самой, наверное, тошнотворной особенностью Льюисов была их противоестественная какая-то сверхчувствительность друг к другу. Тут Арнольд ничем от других не отличался и очень этим меня изумлял.
– Бедняга! Он и вспомнить-то никогда не мог, чем же таким и перед кем провинился, а им все было мало… Эх, несчастная его, замороченная голова!
– Не хотите ли вы сказать, что от всего этого Арнольд… сошел с ума?
Я услышал себя как бы со стороны и даже испугался своих же слов.
– Вряд ли сумасшедший сумел бы так вот устроить свою жизнь, а?
– Ну, скажем так, слегка пошел вразнос. Согласитесь, если даже взять его отношение к сыну…
– А почему бы не «взять» для начала самого этого сына? – перебила Вайолет; я умолк, а она продолжала. – Или, скажем, мистера Льюиса? Вы, конечно, тогда были слишком молоды, настолько молоды, что ничего вокруг себя не замечали, но хоть что-нибудь вам о нем должно быть известно?
– Известно, что он инвалид, почти не встает с постели.
– Очень удобная версия, сразу все объясняет: и жертву Мэри, и разбитую помолвку Хелен, и гибель миссис Льюис, и много что еще…
– Гибель? Но разве миссис Льюис… не умерла…
– От сердечного приступа? Слабое, сонное насекомое: вся жизнь – сплошные жалобы и обиды. Но вот на что ни разу в жизни жаловаться ей не приходилось – и Мэри первая это готова признать, – так это на здоровье. Крепенькой была бедняжка, как тот пивной бочонок. Но вот наступает роковая ночь, и сердце ее внезапно останавливается: с чего бы это? Нам с вами нет смысла гадать. Есть на свете лишь один человек, который при желании мог бы пролить свет на эту тайну – мистер Льюис: он находился с ней в одной комнате, он даже сумел приползти вниз, чтобы сообщить всем о случившемся, – разумеется, когда было уже слишком поздно.
– С тех пор, кажется, он и остался… в какой-то степени инвалидом?
– Именно «в какой-то», – усмехнулась Вайолет, – в достаточной, впрочем, чтобы – все в той же «какой-то» степени – лишить жизни всех окружающих. Хелен, как вы помните, была помолвлена: что ж, жених вовремя спохватился. Сегодня она в доме одна заменяет весь штат прислуги. У Мэри – у той специализация узкая: любимый папочка. Да, но что же с ним приключилось такое?
Неизвестно. У меня есть знакомые в «тех сферах»: они говорят, будто бы это какое-то умственное расстройство неясного происхождения, аналогов которому не найдено в медицине. Каково, а? Но неужели Мэри в этом признается? По семейной репутации это был бы решающий удар.
Вопрос мой отразился, должно быть, на лице.
– Послушайте, мы все ведь там живем с незапамятных времен: друг о друге знаем все, и даже больше. Так вот, родители мои с самого начала не одобряли моей дружбы с Мэри. «Льюисы? Чудаковатый народец»! О, в устах отца, поверьте, это кое-что значит!
Беседа наша как-то вдруг выдохлась: наверное, мы с Вайолет одновременно почувствовали, что недостаточно доверяем друг другу.
Она поспешно, будто опомнившись, встала и быстро со мной распрощалась; я наполнил бокал и от нечего делать стал вертеть ручку приемника. Подошла к концу какая-то политическая беседа, и ведущий объявил старый рэгтайм. «Котенок на клавишах»! – и снова память перенесла меня в те далекие дни…
– Слушай, я вчера вечером всех вас, наверное, здорово напугал. Просто не понимаю, что на меня нашло такое.
– Ну, меня так ты просто порадовал: такие финты – не каждый разучит…
– Зато маме, наверное, радости было немного. Я… ничего такого не сделал?
– Нет, конечно.
– Слава богу. Понимаешь, я в такие моменты сам не понимаю, что со мной происходит.
– Да ничего особенного и не происходит; брось ты, ерунда это все.
Хотел успокоить, а вышло – будто отмахнулся: глаза его обиженно заблестели.
– Для кого-то, может быть, и ерунда. Но знаешь, когда что-то вынуждает тебя действовать вопреки собственной воле…
– Ну скажи мне, какой от этого вред? Хватит тебе так переживать по пустякам.
– Переживать по пустякам, говоришь… Наверное, это наследственное, как ты думаешь?
Я из вежливости промолчал…
Пьеска закончилась, я выключил приемник и поднялся к себе. Еще ночь, и я со спокойной душой уберусь восвояси. Пора кончать, действительно, с отдыхом, от которого так устаешь.
Не знаю уж, в природной ли трусости все дело, или война виновата – может быть, каждый, кто прошел этот ужас, до конца жизни обречен сторониться любых эмоциональных встрясок? – но только с первых же дней после победы я вступил в свой действительно решающий бой: за родную тихую заводь, за мирную обывательскую жизнь. Надо сказать, в борьбе с чувственным своим, если можно так выразиться, началом я весьма и весьма преуспел. Сегодня разум мой был занят вещами, требующими суждений исключительно объективных. Как примерный гражданин своей страны, я всерьез размышлял, например, о том, как бы нам всем поскорее вывести общество из хаоса, вырвать политические структуры из щупалец лейбористов, вернуть народу довоенные ценности, а главное, восстановить согласие и порядок. Одним словом, сегодня я жил уже тем, что составляло истинные интересы нации… Или, может быть, нация, наоборот, во всех этих бесконечных рассуждениях о собственных интересах искала всего лишь спасение от назойливых сиюминутных мелочей и забот?
Так или иначе, на этот уик-энд я возлагал большие надежды. Хотелось, конечно, повстречать школьного друга, расслабиться в приятной беседе, вспомнить старые времена; но более всего – поговорить с умным, толковым человеком, тонко чувствующим пульс общественной жизни, хорошо знающим все, что может волновать любого ответственного владельца недвижимости. Могли я хотя бы на минуту предположить, что визит к приятелю отбросит меня в трясину склок и дрязг – ту самую, из которой я только-только начинал выбираться?
Нет, не искал я от этой встречи каких-то особенных личных выгод, да и бог с ней, с политикой, – все мы одинаково от нее устали. Поговорить бы от души о поэзии и языке, о забытой, но открытой заново классике и новых творческих идеях, обо всем, одним словом, что когда-то так его волновало… И вместо всего этого – какой-то смутный, опасно затягивающий в себя семейный конфликт? Наверно, это было нечестно с моей стороны: попытаться восстановить старую дружбу, не взяв при этом на себя ровно никаких обязательств. Но как ни симпатичны были мне Арнольд с супругой, я не считал себя вправе ввязываться в чужие дела, не разобравшись с собственными.
И вновь в эту ночь мне приснился страшный сон. Мы с Арнольдом шли по болотам, в призрачном лунном мареве, шли много часов, пока не добрались наконец до пересечения двух троп. Арнольд стал на колени и опустил ладонь.
– Вот тут. Именно тут, – сказал он и медленно поднял на меня глаза.
Пока я пытался понять что-то, он поднялся на ноги и вдруг начал расти, вытягиваться вверх; еще несколько секунд – и тело его зависло в воздухе, между луной и жадной, глухо перешептывающейся вокруг трясиной. Овальные стеклышки блеснули мертвым, дьявольским огнем. Ужас подкатил к горлу…
«Кто ты? Имя твое не выразят слово и мысль.
Страшное, старое чудище – прямо передо мной…»
Я проснулся от собственного крика и долго еще не мог заставить себя сомкнуть глаза.
Глава 5
1
Наступило воскресное утро. На рассвете вдруг грянул гром, но ливень закончился так же внезапно, как и начался, и теперь весь сад томно нежился в клубах теплого пара. Когда я спустился к завтраку, за столом сидела одна Фабиенн в сером халатике. Она молча кивнула мне, не отрываясь от чашки.
– Мы что же, сегодня с вами раньше всех? – я заглянул в буфет.
– Нет, что вы: Арнольд с Вайолет отправились в церковь. А Доминик-Джон – тот спит еще, наверное. Да, странный мы вам устроили уик-энд.
Она поднялась, босиком прошла по комнате – краешком глаза я заметил, какие у нее красивые узкие ступни, – затем отворила стеклянную дверь и, выйдя во двор через веранду, шагнула прямиком в чан с зеленой порослью, стоявший у самых ступенек. Кустики всплыли; она подняла к лицу – один, другой; затем еще раз нагнулась, омочила пальцы и провела ими по лицу. Какой-то неизъяснимой прелестью засветилась вся ее тоненькая фигурка в подслеповатых лучах слабого, сонного солнца.
Фабиенн вернулась в дом – с видом совершенно невозмутимым, так, будто проделала только что нечто само собой разумеющееся, – и тут же пошла поднимать трубку: зазвонил телефон.
– Ну что ж, спасибо вам, что предупредили, – донесся до меня ее голос. – Да, передайте, что буду обязательно – где-нибудь в первой половине дня, наверное… звонили от мамы, – объяснила она, возвращаясь ко мне. – Представьте себе, слегла с простудой. И знаете, что из этого следует? – она усмехнулась. – Что Доминик-Джон весь день будет с нами. Что ж, мне очень жаль.
Я попытался возразить что-то, но под ее проницательным взглядом умолк на полуслове.
– Бросьте вы. Это мой сын, и он самое дорогое, что у меня есть, но характер у него отвратительный. Даже не знаю, кого в этом следует винить, наверное, все-таки Арнольда. Мне почему-то кажется, что все эти его выходки – своего рода протест против отцовской сентиментальности.
Что ж, подумал я, очень может быть; до сих пор, правда, ничего подобного мне в голову не приходило.
– Я с детства восставала против любых попыток превратить меня в собственность, – продолжала она. – Вот и мальчик – тоже, наверное, взял да и выработал себе иммунитет. Это очень плохо, конечно, и жестоко по отношению к отцу, но – я его понимаю. Для меня жизнь просто утратила всякий смысл, когда я поняла, что муж всерьез возомнил себя властелином; решил, что теперь владеет мной безраздельно, – и душой, и телом. Всем моим представлениям об идеальной супружеской жизни это никак не соответствовало. Вас такие признания не шокируют?
Я покачал головой; шокировать меня чем-либо эта женщина была неспособна: мы говорили с ней на одном языке – разве что она им владела чуть получше.
– Вы-то, конечно, консерватор до мозга костей. К тому же, в плену побывали; а оттуда – со всеми своими довоенными принципами – к нам, в сегодняшний день. Нет, вы ничего такого не подумайте, я очень люблю своего мужа. Но привязалась я к нему по-настоящему лишь когда… отвязалась кое в чем. Когда нашла себе отдушину.
– В чем же это?
– В садике. Началось это во время войны: естественно, из-за нехватки продуктов. Ну а потом бросить его я уже не смогла. Нет, вы не туда смотрите, это совсем не то, – она махнула рукой на цветочные клумбы, – тут работает садовник, а заправляет всем Арнольд. Мой садик – там, за дорогой, среди пристроек. Когда-нибудь покажу его вам, если захотите. Там все у меня маленькое, миниатюрное: морковочка – вот такая, с пальчик; луковки-жемчужинки, как раз для солений. Страсть как люблю возиться на кухне. Хотя, конечно, – опомнилась она, – боюсь, до сих пор не давала вам повода в том меня заподозрить.
Взмахом руки Фабиенн пресекла мои возражения и взглянула на часы.
– Пойду взгляну, может быть, мальчик уже проснулся.
– Давайте я схожу: все равно подниматься за зажигалкой.
– А вы его, пожалуй, и не найдете. Он у нас непоседа: никогда не спит на одном месте. Разбаловали, я понимаю, но… не стану утомлять вас объяснениями. Кофе себе нальете сами?
– Поутомляли бы еще чуть-чуть. Ради этого от кофе готов отказаться.
Что так притягивало меня в этой маленькой женщине? Сухое, увядшее личико и внезапные отблески еще недавней, юношеской красоты; сдержанность во взгляде, глубина в голосе и эта неожиданная, обезоруживающая откровенность – все вдруг показалось мне очень близким, будто давно знакомым. Чтобы как-то удержать ее рядом, я спросил первое, что пришло в голову.
– С такими привычками трудно ему будет, наверное, в школе?
– Отчасти поэтому он все еще здесь, – Фабиенн умокла, прикусив губу, – мы все-таки надеемся, что у него пройдет это с возрастом, – продолжала она не слишком уверенно, – дело в том, что и у Арнольда хроническая бессонница, из-за этого мы с ним даже спим раздельно. Возможно, по наследству передалось, как вы считаете? В любом случае, не станешь же ребенка в таком возрасте пичкать снотворным, а уж наказывать его за эти ночные бдения и вовсе бессмысленно. Тем более, в чем-то мы и сами виноваты.
Фабиенн поднялась, взяла у меня тарелку; затем запустила ломтик хлеба в тостер. Движения у нее были такие вялые, будто она слишком напряженно пыталась расслабиться. Наконец легким перышком она опустилась в кресло.
– Года четыре назад с нами была няня. Доминик-Джон рос беспокойным ребенком, утомлял ужасно, – мне показалось, здесь она стала вдруг осторожнее подбирать слова, – всех, но только не ее: женщина была предана мальчику настолько, что никакой помощи даже от нас не принимала. Старомодная няня, правда? Сейчас такой днем с огнем не сыщешь. Муж, правда, постоянно вмешивался, вечно выходил из себя – тут уж мне приходилось ее защищать… Как-то вечером мы отправились на званый ужин. Это был официальный прием в Мэншн-хаусе, и почему-то Арнольду обязательно нужно было присутствовать; ах да, он же там выступал со спичем. Терпеть не могу подобных мероприятий, но Арнольд настоял: со мной, дескать, он чувствует себя увереннее – одним словом, пришлось ехать. Да и почему бы нет – мы считали, что во всем можем положиться на нашу няню.
Она умолкла. Потом вдруг закрыла лицо руками, снова выставив напоказ свои бедные изуродованные пальцы.
– Если тяжело, не нужно об этом.
Руки скользнули вниз, пальцами зацепившись за край стола.
– Кажется, я понимаю Арнольда… Наверное, вы очень добрый человек.
Я покраснел, вспомнив, сколько раз, по доброте душевной, подводил своего верного друга. Она заговорила снова, уже спокойнее.
– Как мы радовались, когда она только у нас появилась! Вы понимаете – настоящая няня, как из сказки: седые волосы, розовые щеки, в меру строгая и очень ласковая, а терпеливая – ну свыше всяких сил. Но закончилась война. Война, которая задела каждого, – как-то мы тогда не задумывались об этом. Позже доктор рассказал нам, что женщина долгие годы страдала от межреберной невралгии – кто бы мог подумать! – а незадолго до нашей встречи с трудом оправилась от нервного припадка: это был рецидив давнего шока, после плимутской бомбардировки. Расспроси мы ее как следует, она бы и скрывать, конечно, ничего не стала, но уж очень сама о себе не любила распространяться. Как-то раз заметила невзначай, что поработала в госпитале, ну и – «да, получила свое…» Не раз мы замечали, что с няней что-то неладно: женщина казалась раздраженной, усталой, но с ребенком преображалась на глазах, – Фабиенн остановилась, чтобы перевести дух. – В Лондон, короче говоря, мы выехали со спокойной душой. Ночью ударил мороз – было это где-то в самом начале весны, днем только начинало подтаивать, и Арнольд, помню, все ругал себя за то, что забыл залить антифриз. Знаете, бывает так: все время откладываешь…
– Тогда еще за рулем был он?
– Да, оставить вождение… ему посоветовали чуть позже, – тут я ощутил еще один незримый барьер, – с банкета мы ушли около полуночи, потом еще машина долго не заводилась, так что домой мы приехали часа в три. А какая ночь!.. Все сияет, искрится – луна, звезды, лед по обочинам…
Она умолкла и взглянула на меня задумчиво.
– Выйдемте на минутку.
Мы прошли немного по аллее и остановились: отсюда полностью была видна боковая стена дома с единственным очень широким окном. Фабиенн указала вверх, на острый фронтон.
– От земли – через окно – и к самому выступу крыши тут поднималась сплошная зеленая стена: все было увито плющом. Когда мы подошли, Доминик-Джон сидел вон там, на самой верхушке.
– Как – на таком морозе?
– Босиком, в пижаме и в меховой шубке – слава богу, хоть ее-то хватило ума набросить. К счастью, просидел он там недолго: иначе просто замерз бы, упал и разбился. Увидел он нас, да как закричит – «Вы сюда не войдете, закрыто!» Он имел в виду, конечно, дверь спальни, то есть своей спальни – во-он там.
– Где же была няня в это время?
– О боже, – Фабиенн притронулась к вискам, – весь день она мучилась от болей, принимала аспирин и решила ребенку дать в молочке таблетку. Тот заснул – и она с ним заодно. Только представьте: мы взламываем дверь – она лежит одетая, с ключом, конечно же, в кармане. Доминик-Джон не догадался: проснулся, понял, что заперт, и перепугался до смерти. Стал будить ее – она не просыпается…
– Вот что самое страшное: ребенок решил, может быть, что женщина мертва.
Фабиенн как-то странно на меня взглянула.
– Прежде чем выбраться в окно, он устроил в комнате полный погром. Разбил все, что только бьется: зеркало, картины, фарфор, часы, какие-то безделушки ее посбрасывал с камина. А все вещи из чемоданов разбросал по полу и забрызгал чернилами. Сколько на все это времени потребовалось, даже трудно себе представить.
– И няня не проснулась от такого шума? Здорово же она себя накачала.
– Бедняжка весь день до этого принимала успокоительное… В общем, мы подтащили лестницу, я поднялась и спустила ребенка на землю. Странно: он не то чтобы испуган был или взволнован – а страшно зол: что такое, мол, как посмели его – и закрыть! Арнольд переполошился, конечно, вызвал доктора, ну а тот что? – натрите ножки скипидаром, на ночь можно дать горячего… Ступни от мороза просто посинели.
– И что же няня?
– Только зашел доктор – и она очнулась, поняла, что произошло, и… это было жалкое зрелище. – У Фабиенн судорога пробежала по лицу. – А потом произошло нечто ужасное. Я все понимаю, и состояние мужа тоже, но все-таки нельзя было говорить с ней тогда в таком тоне. Тем более, доктор предложил ей лечь ненадолго в больницу, и она вроде бы согласилась. Только все просила – боже, как она просила! – чтобы позволили ей потом вернуться к ребенку. И тут Арнольд сказал ей что-то; я не расслышала – только увидела, как лицо у нее вдруг передернулось… Я предложила помочь ей собрать вещи – потому что не хотелось, чтобы она увидела весь этот ужас, – и она сказала, что примет только ванну напоследок…
Фабиенн медленно пошла к дому; я за ней.
– Для Арнольда это был страшный удар.
– Она покончила с собой?
– Лезвием вскрыла вены. – Сами слова эти резанули слух.
– Представляю, – заметил я, – каким это было потрясением для всех.
– Да, с мужем пришлось повозиться. Что же касается мальчика, то… вы знаете, может быть, дети и не осознают до конца всего ужаса смерти. Другое дело, что он перенес шок, а это ведь как бомба замедленного действия, может взорваться в любой момент. Странности начались, и очень скоро. Мальчик и до этого спал беспокойно, а теперь началось нечто невообразимое. По утрам его стали находить в самых неожиданных местах: у слуг в чулане, в стенных шкафах – где угодно. Сначала я укладывала его у себя, затем поправился муж, и мальчик перешел к нему в спальню, но каждую ночь он ускользал в какой-то момент, и… Доктор посоветовал не предпринимать ничего вообще: пусть все само собою перегорит, отработается и выйдет наружу. Тем более, ни на здоровье ребенка, ни на развитии его все это вроде бы не отражалось. Известие о смерти няни он воспринял спокойно, почти как должное. Доминик-Джон вообще у нас сдержанный мальчик, и может быть, это такая форма самозащиты, но очень жаль Арнольда: он просто жить не может без его любви.
– Ну а мисс Эндрюс? Она-то как здесь оказалась?
Вопрос этот занимал меня с самого начала. Но тут, кажется, был еще один барьер. Фабиенн смутилась, потом заговорила, но очень неохотно.
– Здесь Арнольд проявил инициативу. После смерти няни мы стали искать ей замену, и оказалось, что сделать это практически невозможно. Приходили, конечно, женщины по объявлениям, но все не то: ясно было, что найти общий язык с мальчиком никто из них не способен. Ну а потом я как-то быстро вдруг слегла от всех этих забот, у Вайолет как раз были каникулы – тогда она еще работала в школе, – вот Арнольд и пригласил ее: погостить, а заодно и помочь с мальчиком.
– Кажется, какой-то свой подход она к нему все же нашла?
– О да, очень свой: деловой, без всяких глупостей. Она получила прекрасное образование, обладает большим опытом, и мне…
– «Ненавистна!» – пронеслось у меня в голове.
– …И мне иногда просто хочется ей позавидовать. Все-таки людям, скажем так, не слишком чувствительным, на этом свете как-то легче живется.
Впервые за все это время в тоне ее послышалось нечто похожее на язвительность. Итак, Вайолет, оказывается, не слишком чувствительна; интересно, подумал я, а знает ли что-нибудь Фабиенн о том юношеском их романе?
Мы уже подходили к дому, когда на пороге выросла вдруг фигурка Доминик-Джона в бледно-голубой ночной рубашке. Над безмятежным его личиком озорным гребешком вздымалась светлая шевелюра.
– Доброе утро. Ваш недостойный и невежественный гном о завтраке своем смиренно вопрошает. Равно как и о том, куда запропастился наш сиятельный Пу-Чоу.
– Наш расписной мудрейший мандарин, – отвечала в тон ему Фабиенн, – занялся отправленьем ритуала. Позвольте же своей служанке темной ваш аппетит бездонный утолить.
– Ваши любезные слова ласкают слух, – продолжал мальчик, – поскольку дышат истинным радушьем и произнесены в согласье с этикетом. Ваш слабоумный и несносный раб не станет подвергать сомненью достойный выбор благородной Пчелки, несущей нам нектар…
Фабиенн рассмеялась и нежно обняла сына за худенькие плечи.
– Яичницу с ветчиной?..
2
– Ничего, если я оставлю тебя на часок? – спросил Арнольд, когда они с Вайолет закончили завтракать. – Письма кое-какие нужно еще написать. Пусть пока Доминик-Джон тут тебя поразвлечет.
Мы с мальчиком холодно переглянулись. Я все никак не мог смириться с мыслью о ребенке, способном сунуть в печь живого кота; он – догадывался, наверное, что вызывает во мне чувства, очень далекие от умильного восхищения.
– Хотите – помогу вам с Телемакусом.
Я поблагодарил: кроссвордами не увлекаюсь.
– Я, в общем, тоже. Отец – тот без них жить не может, а я при нем – справочное бюро, со словарями. Но у меня, конечно, есть и свои дела – на тот случай, когда в компании моей отпадет необходимость.
Я намекнул мальчику на то, что процесс этот уже начался, и расположился в кресле с кипой воскресных газет. Потом мне пришло в голову, что неплохо бы разыскать расписание и выбрать себе обратный поезд. Заказать еще раз такси на полный маршрут будет, пожалуй, накладно, а вот до станции – почему бы нет: как раз поспею в Паддингтон до отправления последнего поезда на Уинчестер. В холле я нашел столик, заваленный справочниками, и уселся штудировать столбцы незнакомых цифр и названий.
Я решил для себя твердо: как бы ни уговаривали меня Арнольд и Фабиенн остаться тут на ночь, буду отказываться под любым предлогом. Какой-то безотчетный страх подсказывал: пора уносить ноги, и поскорее. Разум восставал: что за трусость такая? Другу плохо, ему нужна поддержка, а я – пускаюсь в бегство? И тут же подбрасывал аргумент: чем я-то могу помочь? То-то же: значит, нечего и ввязываться не свое дело, пусть даже и ради Фабиенн.
Кроме того, как ни стыдно в этом признаться, все мне тут порядком осточертело. Дома-то я позволял себе иногда вот так поболтаться без дела, посвятить выходные мусору, скопившемуся за неделю, но уж если принимал гостей или, тем более, приглашения, то знал наверняка: каждая минута моя будет заполнена до предела: гольфом и картами, легким флиртом, главное же – общением с людьми, имеющими в обществе определенный вес или хотя бы определенный взгляд – на тех, кто этот вес имеет. Здесь же все слишком живо напоминало мне те давние посиделки у Льюисов; изменился вроде бы интерьер, но суть-то осталась прежней: та же унылая спертость, семейная замкнутость и духота. И если в те времена я, одинокий и потерянный мальчик, жадно ловил каждое доброе слово, наслаждаясь теплом чужого семейного очага, то теперь мне требовалось нечто иное.
Между тем, погода – будто бы для того, чтобы окончательно укрепить меня в принятом решении – испортилась окончательно. Дождь усилился, перешел в сплошной водяной шквал и рассохшиеся от многодневной жары цветочные клумбы превратил в жидкое месиво. Пригороды под дождем: есть ли в природе зрелище более унылое? Суетливые пешеходы под бесполезными зонтами, автомобили, равнодушно поливающие их фонтанами грязи, белые собачонки с черными животиками, жмущиеся пугливо к стенам и оградам, – все тут несет на себе печать типичной пригородной неприкаянности.
Не намного веселее было и в доме: мне пришлось даже включить свет, чтобы разобраться наконец с расписанием. Липкий, зеленовато-болотный от заоконной листвы полумрак сгустился в четырех стенах. Развеял бы тоску веселый огонек в камине, но и без него было душно и жарко. Напиться бы сейчас да завалиться спать; а что, Арнольд бы меня понял, пожалуй, но вот Фабиенн…








