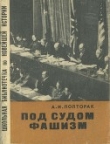Текст книги "Левый фашизм (СИ)"
Автор книги: Марат Нигматулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Возражения наши, однако, касаются в первую очередь не самого латинского языка, но скорее того педагогического метода, который использовался гимназическими учителями для привития классической образованности своим воспитанникам. Способ же преподавания древних языков, повсеместно практиковавшийся классическими гимназиями в России и Германии, – был глубоко формалистическим, то есть мертвым. Указанный подход, получивший впоследствии наименование «формального» был впервые сформулирован известным немецким педагогом Фридрихом Гедике. Этот последний объяснял необходимость преподавания древних языков так: «Если когда-нибудь ты и забудешь греческий или даже латынь, польза от них все равно останется благодаря приобретенной пластичности ума, которая поможет тебе в твоих делах.» [17]. Такого рода метод, господствовавший в немецких гимназиях с конца XVIII века, очень быстро привел к такому положению, когда «среди тех школьников, кого готовили к профессиональным занятиям древностями, римских и греческих авторов свободно читают не более одного процента» [18]. С изгнанием устной речи за пределы гимназических стен деградация преподавания латинского языка на окончилась: в начале девятнадцатого века большинство филологов «отказалось в своих учебниках от метода „хрестоматийного чтения“ в пользу „грамматического“ метода вкупе с упражнениями» [19]. Разумеется, указанный процесс абсолютно профанировал обучение латинскому языку в гимназиях. Если мы обратимся к тем учебным пособиям, какие применялись в XIX столетии гимназическими преподавателями древних языков как в Германии, так и в России, то мы увидим, что руководствуясь ими выучить предмет на должном уровне просто невозможно. Вершиной педагогического невежества по праву могут считаться использовавшиеся в Пруссии учебники за авторством Христиана Остермана, которые содержали почти исключительно грамматические упражнения, сопровождаемые очень скудным количество слов, предполагавшихся к заучиванию наизусть. Разумеется, занятия классическими языками по таким учебным книгам преображались в совершенно оторванное от языковой практики заучивание, не требующее никакой действительной мысли, но только лишь достаточного усердия. Все вышеназванные причины и обуславливали довольно скромные результаты гимназической педагогики даже в контексте основных и профильных ее предметов: «Однозначной оценке не поддается и качество образования выпускников классических гимназий. Глубокий знаток русской школы П. П. Блонский свидетельствует в своих мемуарах: <...> они вовсе не знали европейской литературы, поскольку ее изучение не предусматривалось гимназическими программами, „мизерными“ были их познания в области истории, так как ее изучение сводилось к вдалбливанию „бесчисленного количества фактов, которые поразительно быстро исчезали из памяти“; от изучения географии лишь в младших классах в их головах оседало только знание карты; гимназия не давала им никаких сведений о природе из-за того, что не обучала химии и естествознанию. И даже изучение главного гимназического предмета – древних языков – сводилось, в конечном счете, к запоминанию немалого числа слов и нескольких латинских выражений, но к совершенному неумению „перевести двух строк“ из произведений великих писателей Древнего мира. Те, кто занимались „новыми языками“ (немецким, французским) только в классе, знали их плохо.» [20]. Невысок был также и «развивающий» потенциал гимназического образования, на тему коего высказался все тот же П. П. Блонский: «Развивалась известная вдумчивость, но скорее, правда, формального характера, умели неплохо оперировать данными, но над содержанием их не очень задумывались. Вдумчивость проявлялась не в том, что критиковались даваемые мысли и добывались новые. Гимназия плохо воспитывала умение открывать новые истины.» [21]. Разумеется, перечисленные сведения никак не согласуются с утверждениями А. Любжина о том, что едва ли не всем воспитанникам гимназий были присущи «два-три, а то и четыре древних и новых языка, доброкачественные знания по истории, знакомство с иностранной литературой на языке оригинала, осуществление нескольких исследовательских работ» [22].
Следует также отметить ложность представлений А. Любжина о древних языках как о некоем универсальном тренажере для ума, якобы полезном для всякого человека, вне зависимости от рода его деятельности: «Подобные аргументы опровергаются школьным опытом самих российских естествоиспытателей. „Гимназия в наше время <...> мало привлекала к себе симпатии своих учеников и почти не вселяла в последних любовь к занятиям, а скорее производила на них противоположное действие <...> При этих условиях самое главное, что спасало нас от невежества, <...> это некоторый остаток свободного от гимназических занятий времени, которое мы по инстинктивному влечению <...> посвящали чтению посторонних книг (сочинений естественнонаучного характера)“, писал В. М. Бехтерев о Вятской гимназии. „Странным образом стремление к естествознанию дала мне изуродованная классическая гимназия, благодаря той внутренней, подпольной, неподозревавшейся жизни, какая в ней шла в тех случаях, когда в ее среду попадали живые талантливые юноши-натуралисты. В таких случаях их влияние на окружающих могло быть очень сильно, и они открывали перед товарищами новый живой мир, глубоко важный и чудный, перед которым бледнело сухое и изуродованное преподавание официальной школы“, вспоминал академик В. И. Вернадский. Многие российские естествоиспытатели выбрали свой путь еще будучи школьниками и вопреки установкам классического гимназического образования. Ведь если, по замечанию М. М. Стасюлевича, классическое гимназическое образование не помешало Д. И. Менделееву стать химиком и отстаивать идею индустриализации России, то оно и не помогло ему, и многим другим. Сам Д. И. Менделеев указывал, что „министерство народного просвещения России слишком мало внимания уделяет пропаганде естественных наук, хотя заслуги России в этой сфере знания значительны“, и приводил в пример М. В. Ломоносова. В свою очередь, „обращаясь к ученым, Катков прежде всего напомнил о том что в юношеском возрасте Ломоносов учился только древним языкам и математике, как раз такое образование и сформировало его строго логический ум“ при этом забывая, что в Славяно-греко-латинской академии и Санкт-Петербургском университете Ломоносов много читал сверх программы, а естественные науки открыл для себя в Германии, у Христиана Вольфа.» [23].
Особое внимание следует обратить на то, что А. Любжин пытается внушить своим читателям представление о неподкупности гимназического начальства, подкрепляя это утверждение тем, что «А. П. Чехов, потакая общественному настроению, мог изобразить комическими красками преподавателя древних языков, но он не мог создать образ учителя или директора, берущего взятку» [24]. В качестве еще одного подтверждения названной честности, якобы присущей гимназическому руководству, называет тот факт, что «отсев порядка 40% учеников для гимназии и реального училища был нормой» [25], совершенно забывая при этом про возможность сокращения численности ученического состава не столько за счет ленивых и неспособных к освоению программы, сколько за счет бедных и лишенных возможности на постоянной основе вносить необходимую для обучения денежную плату.
Поскольку же тип классической гимназии являлся в некоторой степени универсальным для европейских стран, то весьма уместной для иллюстрации глубокой коррумпированности таких учебных заведений представляется нижеследующая цитата из мемуаров французского писателя Жюля Валлеса: «Я случайно столкнулся с Леграном. В коллеже он шел классом ниже меня, и мы встречались только во дворе. Он <...> не терпел переводов, сочинений, латинских стихов, греческого языка и философии, питая к ним полнейшее и убежденнейшее презрение. И какое презрение!.. Он никогда не выучил ни одного урока, не приготовил заданного. И в ответ на все упреки не прибегал ни ко лжи, ни к дерзости, а противопоставлял им сон и оцепенение. В продолжение семи лет, каждый раз когда у него спрашивали урок или удивлялись тому, что он ни разу не решил ни одной задачи, Легран не менее удивленно протирал глаза и представлялся как бы только что пробужденным от глубокого сна. Когда учитель, выведенный из терпения, начинал требовать от Леграна точного объяснения, почему тот не выучил урока или не написал сочинения, заданного ему в наказание, то присутствующие становились свидетелями поистине плачевного зрелища: Легран поднимался и, уставившись мутными глазами, с разинутым ртом, смотрел в сторону кафедры, как будто там происходило что-то любопытное, чего он никак не мог понять; он издавал только нечленораздельные звуки, и не было никакой возможности вытянуть из него что-нибудь другое! Во всем этом не было и тени притворства или насмешки. <...> И все-таки он кончил курс; его чуть не каждый день выгоняли из класса, но из сожаления не могли решиться выгнать из коллежа.» [26]. Словом, Алексей Игоревич и сам превосходно знает, что «неспособный „элитарий“, попавший в элитное – уже без кавычек – учебное заведение, является для него разрушительным фактором страшной мощи» [27].
Поскольку мы уже обратились к автобиографическому роману французского писателя, то представляется разумным продолжить цитирование этого замечательного произведения, ибо оно является действительной энциклопедией гимназической жизни сороковых годов девятнадцатого века. Так, Ж. Валлес, – «первый ученик в классе» [28], которому гимназические учителя пророчили несомненный успех, ибо «кто преуспевает в коллеже, тот победоносно начинает свою карьеру» [29], – припоминает историю о «школьном товарище, получившем в коллеже все высшие награды, а затем найденном разбившимся насмерть на дне каменоломни, куда он бросился с отчаяния, проголодавши трое суток» [30]. Что говорить до последующей судьбы, то хотя сам «первый ученик в классе» избег участи несчастного самоубийцы, – никакой привычно понимаемой карьеры Ж. Валлес не сделал. В этом отношении хотелось бы позволить себе весьма пространную, но при этом очень важную цитату из многократно помянутого нами сочинения:
«– Я надеялся, что при рекомендации господина Сиванна, моего бывшего учителя, вы будете так любезны, что не откажете помочь мне найти место, которое очень трудно разыскать без знакомств и поддержки.
Бонардель останавливает меня движением руки и спокойно, с расстановкой спрашивает:
– Что вы умеете делать?
Что–я–умею–делать? Этот вопрос застает меня совершенно врасплох. Что–я–умею–делать?? Но я не подготовился, у меня не было времени подумать об этом! Что я умею делать???
– Я бакалавр.
Бонардель, вероятно предполагая, что я глух, повторяет свой вопрос громче:
– Что же вы у-ме-е-те – де-лать?
Я мну свою шляпу...соображаю... Бонардель ждет минуту, две... Две минуты прошли; он звонит и говорит вошедшему слуге:
– Проводите этого господина!
И снова сует нос в свои бумаги. Повесив голову, я иду следом за слугой. Что же–я–умею делать??? Я думал об этом всю ночь напролет и не мог ничего придумать.» [31].
Анализируя вполне очевидные недостатки, а равно ложные достоинства гимназического типа, мы совершенно отвлеклись от классовой сущности данного вида школы как социального института, действующего при вполне конкретных условиях экономического развития. В наиболее сжатом виде, но при этом весьма точно передает классовый смысл гимназии Ф. Зелинский, одно из высказываний коего А. Любжин помешает в качестве эпиграфа перед главой «Контуры образовательной реформы»: «Если привилегированный класс вздумает упразднить или облегчить ту сумму труда, которая одна только и оправдывает его привилегии, то он будет сметен революцией. Ради Бога, не требуйте и не вводите легкой школы; легкая школа – это социальное преступление.» [32]. Поясняя содержание данной цитаты, могущей вызвать затруднения в понимании для некоторых читателей, мы хотим сказать: господствующий класс оправдывает и узаконивает свое паразитическое существование через те знания, которые приобретаются в гимназиях его представителями. Поскольку привилегированное состояние одних людей, а равно с тем зависимое положение других нельзя объяснить рациональными аргументами, то высшие сословия вынуждены неустанно прибегать к обману большей части населения страны для того, чтобы убеждать своих сограждан в необходимости существующего порядка. Оправдывать собственный паразитизм эксплуататоры могут различными способами, среди коих исторически первое место занимала религия, утверждающая божественное происхождение власти на земле. При этом, однако, по мере поступательного возрастания производственных и мыслительных сил общества роль служителей культа неуклонно падала, в то время как значение светской пропаганды и всевозможной публицистической софистики, руководствующейся «рациональными» аргументами, – росло. Именно к числу последних и относятся все лживые демагогические измышления М. Каткова, постулировавшего, что для несения государственной службы и отправления властных полномочий пригодны исключительно люди, в совершенстве познавшие тонкости латинского стихосложения. Разумеется, А. Любжин превосходно понимает, что «чиновнику, занимающемуся регистрацией входящих и исходящих документов, достаточно усидчивости и честности» [33], а потому подготовка классически образованных людей в огромном количестве представляется деятельностью расточительной в отношении казенных средств и притом бесполезной для общества: Российская империя, – в отличие от Испании, где язык античного Рима оставался государственным до 1857 года или Венгрии, где он сохранял таковой статус до 1825 года, – никогда не пользовалась латынью как официальным языком документооборота. В дополнение ко всему сказанному автор позволит себе процитировать известное сочинение Т. Веблена, одна из глав которого посвящена классическому образования. Несмотря на то, что мы вовсе не разделяем нигилистического пафоса данного исследователя, – весьма однобокого и лишенного проницательности, –этот фрагмент видится нам весьма точно передающим социальное значение классической словесности на рубеже XIX и XX веков: «Классическая филология, а также ее привилегированное положение в системе образования, за которое с таким безрассудным пристрастием держатся высшие учебные заведения, содействуют формированию известной духовной позиции и снижению экономической эффективности современного поколения образованных людей. Она делает это, не только выдвигая архаичный идеал человека, но также прививая дискриминацию в отношении почетного или позорного в знаниях. Этот результат достигается двояко: 1) внушением привычного отвращения к тому, что является просто полезным, в противоположность тому, что почетно, и формированием вкусов новичка таким образом, что он начинает искренне находить удовлетворение исключительно в таких упражнениях ума, которые обычно не приносят никакой производственной или социальной выгоды; и 2) использованием времени и сил обучающегося для приобретения знаний, которые не имеют никакой пользы, разве что в той мере, в какой эти знания, начав по традиции включаться в сумму обязательных для учащегося, повлияли таким образом на манеру выражения и терминологию, которыми пользуются в практически полезных отраслях знания. Если бы не это терминологическое затруднение – которое само является следствием моды на классическую филологию в прошлом, – знание древних языков, например, не имело бы никакого практического значения ни для какого исследователя или ученого, не занимающегося делом, носящим главным образом лингвистический характер. Разумеется, во всем этом нет ничего, что бы говорило о культурном значении классической филологии, и нет никакого намерения с пренебрежением отнестись к ней или к тому направлению, которое дает студенту ее изучение. Это направление представляется экономически бесполезным – факт, достаточно хорошо известный, надо признать, и он не должен беспокоить того, у кого есть приличное состояние, чтобы обретать утешение и силу в знаниях в области классической филологии. Тот факт, что классическое образование снижает способности учащегося как работника, не встречает особого понимания со стороны тех, кто невысокого мнения о практическом мастерстве по сравнению с культивированием благопристойных идеалов <...> Благодаря тому обстоятельству, что в нашей системе образования эти знания стали частью элементарных требований, способность изъясняться на известных мертвых языках южной Европы и понимать речи древних не только является лестным для лица, находящего случай продемонстрировать свою образованность в этом плане, наличие таких знаний служит в то же время рекомендацией всякого ученого мужа для его аудитории как неподготовленной, так и ученой. По общему мнению предполагается, что на приобретение этих по существу бесполезных сведений нужно будет потратить сколько-то лет, и отсутствие этих сведений создает заведомое предположение как о спешном и поверхностном учении, так и о грубой практичности, которая столь же противна общепринятым нормам серьезной учености и интеллектуального престижа. Это явление похоже на то, что происходит при покупке любого предмета потребления покупателем, не являющимся искушенным ценителем материалов или мастерства обработки. Он производит оценку стоимости предмета главным образом на основании дороговизны, видной в отделке тех декоративных частей и деталей, которые не имеют прямого отношения к внутренней полезности предмета; при этом предполагается, что существует какая-то не поддающаяся определению прямая зависимость между внутренней ценностью предмета и стоимостью украшений, добавленных для того, чтобы этот предмет продать. Предположение, что обычно не может быть серьезной учености там, где отсутствует знание классической филологии и гуманитарных наук, приводит к демонстративному расточению студентами времени и сил, затрачиваемых на приобретение таких знаний. Традиционное настаивание на толике демонстративного расточительства как требование, предъявляемое всякому престижному образованию, оказало влияние на наши каноны вкуса и полезности в вопросах эрудиции, подобно тому как тот же самый принцип повлиял на наше суждение о полезности производимых товаров. Правда, демонстративное потребление в качестве средства достижения почета все больше и больше вытесняло демонстративную праздность, и освоение мертвых языков уже больше не является таким властным требованием, каким оно было когда-то, а вместе с этим ослабла его талисманная сила как ручательства учености. Это так, но справедливо также и другое: классические языки не потеряли своей ценности в качестве ручательства в академической почтенности, поскольку для достижения этой цели необходимо лишь, чтобы ученый был в состоянии представить в доказательство какие-то знания, которые традиционно признаются свидетельством расточения времени, а классические языки очень подходят для этого. В самом деле, почти не возникает сомнения, что именно их полезность в качестве доказательства растраченных сил и времени, а следовательно, денежной силы, необходимой для того, чтобы позволить себе эту расточительность, обеспечила классической филологии ее привилегированное положение в системе высшего образования и привела к тому, что она является самым почитаемым из всех видов учености. Лучше любой другой суммы знаний она служит декоративным целям праздносветского образования и является, следовательно, действенным средством приобретения почета. В этом отношении до недавнего времени у классической филологии не было соперников. На Европейском континенте опасного соперника у нее нет и сейчас, но в образовании праздного класса в американских и английских учебных заведениях соперником классической филологии в борьбе за первенство стала университетская атлетика – если атлетику можно безоговорочно относить к сфере образования, – завоевав себе признанное положение как полномочная область достижений в учении. В свете тех празд-носветских целей, которые стоят перед образованием, атлетика обладает очевидным преимуществом перед классической филологией, так как успех студента как спортсмена предполагает не только расточение времени, но п расточение денег, а также обладание определенными в высшей степени непроизводственными архаическими чертами характера и темперамента. В немецких университетах атлетику и „греческие братства“ в качестве академических занятий праздного класса в какой-то мере заменили искусное и различающееся по степеням пьянство и формальное дуэлянтство.» [34].
Теперь же, когда нами прояснен классовый характер гимназического учения, выявлена его тесная связь с эксплуататорскими сословиями, то совершенно лживыми представляются нам слова об «универсальном тренажере для ума». Нет, латинская грамматика утверждалась в царских гимназиях не с целью изощрения ума воспитанников, их полного совершенствования, но потому, что «новый гимназический устав должен был по мысли Толстого настоятельно одурманивать учеников тонкостями грамматического классицизма, чтобы они стали невосприимчивыми к крамоле» [35]. В заключение же темы классических гимназий, а равно с тем всей той полемики про достоинства и недостатки сего учебного типа, имевшей место быть на страницах нашей печати в годы его расцвета, – представляется уместным подвести итог следующей цитатой: «Таким образом, мы можем констатировать, что в ходе полемики 1860-х гг. стороны не смогли представить убедительные педагогические аргументы в пользу той или иной точки зрения. Все вышеизложенное, напротив, позволяет нам предположить, что в основе спора „классицистов“ и „реалистов“ лежали общественно-политические и даже личные мотивы.» [36].
Что говорить до старинных классических гимназий периода империи, то их классовая сущность представляется теперь очевидной. Несколько иначе обстоит дело в отношении современных попыток возрождения данного типа, ибо сменившиеся условия народной жизни затрудняют проведение исторических аналогий. Мы в то же время имеем все основания усматривать причину сегодняшнего возрождения устаревших образовательных форм в том, что «новый социальный слой (средний класс) не мог удовлетвориться образовательным идеалом предшествующей поры» [37]. Более конкретное представление о классовом характере современных лицеев и гимназий нам позволяет составить интервью, взятое недавно у директора Филипповской школы, имеющей репутации одного из лучших учебных заведений данного типа в современной России. Так, журналист задал уважаемому М. Поваляеву такой значимый для педагога вопрос: «В целом вы довольны результатами учебного процесса?». Интерес в данном случае представляет, конечно, не сам вопрос, – до невозможности предсказуемый и тривиальный, – но скорее ответ на него со стороны уважаемого директора, а по совместительству еще и «ктитора Университета Дмитрия Пожарского»: «С точки зрения академической все превосходно: в этом году у нас тринадцать выпускников, среди них три медалиста и два стобалльника. Доволен ли я? Нет. Мне хочется, чтобы наши выпускники спасали Россию, а им хочется скорее отбыть за границу. Тем более что ресурсами для этого мы их снабдили.» [38].
Иными словами говоря, существующие в России на данный момент учебные заведения элитарного типа не только занимаются обслуживанием интересов правящего класса, но выполняют тем более деструктивную функцию, что «снабжают средствами» для эмиграции наших талантливых юношей, а равно с тем отпрысков богатых фамилий. Действуя таким образом, гимназические наставники разоряют умственные богатства нашей Родины, способствуют оскудению интеллектуальных ресурсов ее, тем самым укрепляя периферийное положение страны. Разумеется, подобного рода деятельность – пусть она имеет своим корнем не столько злонамеренность, сколько невежество – безусловно антиобщественна и реакционна по сути. Несмотря на всю парадоксальность подобного заявления, а равно с тем предполагаемое возмущение, могущее быть вызванным со стороны консервативной общественности, – нам требуется открыто заявить: самое наличие элитарных образовательных заведений способствует деградации нашей страны, ее разорению и скатыванию до положения сырьевой колонии более развитых государств. Именно поэтому все настоящие патриоты и социалисты обязаны предпринять необходимые усилия для того, чтобы добиться в конечном итоге полного уничтожения всех лицеев и гимназий, учрежденных к сегодняшнему дню.
Библиография.
1. Гуардия Ф. Ф. Современная школа. Педагогические идеи анархизма. М.: URSS, 2012.
2. Любжин А. И. Сумерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017.
3. Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы. Проблемы наследия русской словесности. М.: Институт русской цивилизации, 2010.
4. Любжин А. И. Народная филология и средняя школа. Рецензия на книгу: Троицкий В. Ю. «Судьбы русской школы. Проблемы наследия русской словесности». Вопросы образования, N 2, 2018.
5. В защиту реформы образования // Литмир. URL: https://www.litmir.me/bd/?b=588948&p=1 (дата обращения: 29.09.2018.).
6. Любарский Г. Ю. Разным людям – разные школы: судьба всеобщего, одинакового и качественного образования Рецензия на книгу: А.Любжин «Сумерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого». // Вопросы образования. 2018. N 1.
7. Любжин А. И. Сумерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017.
8. Там же.
9. Там же.
10. Там же.
11. Там же.
12. Там же.
13. Там же.
14. Там же.
15. Там же.
16. Сергеенко М. Жизнь древнего Рима. СПб.: Азбука, 2016.
17. Фрич А. Обучение устной речи на латыни: история, задачи, возможности. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2017.
18. Там же.
19. Там же.
20. Иванов А. Гимназисты: выбор профессиональной судьбы (конец XIX – начало XX века) // Лицейское и гимназическое образование. 1998. N 4.
21. Блонский П. Мои воспоминания. М., 1971.
22. Любжин А. И. Сумерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017.
23. Стрельцов А. Классицисты vs реалисты // Лицейское и гимназическое образование. 2010. N 9.
24. Любжин А. И. Сумерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017.
25. Там же.
26. Валлес Ж. Юность. Воспоминания бедного студента. М.: Academia, 1934.
27. Любжин А. И. Сумерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017.
28. Валлес Ж. Детство. М.: Academia, 1936.
29. Валлес Ж. Юность. Воспоминания бедного студента. М.: Academia, 1934.
30. Там же.
31. Там же.
32. Любжин А. И. Сумерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017.
33. Там же.
34. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
35. Александр II // Семен Любош // Скепсис URL: http://scepsis.net/library/id_3244.html (дата обращения: 30.09.2018.).
36. Стрельцов А. Классицисты vs реалисты // Лицейское и гимназическое образование. 2010. N 9.
37. Новичков В. Гимназии вчера и сегодня // Лицейское и гимназическое образование. 1999. N 5.
38. «Я познакомился с теоремой Эрроу и стал монархистом» // Горький URL: https://gorky.media/context/ya-poznakomilsya-s-teoremoj-errou-i-stal-monarhistom/ (дата обращения: 07.10.2018.).
Ответ одному товарищу.
Некоторое время назад у меня возник спор с одним товарищем. Темой спора стал Борис Кагарлицкий. Товарищ утверждал, что Борис Юльевич – троцкист, в то время как я защищал его как верного марксиста-ленинца. В дискуссии мой собеседник сослался на статью Михаила Васильевича Попова «Кагарлицизм вместо марксизма». Я решил написать подробный разбор этой работы Попова, в результате чего и была написана данная статья.
Попробуем разобрать рецензию Михаила Попова по пунктам. В самом начале Попов заявляет: «Сам автор на последней стороне обложки представляет себя неким изгоем, который „в 1978 году примкнул к подпольному марксистскому кружку“ и который, похоже, остается подпольщиком-марксистом даже в постсоциалистической России, совмещая ныне эту деятельность с должностью директора Института проблем глобализации (ИПРОГ). Ведь опять ему не везет. „Марксизм сегодня, – пишет несчастный подпольщик, – учение не модное, подвергается анафеме, изначально отвергается всеми так называемыми современными политологами“. Себя же Б. Кагарлицкий на обложке как раз и представляет как „известного социолога и политолога“.».
Тут нужно сделать несколько замечаний. Во-первых, значительная часть диссидентов в Советском Союзе придерживалась левых взглядов. Об этом написано в замечательной монографии «Диссиденты, неформалы и Свобода в СССР» за авторством Александра Шубина. Такие диссиденты критиковали руководство КПСС за отступление от марксизма, за оппортунизм и ревизионизм. Разумеется, подобные диссиденты в Советском Союзе были весьма многочисленны, поскольку доступ к марксистской литературе был свободным.
Далее Попов будет утверждать, что «на самом деле как раньше никто не запрещал быть марксистом, так и теперь». Тут Попов говорит правду, но не всю правду. Дело в том, что существовало большое количество «полудиссидентов», которые одновременно трудились в академической марксистской науке, но при этом в той или иной степени были связаны с диссидентским движением. Они могли писать как для легальных и официальных органов, так равно и для самиздата. К таким относился в том числе и Попов, который исповедовал взгляды, сильно расходившиеся с официальным курсом партии, но при этом строивший академическую карьеру. О своём неприятии курса КПСС Попов сам говорил, притом последний раз совсем недавно, будучи в гостях у Константина Семина.
Надо отметить, однако, что некоторые левые диссиденты получали очень серьезные наказания. К таким относится, к примеру, Александр Тарасов, который был заточен в психиатрическую лечебницу, где подвергался насилию, став в итоге инвалидом.
Иными словами, нет ничего неправильного и необычного в том, что Кагарлицкий примкнул в подпольному марксистскому кружку. Такие незаконные кружки левых диссидентов существовали в СССР, притом придерживаться они могли различных позиций. Были кружки троцкистов, сталинистов, маоистов, «новых левых» и некоторые другие.
Идём дальше. Попов пишет об Институте проблем глобализации как о некоей огромной государственной структуре, но в действительности весь этот институт состоит из трёх человек: самого Кагарлицкого, его дочери и Даниила Григорьева. Занимаются эти люди тем, что ведут сайт «Рабкор», организуют кое-какие мероприятия, а также издают журнал «Левая политика». Разумеется, никаких сверхдоходов у Кагарлицкого нет, а вся его организация не живёт, а фактически выживает на протяжении более десяти лет.