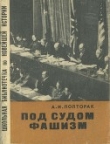Текст книги "Левый фашизм (СИ)"
Автор книги: Марат Нигматулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Огюстен Дарте и Гракх Бабёф были казнены. Сильвену Марешалю и Филиппо Буонарроти удалось спастись. В 1828 году Буонарроти напечатал вышеназванную книги, где он изложил историю подготовки вооруженного восстания. Эта книга вызвала к себе немалый интерес со стороны общества, а уже после Июльской революции 1830 года она и вовсе обрела невероятную популярность. Эта книга сделалась настоящим учебником революционной деятельности для Луи-Огюста Бланки.
В начале доклады мы рассказывали про две линии социализма. Многие зададутся вопросом: а что же случилось потом с этими двумя линиями? Что касается линии утопической и реформистской, то с ней все ясно. В 1840-х годах фурьеристов и сенсимонистов потеснили ученики Пьера Жозефа Прудона. Во время Революции 1848 года утописты окончательно исчезли: они присоединились к партии прудонистов, а затем полностью растворились в ней. Отныне главнейшими идеологами реформистского социализма сделались Пьер Жозеф Прудон и Луи Блан. Собственно, прудонисты (они же синдикалисты) на протяжении многих лет были очень влиятельны и сохранили свою значимость до начала двадцатого века. Их было великое множество в Первом Интернационале, в правлении Парижской Коммуны именно они составляли большинство. Впоследствии синдикалистская партия раскололась. От неё сперва отделился анархо-синдикализм, составлявший её леворадикальной крыло. Затем откололся унылый бюрократический коммунитаризм. А под конец синдикализм дал начало фашизму. Да, родоначальник фашизм Жорж Сорель был именно синдикалистом, то есть учеником Прудона. Впоследствии социалисты-реформисты, всевозможные социал-демократы и тому подобные добились немалых успехов в Европе. Они и поныне заседают во всех парламентах Европы.
Но развивалась и революционная линия социализма. Последние годы жизни Буонарроти провёл в Париже. Там он много общался с молодыми социалистами, среди которых был в том числе и Бланки. Фактически, Буонарроти сделался для него учителем. Во время всё той же Революции 1848 года бабувисты окончательно присоединились к «Центральному республиканскому обществу», которым руководил Луи-Огюст Бланки. Ну, а после того, как генерал Мак-Магон вместе с кровавым карликом Тьером утопил в крови Парижскую Коммуну, – бланкисты во главе с Эдуардом Вайяном объединились с марксистами. Именно последние и совершили Октябрьскую Революцию 1917 года. Опыт большевиков был воспринят китайскими маоистами. Перед хунвейбинами преклонялись лидеры «Фракции Красной Армии» – Ульрика Майнхоф и Андреас Баадер. В свою очередь пример последних вдохновлял Жана-Марка Руйяна, Александра Тарасова и субкоманданте Маркоса. Кстати, эти трое последних – наши с вами современники. Так что революционный коммунизм вовсе не умер. Наоборот, он продолжает жить и развиваться.
Море трупов.
Это было в самом начале июля. В том году наша совершенно простецкая школа, ни единожды не осененная силою гениальной мысли, оказалась весьма и весьма обрадована и взбаламучена интереснейшими событиями. Дело все в том, что дирекция, доселе никогда не отличавшаяся любовью к рискованным предприятиям, тогда решила принять участие в специальной лотерее, затронувшей многие школы нашей прекрасной столицы, неожиданно для себя одержав там победу. В качестве приза нашей бурсе досталась уникальная возможность послать своих достопочтенных выпускников на удивительный круиз, так напоминающий те, что показывают обыкновенно в дурном американском кино. Нам предстояло выйти из порта Акапулько, проследовав через весь Тихий океан и острова Полинезии до самой Австралии, где и полагалось завершить плавание.
И вот, наконец, все наши выпускные классы, представляющие собой уже не набор маленьких мальчиков и девочек, но сборище весьма фривольных девиц и любящих закладывать за воротник юношей, построились на пирсе, готовясь взойти на борт. Огромное белое судно возвышается всем своим гигантским корпусом над нами, заслоняя от моих глаз теплое карибское солнце, так хорошо прогревающее воду и землю. Страдая от неимоверной скуки, вызванной длительным ожиданием начала всего этого мероприятия, я разгуливаю по причалу вперед и назад, обдумывая свою будущую статью, местом рождения которой предстояло стать Тихому океану. В этот момент ко мне обратилась Алиса, бывшая до того моей одноклассницей, а теперь просто милой девушкой, разделяющей со мной плавание.
– Ты как? – спросила она. – Я знаю, что ты не хотел ехать...
– Ничего страшного! – ответил я. – Мы превосходно проведем время. Конечно, будет немного скучно. Заняться на судне совершенно нечем. Книг на борт много не возьмешь. Но ничего: будем разговаривать, общаться. Так и время незаметно пройдет.
– Будем... – протянула немного вздыхая и устремляя взгляд в землю Алиса.
В этот момент наш разговор был прерван оглушительным свистком, призывавшим нас всех подняться на трап, ибо то гигантское судно, которому предстояло унести нас на большое расстояние через просторы океана, было полностью готово к принятию на себя пассажиров.
Огромных размеров шумная толпа совсем еще молодых девчонок, каждая из которых, однако, уже напоминала формами Венеру в представлении художников эпохи Возрождения, и юношей, во всем походивших на античных эфебов, – потекла прямо на палубы огромного судна, которое даже немного зашаталось от столь резко взятой нагрузки. Многочисленная публика немедленно повалила в глубинные отделения гигантского лайнера, стремительно заполняя их в той мере, в какой это было возможно: юношеские голоса тем более были слышны в ограниченных пространствах, где они раздавались. На протяжении первых нескольких часов после отплытия все были в основном заняты тем, что распаковывали вещи, сложенные доселе в тяжелые чемоданы, обживая каюты, выданные им по столь редкой любезности судьбы на небольшое время. Выложив свой небольшой набор собственных вещей, до некоторой степени действительно мне нужных, – я поднялся на палубу для того, чтобы лицезреть красоты океанского простора, уже в полной мере раскинувшегося вокруг нас на многие километры. Совершая некое подобие своей обыденной прогулки на палубе, заменившей мне теперь парк, я встретил Алису, которая в этот момент стояла прямо на моей дороге и рассматривала закат. Я остановился и, подойдя к ней ближе, также посмотрел на Запад, где огромное алое Солнце уже опускалось в лазурное море, окрашивая водную гладь в яркие тона, столь радующие художественную натуру. Всякое подобие земли к тому моменту давно уже скрылось из нашего вида, не подавая более никаких сигналов к своему существованию, давая нам возможность наслаждаться собственным гордым одиночеством в глубине здешнего простора. Одиночество это, однако, было весьма сомнительным хотя бы уж потому, что из банкетный зал корабельного ресторана уже оглашался криками довольной публики.
– Какая красота! – произнесла наконец Алиса. – Это поистине что-то замечательное: увидеть настоящий океан. Ты рад?!
– О да, я рад... – ответил я с некоторой грустью. – Море сегодня и вправду прекрасно. Словом, оно всегда прекрасно. Если бы не тот γάμος, доносящийся из ресторана, то все бы стало идеальным. Это единственное, что портит картину.
– Пусть ребята повеселятся. – вымолвила Алиса, устремляя свой взгляд прямо на меня. – У них были очень тяжелые экзамены. Ты должен их понять.
– Да, конечно... – нескладно стал отвечать я. – Но не обязательно же для этого напиваться.
– Это уж точно... – ответила моя собеседница, немного кивая головой.
К тому времени Солнце уже в значительной степени погрузилось за линию горизонта, а уходящий блеск его последних лучей был едва заметен на поверхности играющих волн. Океанский простор, позволяющий узреть все окружающее пространство на многие километры вокруг, позволял нам видеть, как на Востоке уже наступила ночь, окрасившая в черный и море, и небо, в то время как на Западе догорали последние огоньки дневного света, скрывающегося и покидающего нас.
Восточная даль уже вся была окутана густеющим мраком и поднимающимся от воды серым туманом, столь же пугающим, сколь и притягательным.
На Западе же в это время солнечные блики все еще играли на нестойкой поверхности могучего океана, перехлестывались с волнами друг на друга, хотя постепенно и отступали, что выглядело невероятно печально, хотя и очень величественно.
Там, на Западе, еще был день.
Последние алые и ярко-желтые лучи заходящего солнца, уже совсем тусклые, но такие приятные, хоть и нагоняющие своими отражениями в тихих волнах чудовищную тоску, – падали на белоснежный корпус нашего судна, на его превосходные дубовые палубы. И если правый борт уже покрывался тенью наступающих сумерек, то борт левый все еще был светел от лучей утопающего в море солнца.
Тень приближалась, постепенно сокращая освещенное пространство палубы, погружая весь лайнер в пелену наступающей темноты.
Мы гуляли по краю ночи.
Ночи, которая все ближе и ближе подступала к нам, окутывая своими тяжелыми пеленами и море, и лайнер, и всех, кто беспечно праздновал сейчас в ресторане. Мы, стоящие теперь на палубе и погруженные в собственные рассуждения, тоже ощутили на себе холодные объятия королевы Ночи, укрывшей свои саваном теперь уже все обозримое для человеческих глаз пространство.
Желтым цветом принялись загораться иллюминаторы могучего судна, рассекавшего простор Тихого океана по направлению от Востока к Западу, от наступающей ночи к уходящему дневному свету. Все громче играла музыка, доносившаяся из банкетного зала, где сейчас, вероятно, завязывались танцы, о чем стоящие на палубе могли догадаться по вибрациям, совершаемым теперь деревянными половицами. Спасаясь от назойливого шума разгоравшейся дискотеки, мы с Алисой пошли далее на самый нос корабля, где и разместились, почти уже не слыша ни громкой музыки, ни звона бокалов. На протяжении долгого времени мы просто разговаривали на всевозможные темы, касавшиеся в равной степени каждого из нас, но при этом довольно общие и не специализированные. По истечению нескольких часов меня охватило некое странное чувство, подобное и с радостью, и со страхом, и с тревогой, но при этом особенно самобытное.
– Надо проверить, как там наши друзья. – сказал я, поднимаясь на ноги.
– Хорошо, давай проверим. – пожимая плечами ответила мне Алиса.
Последние слова она произнесла так, будто бы вовсе и не верила в то, что с пирующими теперь одноклассниками может приключиться некая беда, в то время как я не решился разделить с Алисой своих предчувствий, поскольку и сам полагал их несущественными. Миновав длинную палубу, мы вошли в банкетный зал корабельного ресторана, интерьеры коего были столь роскошны и преувеличенны, что могли бы найти вкус у французских аристократов эпохи Людовика XIV. В то же время, чрезмерное количество украшений, отдававшее любовью своего создателя к барокко, не смутило нашего вкуса, ибо его раздражило нечто иное: стоя на укрытой превосходным ковром из алого бархата мраморной лестнице, мы наблюдали за весьма интересными превращениями наших одноклассников.
Должен сразу же предупредить своего гипотетического читателя, что никогда доселе, как равно и впоследствии, не видел и даже не представлял, чтобы люди могли обжираться таким способом, как это они делали тогда. Давно знакомые нам юноши и девушки творили вещи совершенно выходящие за рамки нашего с Алисой понимания, как равно и вообще за пределы нормальности в обыденном человеческом понимании. Наши одноклассники заглатывали пищу с нечеловеческим усердием и не меньшей же настойчивостью, совершенно не давая себе никакой передышки. Ближе всего к нам сидела Кристина Сайченко, запихивавшая себе в рот новые и новые куски большого кремового торта, поглощая их с такой скоростью, что это едва ли могло не вызвать удивления.
Мы ушли. Отправились в каюту.
Там мы провели какое-то время за разговорами, а после, когда время сделалось совсем поздним, – решили вновь подняться наверх и проверить ребят.
Боже, что открылось нашему взору, когда мы вошли под могучие своды огромного банкетного зала!
В пронзительной кричащей тишине, в густом воздухе наступившей тропической ночи, здесь к тому же смешанным с запахами напитков и еды, духов и табака, – мы увидели, что все наши одноклассники лежат совершенно без чувств, уткнувшись носами в поверхность огромного длинного стола. Они не двигались. Признаков жизни не было.
Мы в ужасе пошли вон оттуда. Погуляли некоторое время по палубе, а затем вернусь в каюту.
Следующие несколько дней мы провели вместе, почти не отходя друг от друга. Мы были так испуганы увиденным, что более в банкетный зал не заходили.
Команда лайнера, как оказалось, смертельно отравилась вместе с частью пассажиров, а потому мы теперь были единственными живыми людьми на борту.
На третий день, как раз когда мы в разгар полудня гуляли по палубе, Алиса сказала мне: «Марат, не могу, – воняет!».
– Давай выкинем их в море. – предложил я.
– Давай! – согласилась Алиса.
Мы взяли тяжелые багры для тушения пожаров и принялись за работу. Дело наше продвигалось на удивление быстро. Всего за несколько часов мы умудрились перетаскать огромное количество трупов.
Двигатель у лайнера к тому времени заглох, а потому судно теперь никуда не шло, а просто дрейфовало в море. Сегодня, однако, погода была спокойная, едва ли не полный штиль, а потому за этот день мы проделали лишь очень незначительный путь.
Маняще желтеющее вдалеке Солнце снова погружалось в густые и теплые воды тропического океана, ветер постепенно возрождал свою силу, все сильнее с каждой минутой колыхая волны, и мы все отдалялись и отдалялись прочь от того района акватории, где провели все последние дни.
Мы снова гуляли по краю ночи, наблюдая за тем, как мерно раскачиваются на усиливающихся волнах трупы наших несчастных товарищей, огромным, казалось, уходящим куда-то за горизонт пятном распластавшиеся на поверхности воды. Они колыхались на волнах, освещенные последними, – теперь уже совершенно алыми, будто человеческая кровь, – лучами заходящего Солнца.
Мы отдалялись все сильнее прочь от этого пятна, но при взгляде на него нам казалось, что нет будто бы ни океана, ни судна, ни нас самих. А есть только одно бескрайнее море трупов.
Ноябрь 2018-го, Москва.
Новейшее мифотворчество на тему классических гимназий.
«Возможно, эти наши утверждения заставят наморщить лбы наших учителей латыни, которых, к сожалению, все еще слишком много среди нас.»
– Франсиско Феррер Гуардия [1].
Поскольку к настоящему времени тема образования в современной России представляет собой несомненную важность для всего общества, оставаясь при этом весьма для него больной, – расплодилось гигантское количество людей, не слишком отягощенных знаниями и компетенциями, но при этом старательно пишущих на образовательные темы. Эти господам (замечательным представителем коих является Константин Семин) не хватает образования для того, чтобы писать на темы образования квалифицированно и не допуская существенных ошибок.
Поскольку же уровень педагогической дискуссии в нашей стране весьма низок, то любая в той или другой степени толковая работа на указанные темы непременно будет заслуживать внимания культурной публики. Именно к числу таковых немногочисленных, но вместе с тем качественных работ принадлежит книга Алексея Игоревича Любжина «Сумерки всеобуча: школа для всех и ни для кого» [2]. Сразу же требуется отметить, что данная работа ни в коем случае не представляет социалистическую, как равно и вообще прогрессивную педагогическую мысль. Автор ее – человек, придерживающийся взглядов консервативных, но при этом не лишенный эрудиции, столь недостающей сейчас его сотоварищам из правого лагеря. В современных условиях, когда консервативная общественная мысль стремительно деградирует и низводится до своеобразного паноптикума различных заблуждений и лженаук, – данное произведение выделяется в положительном аспекте.
Действительно, если уж сравнивать книгу А. Любжина с работой Всеволода Троицкого «Судьбы русской школы» [3], где автор напрямую сходит к апологетике теории жидомасонского заговора [4] [5], то автор первой оказывается в несомненно выгодном свете. Это же следует заметить в отношении всех остальных критериев, по которым определяют качество книги: если у В. Троицкого стиль малопонятен и затруднителен, то у А. Любжина он доведен до величайших высот понятности, не опускаясь, однако, до вульгарного примитивизма; если в «Судьбах...» знаки препинания расставлены невпопад, а редактор пропускает даже орфографические ошибки, то в «Сумерках...» пунктуация и орфография отшлифованы до такого состояния, что даже самый внимательный и придирчивый грамматик не сумел бы осудить автора и редакторскую коллегию. Общее впечатление от данного произведения было весьма хорошо выражено одним из критиков, заметившим: «Прежде всего хотелось бы сказать, что книгу читать приятно. Даже не из-за темы, не из интереса к образованию. Дело в другом. Последние десятилетия редко удается поговорить с достойным собеседником. Я вовсе не собираюсь оскорбить всех своих собеседников разом, не говорю „никогда“ – редко... Хороший разговор исключает эмоциональное напряжение и опасения, что собеседник вот-вот сорвется и начнет кусаться и оскорблять. Это в хорошем разговоре вообще исключено – увы, многие вроде бы неглупые люди такой безопасности предоставить не могут. Далее, хороший разговор – это когда я чувствую себя свободно, собеседник меня не давит. Это совершенно иное, чем согласие: автор славится радикализмом взглядов, расходится со мной по множеству позиций, однако, пока я читаю его тексты, это остается совершенно в стороне. Он умеет писать, не придавливая собеседника: я могу мысленно отмечать несогласия, ничуть не теряя интереса к беседе.» [6]. В общей сложности хотелось бы отметить многочисленные достоинства книги, делающие указанное чтиво весьма приятным и легким к прочтению даже для тех, кто полностью не согласен с высказанными автором идеями. На этом, однако, мы закончим свои похвалы, относящиеся к несомненным преимуществам работы, – слишком очевидным всякому читателю, да к тому же подвергавшимся восхвалению реакционных критиков, – и перейдем к обсуждению недостатков.
В первую очередь требуется помнить, что всякая консервативная мысль представляет собой разной степени изысканности заблуждение, а потому сколь бы не был ее носитель образован, он все равно ошибается и блуждает в неведении. Несмотря на то, что поток авторской эрудиции может вполне свободно сбить даже подготовленного читателя с толку и заманить его в ловушки софизмов, постоянно воздвигаемых сочинителем, – мы не должны поддаваться велениям стихийных чувств, но обязаны придерживаться классовой точки зрения.
Сумма идей, выдвигаемых Алексеем Любжиным, в некоторой степени является обыденной для наших консервативных педагогов, расплодившихся в постсоветский период, хотя некоторые ее части не принадлежат всей означенной когорте воспитателей.
Основным тезисом, доказательству и окончательному утверждению коего посвящена вся разбираемая нами сейчас работа, является представление о том, что советская массовая школа была несравненно хуже специализированных учебных заведений Российской Империи, к числу коих относятся классические гимназии, реальные училища, кадетские корпуса, епархиальные училища и тому подобные заведения: «И даже с точки зрения программы в идеальной теоретической модели советская школа не дотягивала по уровню до реального училища.» [7]. Причины подобной отсталости по мнению автора лежат в том, что советские педагоги отступили в своей деятельности от принципов специальности любого образования и последовали по ошибочному пути ложного «энциклопедизма», в действительности означавшего лишь очень поверхностные знания в различных областях: «Боюсь, что школьное изучение в результате способно подготовить только продвинутого потребителя – легкую добычу рекламных кампаний: он будет знать, что витамины полезны, а жирное вредно, ему можно будет продать азотные удобрения без нитратов, и, читая для отдохновения Донцову и смотря футбол, он будет знать, что Пушкин – круче и вообще – наше все.» [8]. Достижения, проявленные Советским Союзом в различных областях не принадлежат его собственной педагогике, но относятся исключительно к тем высококвалифицированным кадрам, что были подготовлены еще при последних императорах, а потому с истощением данного ресурса подходит и конец научному превосходству Союза: «Защитники СССР обычно иронизируют: дескать, при утонченных дворянах страна в лаптях ходила, а тупые совки сделали атомную бомбу и вышли в космос. Но утверждать так может только тот, кто не учитывает фактора времени в причинно-следственных связях. Сначала посмотрим попристальнее на „тупых совков“. Позволим себе такое лирическое отступление – оно, право же, имеет прямое отношение к нашему сюжету. Первый – И. В. Курчатов, создатель атомной бомбы. Окончил с золотой медалью Симферопольскую гимназию, сообщает Википедия. В белом Крыму, добавим мы.» [9]. В другой части своей работы автор продолжает сею мысль: «Можно было, напр., считать, что ученики итальянских licei classici занимаются всякой ерундой – никому сегодня не нужными греческим и латынью; но ведь именно итальянские инженеры – выходцы из licei scientifici, где никогда не отказывались от латыни – построили автомобильный завод на берегу Волги, а не советские на берегу По. Мне могут возразить: а как же спутник, а как же блестящие образцы советской военной техники? Тем не менее диверсифицированное образование, при котором естественно-научная и математическая школа <...> позволяла иметь инженерный корпус, способный обеспечить единый и высокий стандарт качества во всей промышленности, а одностороннее советское образование давало возможность поддерживать уровень лишь отдельных участков производства.» [10]. В качестве решения существующих образовательных проблем в стране Любжин предлагает некоторые меры, излагаемые мною далее. Необходимо в первую очередь разделить все школы на элитные и народные: первые в свою очередь разделяются на военные или кадетские, естественно-научные и классические, в то время как вторые сохраняют однородность. Так, автор пишет: «Наиболее эффективная система должна опираться на наш дореволюционный и современный германский опыт: комбинации народного училища (Hauptschule), предназначенного для тех, кто не претендует на высшее образование, реального училища/гимназии (naturwissenschaftliches Gymnasium) для будущих абитуриентов естественнонаучных факультетов и народнохозяйственных вузов и гуманитарной гимназии (humanistisches Gymnasium) для соответствующих факультетов университетов и педагогических вузов. Сразу же должно оговориться, что никаких государственно подтвержденных прав и привилегий ни одна школа давать не должна: вузы сами могут определиться с тем, как им подбирать абитуриентов (незыблемый педагогический принцип высших форм образования заключается в свободном выборе учителем учеников), и, возможно, кто-то предоставит гимназистам из зарекомендовавших себя школ право поступления без экзаменов, но не закроет двери и перед выпускниками народных училищ, спросив их по гимназической программе, а кто-то выдвинет более (или, наоборот, менее) суровые требования.» [11]. При этом необходимо отметить, что Любжин выступает против классового характера элитных школ, полагая необходимым допускать в них исключительно на основании способностей мальчиков и девочек из всех слоев населения: «Эти замкнутые школы должны быть бесплатными, отбор в них – исключительно по способностям (учителя обычных школ, обратившие внимание педагогической администрации на могущих в них учиться самородков, получают вознаграждение), с непременным обязательством для выпускников отработать после завершения своего образования какое-то время на государство (как в научной, так и в административной сфере).» [12]. В кратком и несколько упрощенном виде предлагаемые сочинителем данной педагогической работы идеи выглядят именно так, принимая вид умеренно-консервативный, но при этом не лишенный определенной логической стройности, а потому способный показаться привлекательным некоторым из наших сограждан.
Из всех ошибочных и демагогических тезисов А. Любжина первым может быть разобран тот, что связан с его весьма положительным отношением к старинным классическим гимназиям, столь мало теперь известным, но столь глубоко почитаемым в консервативной политической среде. При анализе же легендарных «царских гимназий», о коих теперь ходит столько всевозможных мифов, – необходимо руководствоваться классовой точкой зрения, рассматривая в первую очередь эти учреждения как социологический феномен. Если мы будем на протяжении всего исследования придерживаться именно такого подхода, то любые непонятности, способные поставить в тупик других исследователей, будут нам совершенно ясны, как и все остальное.
Если верить Алексею Игоревичу, то классические гимназии учреждались властями для того, чтобы «обеспечить подпитку высших слоев за счет лучших выходцев из низших» [13], поскольку «в любом здоровом обществе нужна элита» [14]. Из этого утверждения можно сделать однозначный вывод о том, что гимназия представляла собой классовый институт, подобный армии, церкви, тюрьме или любой иной казенной структуре того периода, имевшей вполне конкретные поставленные правящим классом задачи; исполнению оных были подчинены средства, которыми гимназия руководствовалась. Иными словами говоря, вся учебная программа была подчинена классовым интересам правящегосословия, будучи тесно связанной с его целями относительно ближайшей и отдаленной политики. Несмотря на всю самоочевидность последней высказанной мною мысли, ничего подобного Любжин в собственных рассуждениях не развивает, предпочитая объяснять гимназическую программу иным способом, то есть «рационалистически». В данном случае это означает, что автор пытается найти причины появления в гимназической программе тех или иных предметов не в классовых отношениях, но в характере самих этих дисциплин: «Иностранные языки (в особенности древние) хороши тем, что можно – в отличие от литературы и истории – ставить задачи любого масштаба, от самых простых до весьма трудоемких. Кроме того, здесь 1) сравнительно легко постепенно увеличивать сложность заданий и 2) тренировать одновременно память и мышление, давая задания, которые актуализируют абсолютно все ранее полученные знания. Это делает изучение языка со сложной грамматикой даже более интересным образовательным инструментом, чем математика: здесь комбинации различных тем появляются естественно на каждом шагу.» [15].
Критикуя в этом ее отношении авторскую мысль, хотелось бы остановить внимание на древних языках, забиравших до 40% учебного времени в гимназическом расписании, а потому имевших полное право называться главными предметами этого типа школы. Поскольку сам Алексей Любжин является филологом-классиком, то рассматривать свою собственную предметную область в некотором отстранении он совершенно неспособен, поддаваясь известному профессиональному соблазну преувеличить ее важность. Любому читателю быстро становится очевиден тот факт, что автор совершенно некритически относится к латинскому языку и полагает его неким универсальным тренажером для ума, ставя наравне с ним также и древнегреческий с математикой. Именно указанные три дисциплины по мнению господина А. Любжина наиболее способствуют развитию мыслительных способностей ученического состава, а потому самая их сущность опередила место в гимназической программе. В действительности, разумеется, указанные утверждения есть лишь демагогические, не имеющие никаких основанийтезисы, возникновением своим обязанные крайней узости мышления и весьма тщательно прикрываемому расизму. Если мы хотим оставаться на позициях мало-мальски научных, то нам требуется признать, что латынь – вовсе не «самый благородный из языков», но просто еще одно наречие, принципиально ничем не отличающееся от всех прочих. Принадлежит он к числу языков синтетических и флективных, входя таким образом в одну группу с русским, немецким и древнегреческим наречиями. Несмотря на то, что Фридрих Шлегель, ставший родоначальником морфологической типологии всех языков, – полагал, что лишь языки флективные могут принадлежать цивилизованным народам, в то время как наречия изолирующие есть удел дикарей, – ни один серьезный ученый теперь не будет разделять подобную точку зрения. Известно, что языки китайский, французский, английский, итальянский, испанский – все являются аналитическими, но при этом их носители далеки от варварства, а на самих этих наречиях создана весьма обширная и замечательная литература. Еще во времена Данте Алигьери для большинства образованных людей Италии сделался очевидным тот факт, что современный им вольгаре ничем не хуже в своих выразительных качествах, нежели древнее латинское наречие. Не объясняет важности преподавания древних языков и аргумент о необходимости знакомства с классическими произведениями в подлинниках, ибо все греческие и римские книги были еще в давние времена переведены и снабжены должными комментариями. Не следует забывать также и того, что к сегодняшнему дню имеется немало хороших писателей, творивших на языках национальных. И если уж позиции латинского языка можно оправдать весьма простой и понятной грамматикой его, столь сильно контрастирующей с избыточной сложностью английского и французского наречий, то древнегреческий никак не может быть утвержден школьной программой на этом основании. Грамматика этого языка весьма запутанная, в то время как многочисленные диакритики тем более усложняют как чтение, так и письмо на нем, делая его совершенно непригодным для школьной работы. При этом требуется помнить, что древние римляне избрали языком своих сочинений латинский потому, что он был их родным, но никак не по причине его мнимой красивости. Словом, латиняне тоже переживали некогда дискуссии, касавшиеся того, достоин ли их собственный язык того, чтобы на нем обучали: «Греческие риторы появляются в Риме и открывают свои школы. Они доступны отнюдь не всякому: уроки риторов обходятся недешево и учиться у них можно, только в совершенстве зная греческий язык. Правительство поэтому и не чинит риторам препятствий: их школы подготовляют аристократическую молодежь, их детей, которые потом станут во главе государства. Позиция его резко меняется, когда в самом начале I в. до н. э. Л. Плотий Галл, сторонник Мария, открыл школу, в которой повел преподавание риторики на латинском языке. Цицерон вспоминал, как устремились к нему ученики и как он сам огорчался, что ему запретили оказаться в их числе: „Меня удерживал авторитет ученейших людей, которые считали греческие упражнения лучшей пищей для ума“ (Suet. de rhetor. 2). Сенат заволновался: моно ли допустить, чтобы оружие, владеть которым до сих пор учились только их сыновья, взяли в свои руки представители других классов, защитники иных интересов? В 92 г. цензоры Гн. Домиций Агенобарб и Л. Лициний Красс (знаменитый оратор) издали эдикт „о запрещении латинских риторских школ“. Эдикт этот дословно приведен у Авла Геллия: „Нам сообщено, что есть люди, которые ввели новый вид преподавания и к которым в школу собирается молодежь; они дали себе имя латинских риторов; юноши сидят у них целыми днями. Предки наши установили, чему учить своих детей и в какие школы желательно им ходить. Эти новшества, установленные вопреки обычаям и нравам предков, нам неугодны и кажутся неправильными (XV. 11)“. Плотий вынужден был распустить своих учеников; латинские риторические школы появились только при Цезаре.» [16]. Сами древние греки, однако, на протяжении своего лучшего времени ничего подобного не ведали: в Элладе каждый автор писал на родном ему диалекте, не боясь оскорбить чужой слух своим варварством. В этом отношении нам и впрямь следовало бы поучиться у древних.