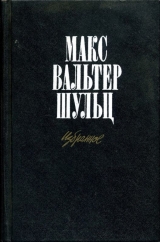
Текст книги "Летчица, или конец тайной легенды (Повесть)"
Автор книги: Макс Шульц
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Не расслабляться – выкрикнул сосновый ствол. Но не выдал мне ни одного звука. Затявкал автомат. Люба закричала. Закричала пронзительным голосом. Вскинула локти и рухнула вперед. Ничком. Лишь теперь заговорил сосновый ствол. Закричал под ударом хлыста из пуль. Смерть, дьявол в маскировочном костюме и черном шлеме взмахнул этим хлыстом. При первом же выстреле я успел откатиться в сторону. В укрытие за стволом другой сосны.
Одно знание война, несомненно, вколачивает в голову тем, кто из страха за свою жизнь схватывает все на лету, если, конечно, ему повезет: как превратить длительность единственной секунды, мышиную норку среди потока времени, в неприступную крепость. Поживем – увидим, увидим – поживем. И я увидел – и узнал похожее на череп лицо «великого мыслителя». И услышал его крик: «А ну, вылезай, гад ползучий! Сумей умереть как бродячая собака! Не то мы заставим тебя жрать собственные кишки!» Но он явно блефовал. Хотел доказать мне, что я окружен со всех сторон. Враки. Будь я и в самом деле окружен, меня бы уже давно не было в живых. Я не шелохнулся. А он не мог знать наверняка, попал он в меня или не попал. Он продолжал блефовать. «Сюда, ребята!» – заорал он. Ах ты, моя девочка! И кто только рассказал нам сказку про Красную Шапочку и злого волка… Ты больше меня не слышишь… Не можешь слышать… Я хриплым голосом заорал большому злому волку: «Не могу больше!» Из своего укрытия он выстрелил в меня. Пуля пробила коробку противогаза. А зачем я ее вообще таскаю с собой? Я слышал, как он закладывает новый диск. Значит, он тоже слышал, как звякнула пуля о противогазную коробку. Хотя нет, не мог он это слышать, пока стрелял. В лучшем случае мог увидеть. Небось думал, что угодил мне в почку. Недаром он показался. Я ждал, пока он будет виден целиком. Целиком, чуть пригнувшись, готовый для выстрела.
Немецкий обер-фельдфебель по прозвищу «великий мыслитель» встретил заслуженную смерть от руки немецкого ефрейтора X ель ригеля. Время настало. (Две незаписанные, поскольку не отвечающие протокольному стилю, фразы Анны Ивановны, которая впоследствии вела протокол допроса).
Пока я стоял перед скрюченным покойником, лес зашумел. И я припустил назад, к Любе. Она лежала среди камней и лепешек мха. Прижавшись щекой к земле. Под ней – ее оружие. Так и не снятое с шейного ремня. Ее рюкзак с запасными магазинами был продырявлен выстрелами. Правый рукав ватника с внешней стороны весь повис клочьями. Я положил ладонь ей на лоб. Лоб был не теплый, но и не холодный. Ясное дело, так скоро человек не остывает, подумал я. Дай мне вобрать твое последнее тепло, подумал я. Она лежала с закрытыми глазами. Так что я, дурак, мог бы сообразить что к чему. А я испугался до глубины души, когда она у меня под ладонью открыла глаза. Я был совершенно убежден, что она мертва. А почему и сам не знаю. Вообще-то я человек вполне здравомыслящий. Сперва она меня не узнала. И, как слепая, схватилась за оружие. Я окликнул ее по имени. Она лежала в шоке. Она не отозвалась. Я понял, что не должен теперь произнести ни единого слова по-немецки. А сердце было переполнено такими ласковыми немецкими словами. Я разрезал тоненькие как суровая нитка завязки рюкзака. Я прямо весь дрожал от надежды. От одной вполне реальной надежды. И она, моя надежда, как оказалось, меня не обманула. На спине ее ватника не было ни единой дырочки. Жесть и начинка двух дисков спасли ей жизнь. Видишь, Люба, вот он, мой грошик на черный день. Оказался дороже золота. В тысячу раз дороже. Ты только взгляни. Вот куда угодили пули. Видишь эти блестящие вмятины? Одна, две, три… Подумаешь, какие-то царапины на руке… Покровит немножко и пройдет. Это все пустяки. У меня с собой перевязочный материал, видишь, целых два пакета, стало быть, четыре бинта в стерильной упаковке, их с лихвой хватит на пару несчастных царапин. Скоро все заживет. Не рычи, собачка, заживай, болячка. Если нынче дождик льет, значит, завтра все пройдет.
Я провел пальцем по всем вмятинам диска. Поднес к ее глазам бинт. Отбивая рукой такт, проговаривал свое дурацкое заклинание. Но она не провожала глазами мои движения. Она хоть и видела все, но ничего не воспринимала. Ее взгляд, до странности мягкий и в то же время застывший, скользил мимо предметов и устремлялся в ничто. Мне она с самой первой минуты показалась красивой. Очень красивой. Теперь же я находил ее бесконечно красивой. Вот так глядеть на нее, все глядеть и глядеть, не есть, не пить, а только глядеть. До бесконечности, до перехода в ничто, если учесть, что ничего другого кроме смерти нас не ожидает – признаюсь честно, эта упадочная мысль тоже у меня мелькнула. Но рассудок и тут не дал мне как следует размечтаться. Насколько я знал из опыта, такой продолжительный шок объясняется ранением головы. Или позвоночника. Голова у нее целая. Но если отлетевшие рикошетом пули, если диски, другими словами, если пули опосредованно ее ранили? Не стесняйся, девочка, мне надо это выяснить. Вон на тебе бязевая рубашка из каптерки. А под ней надето то, что носят и мои сестры. Лифчик называла это устройство моя мать. Красивое слово – «лифчик». В самый раз для молодой девушки. Я вижу у тебя на спине две радуги, одна побольше, одна поменьше, раскинулись по ребрам, примерно так от седьмого до третьего. Слева и справа. Но не захватывают нежную ложбинку посередине. Это называется, повезло. Это называется синяк. Потом они позеленеют, потом потемнеют, не беда. От синяков еще никто не умирал. И обморок от этого на сто лет не затянется. Сейчас ты у меня очнешься. Уж поверь мне. Ну на что ты так уставилась там, возле молодых березок. Ей-богу, не на что там глядеть. Ты бы лучше поплакала. Всласть поплакала, как мог бы я, не будь мне стыдно перед тобой. Ты все еще лежишь на своем оружии. Отдай его мне. Не хочешь отдавать? Ладно, не возьму. Значит, так: пальцы, кисти рук. Руками ты уже слегка можешь двигать. Раз ты сознательно хочешь что-то удержать руками, значит, голову малость отпустило. Ведь голова связана с руками.
Я рывком выдернул у нее автомат. Я надеялся на противошоковое действие своего поступка. Но вот ее взгляд… Мать рассказывала, что у нее одна сестра была лунатичка. Но с помощью хорошей оплеухи ее всегда можно было привести в себя. Бить я тебя не стану. Может, водой облить? Или уколоть иглой, как мне советовал когда-то мастер? Господи, да внуши ты мне что-нибудь толковое.
Люба, Люба, ты что мне говорила напоследок? Ты говорила: возьми себя в руки. Нет, не то. Совсем напоследок ты сказала мне: я больше не могу. А кого ты видела напоследок? Тебе пришлось немного меня подождать. Когда я сел у сосны. И положил автомат себе на колени. Меня, меня ты видела. И пошла дальше. И сразу после этого в тебя кто-то выстрелил. И попал. И тебя словно ударило дубиной. Словно поразила ослепительно яркая молния. Последняя твоя мысль была, что в тебя стрелял я. Она и сейчас сидит в тебе, эта немыслимая мысль. Но когда человек с неповрежденным телом думает о немыслимом, значит, разум у него вырубился. Значит, он вообще больше не думает, значит, в него вселился бред. Значит, он средь бела дня глядит во тьму мягким, неподвижным взглядом. А где ничего нет, ничего и не объяснится. Даже ошибка – и та нет. Ну кто смог бы объяснить свое разочарование своему собственному спутнику, обманщику и убийце? Разочарование идет от сердца. Наконец-то я, идиот, до этого допер. Твой шок, он тоже идет от сердца. Ты даже представить себе не можешь, как это меня радует. Я никогда еще так не радовался. За всю жизнь. Шок не будет долгим. Лишь до тех пор, пока твоя память снова не начнет функционировать. Она уже начала. Она вообще все время работала. Но урывками. Вот ты нашариваешь рукой свой автомат. Значит, помнишь, где он лежал. И против кого ты хотела его направить. Бери, я вкладываю его тебе в руку. Но без диска. Этой ошибки хватит для жизни.
ЛЮБА РАССКАЗЫВАЛА ГИТТЕ: Это и в самом деле была моя последняя мысль, перед тем как я потеряла сознание. Он – подумала я. А больше, наверно, ничего и не подумала. Потом уже я смогла объяснить себе, почему я подумала: он. Я ведь прекрасно понимала, какие у нас складываются отношения. Он был в отчаянии, что между нами все кончилось именно в ту минуту, когда началось. Осознание судьбы захватило нас, и похоже, оно было на любовь. Но и по нему нанесла удар проклятая война. Я была совершенно убеждена, что еще до исхода дня мы выйдем к нашим. В ходе наступления они уже обошли немцев. Мы оказались в собственном тылу. Но что, что могла я при встрече сказать нашим? Могла ли я сказать так: «Товарищи, я – летчица Кондратьева, из такой-то части. Мой брат – прославленный летчик Кондратьев. Я привела с собой одного фрица. Мы познакомились сегодня утром. Он хороший человек. Он по ошибке сбил меня (немецкий лейтенант успел мне об этом шепнуть), сдуру. Дурак, что с него возьмешь. Но в остальном он человек вполне приличный». Что бы тогда подумали обо мне наши? Они подумали бы: «А яблочко-то уж как далеко упало от яблони. Да и упало-то на головку». Что они еще могли подумать? Даже совместный побег не вызвал бы ко мне доверия. Ни у кого. Тогда ни у кого. Я это знала. И он, наверно, тоже. Когда мое сознание по обрывочку, по кусочку вернулось ко мне, я никак не могла понять, почему это он еще здесь, почему это он не умер. Ведь не может быть, чтобы именно он хлопотал надо мною. Твердая уверенность, что стрелял именно он, требовала логических выводов, а именно, что, убив меня, он должен был себя лишить жизни. Вот и попробуй мне объяснить причину этой безумной логики.
Ну, конечно же, Гитта, ты могла бы объяснить. Но ты просто не хочешь.
В тот момент, когда я поняла, что не кто другой, а именно он надо мной хлопочет, очень хорошо, что мой автомат не был заряжен. Я не гожусь в героини высокой трагедии.
Счастливые минуты, в которые сознание полностью вернулось к Любе, обогатили меня сведениями о том, как звучит уничижительный приговор в устах русской девушки.
По счастью, я понимал лишь интонацию. Но на всякий случай втянул голову в плечи. Впрочем, не располагай я убедительным доказательством того, что она не права, иными словами, ухитрись волк уйти живым, мне, право, было бы не до шуток. А так я смело прервал поток ее речей, не дал этому яростному заблуждению увлечь себя, надеялся уговорить ее вполне сознательно за мной последовать. Мы еще посмотрим… Мы еще увидим… Ничего мы не увидим, петух ты недоделанный. Нечего нам больше совместно видеть. Только тут она заметила изодранный рукав своего ватника, касательную рану плеча и ощутила липкую влагу крови. Вот тут и впрямь можно посмотреть. А я сдуру предъявил ей оба магазина, прибереженные на черный день и спасшие ей жизнь. Она увидела вмятины там, куда ударила пуля. Сдуру, право же, сдуру. В яростном своем заблуждении она вполне могла воспринять предъявленных ей чудесных спасителей как наглую издевку. Как самое гнусное из всех мыслимых объяснений. Воззвание к дорогому боженьке, который не допустил того, чего я возжелал в своей сердечной боли. Она вдруг притихла, растерянно притихла. Словно не ждала от меня такой идиотской наглости. Вот тут я полностью превратился для нее в совершенное ничто. Она недвусмысленным жестом потребовала, чтоб я сдал оружие. Да, теперь мне придется все взять на себя, чтобы разочарование ее сердца, порожденное ошибкой, не обернулось бессмысленным несчастьем. Я послушно уложил автомат на траву, а сам при этом успел прикинуть, как бы получше ухватить эту окаменелую деву, чтобы не причинить ей боли. Один раз я уже носил ее через плечо. Она и сейчас была такая же легкая, но отгибалась, как стальная пружина, и колошматила меня руками и ногами. Это же надо, сколько энергии может скрываться в такой хрупкой оболочке. По счастью, мне удалось перехватить ее запястье, не то она вообще открутила бы мне ухо. Это очень больно. Я решил тоже дать себе волю и заорал: «Дура ты, дура, ничего у тебя не болит!» Не знаю, что в ярости отвечала мне она. Это была наша первая и наша последняя размолвка. Зато грандиозная.
Убитый лежал между осколками камней в высокой траве. Я развернулся вместе с ней, чтобы она могла его увидеть и понять всю нелепость своего заблуждения. Я ждал, пока она скажет мне, что она поняла. Пока она, повиснув на моем плече, не успокоится окончательно. Я спустил ее с плеча и поставил на камень. Она села на него. Я остался стоять рядом. Мы молчали. Долго. За все время, что мы провели возле мертвого, прозвучали только два слова. Их сказала она. Люба, Люба, сказала она. Себе под нос. Вот и вся ее самокритика. Я пытался понять, с какой стати «великий мыслитель» в одиночку припустил за нами, лично взял на себя задание уничтожить нас. И вот как я это себе представил. Он явился на капитанские поминки пьяный вдребезги. Ну, это они ему еще кое-как простили. К тому же он, надо полагать, как-то взял себя в руки. Но потом они обнаружили шофера с кляпом и пустой фургон. Чтобы спасти свою шкуру, шофер решил заложить обер-фельдфебеля. Тем более что для этого достаточно было просто сказать правду. Служба есть служба. Выпивка есть выпивка. А приказ охранять есть приказ охранять. Но они решили предоставить «великому мыслителю» последний шанс: вернуться с нашими скальпами в квадрат икс-игрек, где ждет группа Герман. Или, скажем, с отрезанными языками. Не сумеет – пусть лучше не показывается им на глаза. Если он не справится, может записывать себя в покойники. Вот как примерно могло быть. На запястье у покойника сидел походный компас.
Я взял компас себе. Люба от него отказалась. Его автомат я хотел разбить о камень. Но Люба не дала. В кармане у покойника мы нашли кислые леденцы и нечерствеющий хлеб в станиолевой обертке. Дневной рацион. Я хотел выбросить хлеб. Люба его съела, а вот леденцы как раз выбросила. Еще я нашел письмо полевой почты, адресованное обер-фельдфебелю. Детский почерк. От 21-го апреля. «Дорогой папочка! От меня тоже большое спасибо за много муки и жирное сало. Мама как раз печет блины. А вчера мы все вместе ходили на площадь. В честь рождения фюрера. Господин Дольбринк начал произносить речь. Но тут объявили воздушную тревогу. И всем пришлось вернуться домой. Теперь самолеты прилетают каждый день. Они летят через пустошь, потом через нас. Их можно увидеть. Мы с дедушкой всякий раз их считаем. Вчера насчитали 104. Когда ты приедешь на побывку? Не болей и не давай подстрелить себя. Лучше сам стреляй в этих русских. Твоя любящая дочь Хильтруда…» Вот и этот человек услышал надгробное слово. – Я б жить хотел на Люнебургской пустоши… У меня сдавило горло. И Люба это видела.
На прежнем месте, где лежало наше оружие – теперь у нас было три на двоих, – я сказал Любе: «Ты – номер один». Я указал на нее и поднял палец. «Я – номер два». – Я указал на себя и поднял два пальца. Я хотел ей объяснить, что она была первым, то есть наиболее опасным противником для «великого мыслителя». Недаром же он хотел в первую очередь выключить ее. А я для него был второй, то есть менее опасный. Не могу понять, почему Любу так безумно напугала эта справедливая мысль. Может, она неправильно меня поняла? Она пыталась что-то возразить или объяснить. Заговорила со мной по-русски. Отчего я как-то растерялся. Но тут и она подняла палец. И сказала: «Один…» К моему великому удивлению, сказала по-немецки. Потом подняла еще один палец и продолжала опять по-немецки: «…плюс один будет два». Немецкие слова она подбирала и произносила с натугой. А потом рассмеялась, радуясь моему великому изумлению, из-за которого у меня, должно быть, сделался совсем уже дурацкий вид. Смех у нее был заразительный. И это было прекрасно.
Но теперь куда податься нам двоим? Куда, куда, то-то и оно, что куда. Я открыл компас и принялся его настраивать. Она следила за мной. С профессиональным интересом, как летчица. Указала на стекло. С закрытыми глазами. «Маршрут», – сказала она все еще с закрытыми глазами. Я, что твой указатель, указал в указанном направлении. Она, что твой указатель, беззаботно указала в прежнем. Женская самоуверенность. Такая живо уложит тебя на лопатки, если за ней не следить. Сядь-ка ты лучше, Люба. У тебя касательное ранение. Надо наложить повязку. Надо! Во избежание инфекции. Вот тут у меня бинт. Она послушно сняла ватник. Послушно села. Послушно задрала гимнастерку, чтобы снять через голову. Строптиво опустила ее вниз. Непроизвольный кивок в прежнем направлении. «Давай!» В смысле, катись. Тут я и без тебя обойдусь. На первых порах, говаривал мой отец, желание девушки для тебя все равно что божья заповедь. Я взвалил на себя все наши автоматы, взял в руки изрешеченный пулями рюкзак и медленно, очень медленно двинулся вперед. Немного погодя остановился. Она все не шла и не шла. Потом я услышал, как меня окликают по имени. Сердитым голосом окликают по имени: «Бенно!» И мое имя снова стало родным для меня. В свое время мать настояла, чтобы меня так нарекли при крещении. Она была католичка. Отец же называл себя человеком свободомыслящим. В наших краях католиков можно было по пальцам перечесть. И одноклассники не называли меня «Бенно», а называли «Бемме». Будь отцова воля, он бы дал мне имя «Хартмут». Но теперь я окончательно и бесповоротно стал называться «Бенно». Пусть возлюбленная наречет тебя, сердито окликнув. Бенно! Ну что ты за человек такой, неужели ты не видишь, как я мучаюсь?! Вижу, вижу. Тогда чего ты ломаешься, как пасторская дочка? Один плюс один будет четыре, если считать руки. Одна, другая, третья, четвертая. Она сидела в солдатской нижней рубашке. А раненую руку держала перед собой. День был жаркий. Я чуял солоноватый запах ее крови и горьковатый – ее пота. День был прекрасный.
Повязка была наложена по всем правилам. Потом я бережно прижал ладонь к ее ребрам, туда, где взошла синяя радуга. Забавно, что у нее при этом защекотало в носу. Она чихнула. Я тотчас отозвался. «Будьте здоровы!» Она снова засмеялась. Легла от хохота. Я опустился перед ней на колени. И мы засмеялись уже вдвоем, как будто в нашем положении было хоть что-нибудь смешное. И это было прекрасно. А вот бедро, про которое я точно знал; что оно у нее болит, она не позволила мне ни осмотреть, ни подлечить.
И снова мы пошли лесом. В прежнем направлении. Лес поредел, земля под ногами стала податливой. Запахло болотной водой. Нас атаковали комары. Комар – это борец-одиночка, но, если его убьешь, он начнет размножаться. Так говорил лейтенант, У него было с добрый десяток зеленых накомарников. А Люба принесла папоротник. Чтобы отмахиваться. Один веер – мне, другой – себе. Мы шли рядом, порой останавливались, слушали, при помощи жестов обсуждали, нет ли вблизи подозрительного звука человеческих шагов. Шелест, треск, чмоканье и бульканье в болоте. Мы глядели в оба. Один раз перед нами взлетела стая птиц. Если судить по размеру, это были перепела. Взлет напугал нас так, словно мы наткнулись на мины. Люба сказала, что мы должны следить, не торчат ли из земли проволочки мин. Она повела тонкий шнурок от своего рюкзака по земле. Я ее понял. Леса принадлежали партизанам. Мы уже не раз натыкались на старые колеи, на узкие колеи от крестьянских телег, примявших траву. И возникли они не позже, чем прошлой осенью. Зверобой с тонкими, прозрачными листьями стоял желтый и пышный. Кое-где он рос прямо в колеях. И был вполне целый. Мы шли по колеям. Все следы колес непременно ведут к человеческому жилью. Ну не все, но эти, пожалуй, да. День выдался долгий. Если верить моим часам, было уже двадцать минут шестого. По среднеевропейскому времени. Солнце видело над деревьями примерно на высоте еще одного дерева. Мне чудилось, будто мы уже сто лет бредем вместе по этому лесу. Мне чудилось, будто мы обговорили вместе уже сто тысяч вопросов, переделали вместе сто тысяч дел. Мне чудилось, будто мы спокон века живем вместе под небесным сводом. Мне чудилось, будто мы первые люди на этой земле.
Возможно, и я в свое время думала что-то похожее. Когда я не могла уснуть после агитработы, когда я увидела, как он сидит, надежный товарищ Хельригель, над головой лампочка на двадцать пять ватт, сидит и пишет отчет за столиком в зале деревенского трактира. Что-то в этом же духе, про Адама и Еву. И про рай на земле. На этой проблеме верующие во все времена неизбежно сталкивались с разочарованием. Если слишком задирали нос. Или яблоки в райском саду висели слишком низко. Были на вкус слишком кислые. Тогда уж наверняка. Так сказать, закономерно.
Впрочем, довольно скоро колея вывела нас на широкую просеку. В болотную низину. С торфоразработкой, с прудом по другую сторону. И с пересохшими воронками. Будто маленькие мертвые кратеры. И с избушкой примерно посредине. Избушка была обшита горбылем и крыта берестой. Мы пошли к избушке. Нас ослепил блеск солнца. Закатно-багровое висело оно как раз над коньком крыши. Засов на двери годился лишь, чтоб дребезжать. Сама избушка была пуста. Если не считать света, который проходил через щели и через дверь, и охапки сена по щиколотку высотой, избушка была пустая. Из обстановки: подвесная корзина, люлька, другими словами. Люба не стала туда заходить. Стол и скамьи были снаружи. Из неструганых, вкопанных в землю стволов и двухдюймовых неструганых досок. Поблизости – очаг. Круг, выложенный из камня. В кругу – черная зола и несколько головешек. За домом – штабель длинных жердей. То ли для постройки мажар, чтобы вывозить сено, то ли на топливо. Люба сидела за столом, уронив голову на руки. Похоже было, что спит. Похоже было, что не намерена здесь оставаться, а хочет немного передохнуть. Она и впрямь скоро поднялась со скамьи. У нее было очень чистое лицо, очень чистое, по-другому не скажешь. По-другому оно и не выглядело, ее лицо, когда она встала со скамьи перед лубяной избушкой и посмотрела на меня. У нее было очень чистое лицо. Чистое – это не обязательно счастливое. Она сбросила ватник, сняла сапоги. Стоя на одной ноге, сняла один сапог, стоя на другой – другой. На ней были шерстяные, почти белые носки. Носки она тоже сняла и взяла с собой, когда босиком ушла туда, где за кустами дрока поблескивал пруд. Должно быть, у меня, когда я провожал ее глазами, лицо было далеко не такое чистое, но зато очень счастливое. Должно быть.
Лично я не ощущал ни утомления, ни усталости. Хотя прошлой ночью я так и не сомкнул глаз, хотя и в этот жаркий, нескончаемо долгий день я много чего переделал. Люба шла, не оглядываясь. И это тоже было прекрасно. Она мне доверяла. Я пошел к торфянику. Он был расположен как раз напротив пруда. Вдоль тропинки лежали деревянные формы, в которых сырой торф высыхает до твердости кирпича. Формы эти похожи на кухонные полки. Некоторые еще стояли в рядок. Эти – с торфом. Но большинство было пустых. Эти лежали небольшими кучками. Жирный торфяник, ничего не скажешь. На глубину не меньше одного метра. И это по самым скромным подсчетам. На дне выемки – опрокинутая тачка. Такая с сиденьем, два заступа, черные лужи. Словно люди убежали отсюда, как убегает ребенок, завидев бяку. Я пошел вниз по скату, откопал себе ямку и справил малую нужду. Вдруг приспичило. Кому после страха приспичит, у того сердце не заячье, говаривал мой отец.
Я побрел обратно к избушке. Я увидел Любу. Она стояла по грудь в воде и мылась. Я видел, как бежит по пруду невысокая волна. Насчет избушек и вообще деревянных домов в России у меня уже накопился кой-какой опыт. Кладовая у них часто под землей. Прохладней, чем наверху. И откидная крышка над ней. Чаще всего чем-нибудь прикрыта, замаскирована. Носком сапога я разворошил сено. И нашел то, что предполагал и на что надеялся. И крышку нашел, и погреб. В нем – чугунок. С крышкой. В чугунке – ящичек из темного дерева и коробок – из светлого. В темном – крупа. В светлом – соль. Слиплась в комки, но все равно соль. Крупа чистая, крупинки одна к одной. Добрые люди, которым все это принадлежало, сказали бы, наверно: берите и ешьте. Если прибавить энзе из моего мешочка. Две банки сала. И хлеб из карманов… Короче, день наш, век наш. А завтра посмотрим.
Все, что мы могли употребить на ужин, все наше богатство я выставил на стол. Потом сложил, как надо, жерди, наколол щепки и разжег наш очаг. А в довершение всего я еще нашел колодец. И даже недалеко от избушки. Яма, выложенная камнем, неглубокая такая. Дно видать. Можно черпать воду ладошкой. На дне лежала белая тарелка. Разбитая пополам. Вода прозрачная. Отражает мое лицо. Оказалось, что лицо у меня немыслимо большое, и веселое, и вымазанное черным. Я ведь долго возился с закопченным чугунком. Вспомнился обрывок знакомой песни. В этот вечер он вспомнился мне еще один раз, но уже в другом настроении. Но я не запел его, этот обрывок. Сейчас не запел. У меня и без того было такое ощущение, будто я проглотил целый орган. Радостное ожидание пело и бушевало во мне, как прелюдия. Да, пожалуй что так.
И когда я вспоминаю все, что было, мне становится ясно, что это был самый прекрасный миг моей жизни. Самый прекрасный. Пусть это не покажется тебе обидным, Гитта. Это пусть не покажется. Но та Люба, которая вернулась, когда я бдил у стола, будто святой Николай, была совсем другая Люба. Сперва я подумал, что у нее опять разболелось бедро. Но тогда она скорей всего прижимала бы к нему руку. У нее был сломленный вид. И медленными шагами она приближалась ко мне. Поглядела на меня так, словно хотела сказать: взгляни и ты на меня. Взгляни, какой я стала. Глаза у нее были широко распахнуты. Будто от страха. Взгляд стал какой-то блуждающий. И я увидел, что она плакала. А теперь больше не может плакать. Не сознавая, что делает, она скомкала в руках белые шерстяные носки и бросила их в чугунок. Словно надумала отварить. Сидевший у меня внутри орган оборвал игру. На просеке воцарилась мертвая тишина. Моя мать молилась так: Благословенна дева Мария. Шепотом. Она всегда молилась шепотом…
Мы пошли туда. Она повела меня туда. Она босиком шла передо мной. И остановилась, когда мы подошли совсем близко. Она не хотела еще раз увидеть то, что теперь предстояло увидеть мне. Я стоял на краю небольшой болотистой ямы возле пруда. Я увидел на дне ямы двух покойников. Женщину и мужчину. Смерть исказила их лица до неузнаваемости. До чудовищной неузнаваемости, когда уже явственно проступают кости черепа, но еще не до конца сгнила плоть. Штаны у мужчины засучены. Ноги босые. На нем только рубашка и штаны. А женщина одета в юбку и белую кофточку. И пестрый платок. Была одета. Рубашка мужчины и кофточка женщины еще носили следы пуль, бурые пятна еще сохраняли цвет крови. На впалой груди мужчины – овальный опознавательный знак немецкого солдата, целый, нижняя половинка не снята. Неучтенный, неучтенная. Оба – выведены в расход. Добытчик торфа. Добытчица. Любовь и предательство. Смерть. А ребенок еще, может, жив. Люлька в избушке похожа на половинку яйца. Я оглянулся. Я не увидел Любу. И пошел за лопатой, в торфяник.
ЛЮБА РАССКАЗЫВАЛА ГИТТЕ: Потаскухе одна дорога – в могилу. Уж и не знаю, откуда это во мне возникло. Возникло, и все тут. Как черное откровение. Но звучало правдой. И выглядело тоже правдой. И поразило меня, как может поразить только правда. Я купалась в пруду. Купанье освежило меня, вернуло чувство молодости. И чистоты. Внутренней и внешней. И даже чувство самоценности. В общем. Хотя и не в целом. Я избежала смерти. Я чувствовала себя счастливой. Но тоже в общем. А не в целом. За вычетом судьбы, которая явилась ему и мне как сама любовь. Вот что меня тревожило. И весело щебеча при всей своей тревоге, я наткнулась на это черное откровение. На двух расстрелянных в черной дыре. Я, босая, остановилась перед ней. Увидела свои чисто вымытые ноги. Увидела тронутые распадом ноги женщины. Потаскухе одна дорога – в могилу. А эта женщина, она разве была потаскухой? А я, я что, тоже готова была стать потаскухой? В избушке висела люлька. Но у потаскух не бывает детей. Нет, у них тоже бывают. Иногда. Потаскухи не хотят детей. Но ведь и не потаскухи иногда не хотят детей. Единица равна нолю. Ноль равен единице. А где же правда? Я вернулась к нему.
Я шла по улице. Мой брат, Ирина, мой отец, моя мать, мои люди, живые и мертвые, образовали эту улицу. Они розгами били меня по ногам. И громко приговаривали. В начале стоит измена. В конце стоит смерть. Ты разве не видишь смерть? Вот же она стоит. Смерть из Германии. Ты хочешь потерять честь во имя смерти и Германии? Люба! Что с тобой? Люба! Избавь нас от этого позора.
А он, который из Германии, он стоял у стола перед избушкой. И встретил меня хлебом и солью. Уж поверьте мне, это не смерть, которая выискивает потаскух. Да и я сама, разве я потаскуха, которая хочет смерти? Вам виднее? Тогда почему вы не отвечаете? Или, по-вашему, вопрос неправильно поставлен?
Он похоронил расстрелянных. А я упала в траву за каким-то желтым кустом. Мне хотелось умереть, мне не хотелось умирать. Он засыпал черную яму черной землей и – уж наверняка – черными мыслями. Должно быть, невеселая для него была работа. Вместе с ними он закапывал и свою надежду. Свою и мою. Пусть даже наша, общая надежда была еще туманной и неясной, она уже зеленела. Она не желала, чтоб ее среди лета засыпали землей. Я, кстати, не представляла себе, чем это все кончится. Я просто хотела как можно скорей выйти к нашим. Хотела или уже не хотела? Не начала ли я втайне желать, чтобы прошел еще один день, хотя бы один, один-единственный, до того, как я выйду к нашим и сдам его. Когда я лежала за желтым кустом, хотела умереть, хотела – и не хотела одновременно, я впервые представила себе, как это все могло прекрасно кончиться. Война, думала я, война, считай что, уже наполовину выиграна. Фашистов уже здорово стукнули. Но они еще опасны. Этот немец, могла бы я сказать, этот немец не фашист. Но он и не антифашист. Хотя может им стать. Он уже понял, что защищает неправое дело. Он пошел со мной. Рискуя всем. Поставил на карту свою жизнь. Ради меня убил фашиста, который хотел убить меня. Он – не смерть из Германии. Теперь Германия – смерть для него самого. Есть ведь и другие немцы, которые перешли на нашу сторону по глубокому внутреннему убеждению. Которые сражаются бок о бок с нами. Любовь, могла бы я сказать, любовь – это ведь тоже антифашистское убеждение. Нет, вот это я сказать не смогу. Именно это не смогу. Пока не смогу. Кто знает, до каких пор. Вы лучше его спросите, готов ли он сражаться на нашей стороне. Вот это я вполне могла бы сказать. И еще спросить, чего тут такого плохого в моем беспокойстве. А они могли бы ответить: ну, знаешь, девочка, твое беспокойство вовсе не плохое, просто неподходящее оно. Не ко времени. Для нашего времени оно одним размером меньше, чем надо. Но, дорогой брат, если мое беспокойство на один размер меньше, чем надо, из этого вовсе не следует, что оно плохое. Ты сам так говорил. А раз оно не плохое, мне незачем его скрывать. Если открыто признать свое беспокойство, в котором нет ничего плохого, от самого беспокойства меньше останется. Ты с этим согласен, мой дорогой брат?







