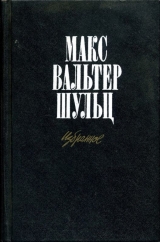
Текст книги "Летчица, или конец тайной легенды (Повесть)"
Автор книги: Макс Шульц
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
III
РАЗМЫШЛЯТЬ И БЫТЬ В ЛАДАХ С ПРИРОДОЙ
«Температура в Москве минус двадцать. Желаем вам приятно провести время либо благополучно продолжить поездку. Благодарю». – Стюардессы только и знают, что благодарить.
Мистер Хельригель (так написано в билете) прибыл в Шереметьево с опозданием на два часа, где его встретила с более чем сдержанной приветливостью одна незнакомая дама. Анна Ивановна, Любина невестка. Едва представившись, буквально в первую минуту, незнакомая дама призналась, что некогда страстно желала ему смерти. Из-за сокрытия правды, касающейся его истинных чувств… Ты вступаешь на эту землю. Более чем через тридцать лет ты снова вступаешь на эту землю. И каково же твое первое впечатление на этой земле? Женщина просит у тебя прощения. Ты прожил всю жизнь, упрекая себя, что в решающий момент сплоховал, что в решающий момент оказался трусом. И сразу же навстречу тебе выходит женщина, которая тогда произнесла эти слова, и просит простить ее за то, что тогда назвала тебя трусом, что накликала смерть на твою голову.
Гитта Хельригель – в курсе. Сильный Бенно, оказывается, чуть не рухнул от этого удара. Закружилась карусель с багажом пассажиров. А он почувствовал, что с трудом стоит на ногах. Анна Ивановна ей позвонила.
Доставив своего чуть не рухнувшего исповедника в гостиницу «Россия», Анна Ивановна сочла своим первейшим долгом позвонить Гитте домой. Прибыл благополучно. Мы с ним достигли полного взаимопонимания. Мы хорошо поняли друг друга. А теперь позаботьтесь о нем сами. Да, да, было бы очень неплохо, если бы вы о нем хоть немного позаботились…
Во время этого разговора, который Анна Ивановна вела из вестибюля восточного блока, Хельригель смотрел в окно. Он увидел неподалеку электростанцию. По ту сторону Москвы-реки. Огромные светящиеся буквы над электростанцией возвещали ленинский тезис, коммунизм – есть советская власть плюс электрификация всей страны. Гитта, в свою очередь, полюбопытствовала, спрашивал ли Хельригель о ней и не огорчен ли бы ее отсутствием в аэропорту. Чтобы не погрешить против истины, Анна Ивановна честно признала, что Хельригель не справлялся ни о том, где находится его бывшая жена, ни о том, как она поживает. Она же, Анна Ивановна, со своей стороны, не желала ему подсовывать ложь во спасение, к примеру: еще на работе, никак не отпускают и тому подобное. Но теперь пусть она все-таки ему позвонит. Она ведь знает, мужчины – они порой ведут себя как непослушные мальчишки. Да ведь и она, Гитта, тоже хотела как лучше, когда позвонила и сказала, что ради Андрея ему не стоит ездить на похороны.
Тот, кто думает, что думал как лучше, просто его не так поняли, пусть задаст себе вопрос, а точно ли он хотел как лучше. Гитта Хельригель задумывается. И вторично приходит к выводу, что хотела как лучше и более искренне просто хотеть не могла. Один бог знает, сколько неудобств он еще причинит себе и другим из-за своей растревоженной, доброй души. Лично я, думает Гитта, не желаю больше в этом участвовать. Она ему не звонит. Да и с какой стати? Сейчас все его мысли и чувства заняты Любой. Не умершей, живой. И своим поздно обретенным сыном. Значит, она здесь сбоку припека. Значит, она как раз и выступает в роли выбывшей. Мертвый предмет. Неодушевленный предмет. Тогда уж разумнее позвонить Коле. Неодушевленные предметы никому не звонят. Они разве что могут потрепать жесткие бронзовые волосы маленького охотника. Но у мальчугана тоже неподходящее настроение и он не намерен одаривать людей мыслями.
Анна Ивановна звонит еще раз. У нее потрясающая новость. Оказывается, Кондратьев переговорил с Андреем, открыл ему, что на похоронах Андрей лицом к лицу встретится со своим родным отцом… Ну и?.. Ах, какое взволнованное «ну и…». Она, Гитта, может быть совершенно спокойна. Андрей ни капли не удивился. Разве что удивился тому, как его дядя сумел выдавить из себя подобное признание. Лично он, Андрей, давно уже знает об этом от матери. Знает он и об ее желании, чтобы этот немец еще раз был рядом, когда ее будут опускать в могилу. Когда в последнем, великом молчании все еще раз мысленно обратятся к ней. Но Андрей встретится с этим немцем без всяких ненужных эмоций. Хотя и зная всю правду. Настоящим отцом для него всегда был и остается Гаврюшин. Он носит его фамилию, к нему он испытывает сыновние чувства. Такой человек, как Гаврюшин, вполне это заслужил. И в этом заключается более высокая, лучшая правда. Для всех. В том числе и для этого немца… Скажите, Гитта, кто должен сообщить ему об этом, подготовить его? Ну кто же, как не вы?..
Вот после этого Гитта и позвонила в гостиницу своему бывшему мужу. Не без определенно неопределенного противоречивого удовлетворения. Она слышала гудки. Но никто не снял трубку. Ясное дело, никого. Наверно, чуть-чуть приведя себя в порядок, он тронулся в путь. Москва! Любин город! И только потом все остальное. И никакая Гитта для него в этом городе попросту не существует. Она попросила дежурную по этажу принять телефонограмму. Чтоб он позвонил по такому-то номеру. По ее номеру, он ведь знает ее номер. И давно уже мог бы позвонить сам. Дело срочное. Очень, чрезвычайно срочное.
Хельригель позвонил только ближе к вечеру. Она была очень сердита, что ей пришлось столько времени ждать звонка. А позвонив наконец, он спросил, какие это у нее чрезвычайно срочные дела, причем таким тоном, словно им вообще не о чем больше разговаривать. Как будто она всего-навсего хотела загладить свое злое недоверие. Как будто он хотел сказать: знала бы ты, с каким доверием встретила меня ее невестка… Гитта собиралась пригласить его к себе. Но своим тоном он заставил ее отказаться от приглашения. И она ограничилась коротким изложением чрезвычайно срочного дела. В предельно короткой – из-за досады – форме. Он не посмел усомниться в содержании ее слов. Она только услышала, как он тяжело дышит в трубку. Если человек, услышав какую-то новость, тяжело дышит в трубку, значит, он совершенно уверен в том, что все сказанное – чистая правда. Более того, он дает понять, что это его личное дело. А передатчик новостей, столкнувшись с такой безмолвной реакцией, избавляет получателя от вопросов о самочувствии и слов утешения. Негоже наслаждаться тяжелым дыханием человека, которому без околичностей сообщили то, что ему положено знать. Надо сообщить и уйти. Уйти из мыслей, уйти со связи. Положить трубку. И Гитта положила трубку. А не сомневаться, правильно ли она поступила. Гитта давно привыкла, она на этом собаку съела.
Вечером Хельригель пошел в ресторан. Со своего места он видел освещенный Кремль. Изогнутые зубцы, позолоченные купола, плоский зеленый свод со знаменем. В луче прожектора плясали редкие снежинки. За стол к нему сели трое мужчин, тоже не очень веселого вида. Они сказали, что постараются не помешать его размышлениям. Они просто хотят молча помянуть друга одного из их друзей. Мир велик и обширен. Счастью и горю в нем нет конца и края. И применительно к этому вообще не играет роли, если троим или четверым порой взгрустнется. В этот грустный вечер четверо невеселых мужчин молча осушили четыре бутылки белого. После чего у Бенно стало легче и спокойнее на сердце. Вдобавок, он был совершенно уверен, что Люба не станет его ругать за этот вечер и это общество. Он только хотел бы, чтобы один из этих трех незнакомцев оказался Андреем. А сам он – тем другом, которого поминали. Дети – это волшебный плод любви. И дети – ее удушители. Невинность не защитит от удушающих объятий того, кто еще невиннее. Дежурная презентовала ему бутылку минеральной воды.
На другое утро тьма и свет затеяли игру в кошки-мышки. Небесные бури ненадолго проводили светлые борозды в пелене облаков. И холодный низовой ветер подхватывал их, обращая сердитую снежную круговерть в блестящий хаотический вихрь. Стремился обнажить небо и землю, когда свет внезапно угасал. Размышлять и быть в ладах с природой… Хельригель завтракал. Чай, яичница-глазунья, масло, хлеб. И вдобавок возможность собственными глазами наблюдать погоду через стеклянную стену буфета. Хельригель завтракал и думал, – размышлять и быть в ладах с природой, – и все глядел, все глядел на погоду. А Люба уже не знает, какая сегодня погода. И какая будет завтра. И вообще никогда не узнает. А тогда был жаркий день. Примерно в это время, от восьми до девяти мы еще были в той лощине. И она лежала связанная по рукам и ногам в санитарной перевозке. А я пошел с котелком за водой. Пошел за водой, а набрел на хорошие мысли. Какие же это были хорошие мысли? А вот: нынешний день вытеснит день вчерашний. Я запустил в кусты камнем. С кулак величиной. Камень ударился о колесо. Камень сказал ей: здесь есть человек, который хочет тебя выручить. День вчерашний вытеснит день нынешний. А смерть не сговорчива. Ее нельзя задержать. Зато день задержать можно – против смерти. Сегодня последний Любин день на этой земле. Я хочу задержать его.
Мысли Хельригеля в этот день за завтраком тоже затеяли игру, как свет и тьма. Размышлять и быть в ладах с природой. Что такое природа? И что такое мышление? Разве человек всякий раз начинает размышлять с самого начала? Нельзя всякий раз начинать сначала. Для мыслей не существует нолевой отметки. Для этого человек слишком стар. Еще в материнском чреве слишком стар. Всякий раз сначала – возможно. Человек должен начинать сначала. Может, кто и думает, что не должен, но так способен думать только ноль. Дешевый у них завтрак. Рубль двадцать. Примерно четыре марки в пересчете. Не так уж и мало… У Гитты я, во всяком случае, не возьму ни копейки. Она вполне могла говорить со мной другим тоном. А к тому же мальчик прав. Да, да, он прав. Коль скоро отцовство не есть вопрос алиментов, оно становится вопросом воспитания. Научить ребенка прямой походке. Вместе с матерью. Но как она втолковала мне, что Андрей сознает себя Гаврюшиным? Изнутри и снаружи сознает себя сыном настоящего своего отца? Как она втолковала мне? Как будто я не согласился бы платить алименты! Втолковала же. Раньше все считалось по-другому. Три дня назад я прочел в телеграмме: «Мы с Любой были очень дружны. Твой тон мог бы оскорбить Любу». Не поминать, черт возьми. А кто у нас легок на помине?.. Немного спустя – Хельригель продолжал беседу с самим собой касательно свойств человеческой натуры – легкая на помине возникла перед ним. И – задним числом – пожелала приятного аппетита. И без приглашения только что посланная к черту Гитта Хельригель села к нему за стол. И сказала, что со вчерашнего обеда ничего не ела. Не могла проглотить ни кусочка. Хельригель, хотя и потревоженный в стройной системе своих рассуждений, решил все-таки держаться прежней установки. И сказал: «Голодный черт ест за двоих». Порекомендовал чай и печенье. А когда вернулся от буфета к столу с чаем и с тарелочкой печенья, Гитта тоже успела подхватить установленную связь с чертовщиной. И сказала по-русски: «Муж и жена – одна сатана». Скажи она то же самое по-немецки, эта великая мудрость до него, вероятно, вообще бы не дошла. А так хоть не совсем, но все-таки дошла. У Гитты был утомленный, невыспавшийся вид. У него, надо полагать, тоже. Вчера вечером, сказала Гитта между двумя кусочками печенья, вчера вечером, почти сразу после его звонка, к ней пришел в гости один молодой человек. Она давно с ним знакома. В известном смысле…
– А мне какое дело?
– Тебе что, уже нет дела до Андрея?
– Андрея? Андрей приходил к тебе вчера вечером?
– Ну, не совсем ко мне. Ему сказали, что он застанет тебя. Анна Ивановна ему так сказала. Она, надо полагать, была уверена, что он застанет тебя у меня. Получилось разочарование. Вот так.
Хельригель снова начал тяжело дышать. Глядел за окно в снежную круговерть, слышал, как Люба что-то говорит. Первое слово, которое он от нее услышал: «Идиот», – вот что она ему сказала. В той лощине. В девятом часу. И в голосе у Гитты звучали интонации, которые использовали этого «идиота» как твердый фундамент. Короче, он тяжело дышал.
– Андрей не стал у меня задерживаться. Я едва уговорила его присесть. Он хотел предложить нам транспорт. Чтоб мы ехали в одном автобусе вместе с самыми близкими. В этом же автобусе будет доставлен на кладбище гроб. Здесь есть такие спецавтобусы. А кладбище расположено за чертой города. Мы должны встретиться перед институтом, где преподавала его мать. Точно в половине второго. Там будет сперва гражданская панихида. Я знаю, где этот институт. Я могла бы отвезти тебя туда. У меня в распоряжении служебная машина. А на кладбище ты возьмешь и мои цветы.
– Я – твои цветы? Ты же сама сказала, что он предложил отвезти нас обоих.
– НАС больше нет на свете.
– Не говори ерунды, мы же не умерли.
– У Кондратьевых высоко развито чувство семьи. Они хотят, чтобы МЫ присутствовали. Как будто МЫ еще существуем. Хотя бы один раз, в порядке исключения. На этот единственный час. Один раз – ради Андрея. Чтобы у него не возникла мысль, будто этот немец по-прежнему считает себя возлюбленным его матери. Теперь ты понял? Но не следует с помощью этого МЫ лгать перед лицом мертвой. НАС больше нет на свете. Вот и вчера ты не пришел ко мне, потому что НАС больше нет. Это было вполне последовательно с твоей стороны. Пусть так оно и останется. С моей стороны тоже. Вот почему МЫ не должны показываться вдвоем. На этом месте. В этот час. Перед лицом смерти всегда наступает час истины. Она была тебе ближе, чем когда-нибудь могла стать я. Вот почему ты один вместе с самыми близкими родственниками поедешь на кладбище и возьмешь мои цветы. Все равно горевать каждый будет поодиночке.
Размышлять и быть в ладах с природой. Плохо, когда речь идет о человеческой природе. У человека природа очень своеобразная. Вот ты, например, бежишь попить воды. А я не ходил попить, когда речь шла о человеческой природе, моей и ее. Я взял котелок и пошел за водой. И набрел на хорошие мысли. А вчера дежурная по этажу подарила мне бутылку минеральной воды. Я выпил ее, но ни на какие мысли не набрел. Впрочем, и это было хорошо. А было ли?
– Гитта, а если бы я попросил тебя, чтобы в последний раз мы с тобой были МЫ. На этом месте, в этот час. Всегда есть нечто более высокое, чем МЫ с тобой. Например, жизнь или, например, Андрей. Ведь и Андрей явился на свет из НАС, которых больше нет на свете, давным-давно уже нет. А он есть, он живет и говорит. Я хочу подняться над случайностью, которая именует себя судьбой. Он ведь не потребует от нас свидетельства о браке. Я прошу тебя, едем со мной.
– От тебя действительно никто ничего не потребует. У тебя есть твоя легенда и есть твой живой свидетель, красивый парень, замечу в скобках, как женщина и как постороннее лицо. Да и кто я такая в глазах близких родственников, как не постороннее лицо? Что я могу предъявить? Люба и не думала вводить меня в круг своей семьи. А ты принадлежал к этой семье с самого начала. Ты никогда не был для них посторонним. Ты просто был в длительном отлучке. Приняв это МЫ, я бы тоже вошла в круг семьи. МЫ стало бы моим алиби, которое именуется судьбой. Или, говоря твоими словами, чем-то более высоким в их глазах. В данной ситуации ты можешь ставить свою печаль выше, чем этот день и этот час. Ты можешь даже получать удовольствие от своей печали. Этому тебя выучила Люба. Случай судил тебе нечто высокое. Можешь спокойно назвать его судьбой. Только моя доля в этом высоком чересчур ничтожна. Так я воспринимала ее с самого начала. Только не до конца сознавала. Хотя нет, инстинктивно сознавала. Не то я не сбежала бы от тебя. Люба как-то раз меня спросила, не случайно ли мы разошлись с тобой, иначе говоря, сдуру. Но с прошлой ночи я знаю, что это было необходимо.
– Ты провела черную ночь. Черную от черных мыслей. И за эту ночь ты продумала, что будешь чувствовать утром. Изгнание дьявола. Нам с тобой не пристало заранее обдумывать, что мы с тобой будем чувствовать. Потому что, если заранее прикидывать, получается все наоборот. Только от настоящих чувств возникают настоящие мысли. Неужели ты и впрямь чувствуешь себя такой униженной? Неужели ты вообще не можешь больше, как ты это называешь, получать от себя удовольствие, как я это называю: прикоснуться к себе в нашей ситуации, в этот день.
– Ты ведь знаешь, я смотрю на общество, в котором мы живем, с научной точки зрения. Так меня воспитали, так меня выучили. Я объективизирую, понимаешь? При этом уже и к самому себе прикасаешься, как к чему-то чужому. Твердую поступь я переняла у своей матери, своих учителей, своих товарищей, своей партии. И если судить объективно, я не причисляла тебя больше к нашей партии с тех пор, как ты отказался учиться, учиться в Любином городе. Вот тогда, через наше большое МЫ прошла первая трещина. И еще одно я увидела объективно и подтвердила свой вывод нынче ночью: у меня одежда иного размера, чем та, в которую одевала людей война. Люба рассердилась на эти мои слова. Но тем не менее в глазах ее родственников я остаюсь человеком на размер меньше. Маленькая, добропорядочная немочка, которая выболтала множество вещей, не подходящих ей по размеру. Килька, плотвичка рядом с тобой, с китом среди китов еще более крупных. Вдобавок эта килька даже малька ни одного не сумела вывести. Такова ситуация, если судить с объективной точки зрения. И если я изо всех сил принуждаю себя – чем, собственно, и занималась всю ночь – оценить положение субъективно, мне следовало бы запеть такую песенку: «Мне бы лучше всего забавляться с китом… Но зато никогда и нигде Новак не оставит в беде». А мой Новак – это же я сама. И еще: выше головы не прыгнешь. Вот каково положение на сегодняшний день с диалектической точки зрения. Несложное и безнадежное там, где дело касается НАС. Через несколько недель я снимаюсь с якоря. Потом примерно полгода в Берлине. Потом еще куда-нибудь. Опять за границу. Если по-старому не склеивается, расстояния остаются последним средством связи. Мне не хотелось бы окончательно потерять тебя из виду…
– Наверно, как в той песне: «Будь всегда моей звездой, но не рядышком со мной». Нет, Гитта, спасибо. Уж коли так, тогда лучше окончательно.
– Будь по-твоему. Как пожелает господин. Но к часу я все равно вернусь и отвезу тебя в институт. А цветы мои ты все-таки возьмешь. И хватит разговоров.
Гитта решительно встала из-за стола после описанного выше завтрака. Он хотел удержать ее. Ведь не все еще обговорено… Но она считала, что обговорено решительно все. И осталась при своем мнении. Как он ни мотал головой, как ни возмущался (и это возмущение заставило его громогласно помянуть не существующих более НАС: «Я возьму такси!»).
Оставшись в одиночестве, Бенно Хельригель задался вопросом, как ему расценивать этот час между восемью и девятью, то ли как верховую бурю, то ли как холодную поземку, которая явилась в облике верховой бури. Он пришел к выводу, что, чем холодней задувает по ногам, тем свирепей гудит над головой. И еще, что, даже если речь идет о преходящих явлениях, для многих преходящее и составляет их сущность. И наконец, что большие и малые рыбы, киты даже, зависят от общего состояния погоды. И что все это – вопрос не одного лишь мировоззрения. Нельзя дважды пережить одну и ту же погоду. Все вышеизложенное означает, что Хельригель, снова изучая через окно метеорологические условия над огромным городом, начал раздумывать, как ему теперь быть. В соответствии со своей природой. Ему чудилось, будто внутри у него прозвенел звонок, словно возвещая конец большой перемены. Перед началом следующего урока. Учение о теплоте и о холоде. По расписанию.
В этот час, с поправкой на местное время, проснулась наша добрая Герта Хебелаут и вспомнила своего отсутствующего соседа, тревожась, не мерзнут ли у него ноги. Надо бы ему взять с собой теплые сапоги, а он уехал в полуботинках, чтобы там фасонить. За ночь на окнах выросли ледяные цветы. Как быстро выстывает такой дом в мороз. Надо будет сегодня протопить у него. Не то, чего доброго, вода в трубах замерзнет. Брикетов в подвале полно. Им выдают на комбинате. Хотя, возможно, он отогрел ноги в постели у Гиттхен. Она, Герта, желает ему от всей души, чтоб так оно и было. И Гиттхен, между прочим, она тоже этого желает. У Гиттхен был такой несчастный вид, когда она вдруг припожаловала в августе прошлого года. Даже гора угля и та со временем уменьшается, думает Герта в угольном подвале. Но вот любовь, любовь никогда не проходит. Покуда у любви есть топливо, есть печка и кочерга, думает Герта, поднимаясь вверх по лестнице.
Анна Ивановна дала ему свой телефон. На всякий случай. Он вернулся в свой номер и позвонил. Приятный мужской голос ответил: «Гаврюшин». У позвонившего на миг перехватило дыхание. Но он уже созрел для того, чтобы ответить на решительный тон Андрея точно таким же. И тоже назвал себя: «С вами говорит Хельригель». Он сказал это по-русски, считая, что такое сногсшибательное заявление звучит по-русски как-то деловитее, чем по-немецки. После чего ему будет легче деловитым и решительным тоном узнать, нельзя ли попросить к телефону Анну Ивановну, Андрей ответил с предельной краткостью: «Можно». Стало быть, можно. Без объяснений. Впрочем, ответ Андрея звучал скорее четко, нежели решительно. Да и как еще прикажете ему отвечать? Анна Ивановна держалась вполне естественно и не выказывала ни тени удивления, когда Хельригель сказал ей, что от всей души благодарит за предложение ехать на кладбище вместе с ближайшими родственниками, но предпочтет им не воспользоваться. Они с Гиттой уговорились по-другому. Они решили, что – в сложившейся ситуации – будет лучше, если он поедет с ней. Благо, у нее в распоряжении есть служебная машина. Он излагал это чересчур многословно, да и русский ему при этом как-то не очень давался. Но Анна Ивановна сразу его поняла. И даже больше чем поняла. Не успел он еще довести свою отважную, высоко моральную ложь до конца, как у Анны Ивановны вырвались слова, свидетельствующие о том, что она решительно все понимает. Впрочем она тотчас осеклась. «Жена у штурвала». – вот что она необдуманно сказала и о чем сразу пожалела. Хельригель был слегка уязвлен. Самые отважные лжецы чувствуют себя уязвленными, если собеседник пусть не до конца, но все же разгадывает их хитрость. Впрочем, далее Анна Ивановна проявила полнейшее сочувствие. Даже когда опускаешь в землю самое дорогое твоему сердцу, думать надо о живых. В этом ее пожелании Хельригель услышал известное облегчение, что ему тоже не совсем понравилось. Но он ограничился словами искренней благодарности, сказав себе, что, верно, ему на роду написано обманывать эту женщину ради других женщин. И решил сам себя за это наказать, доведя до предела рискованность своей лжи, а именно, не сообщив Гитте о своем великом, единожды принятом решении до того, как они оба сядут в машину, а сама машина двинется в заданном направлении. Вообще-то ему пора бы поумнеть. Как обстояло дело, когда Люба в лесу собиралась идти по азимуту, а сама пошла в прежнем направлении. Они тогда оба очень смеялись. Вообще-то к старости человек становится умней. Но не становится сообразительней. Короче, он выдержал свой зарок ничего раньше времени не говорить Гитте. Хотя ему и было трудно. В эти часы Хельригель верил в себя как в мужчину – так верят в Деда Мороза. А возможно, горькая ирония, прозвучавшая в словах Гитты, что уж лучше ей тогда забавляться с китом, сладко пощекотала его тщеславие. Все это вполне могло кончиться катастрофой. В минуту предельного риска Гитта могла его просто-напросто высадить из машины. Или придумала бы еще что-нибудь, лишь бы не ехать с ним дальше. Возможно также, что ей все безразлично. После черной ночи барометр ее настроения совсем упал. Но Хельригель пользовался успехом у женщин. Анна Ивановна очень мудро поблагодарила Гитту за понимание, проявленное в совместном решении. Она дала также понять, что за это понимание скорей всего следует поблагодарить Гитту. Гитта разгадала его не согласованный с ней маневр. Но что ей еще оставалось делать, кроме как сохранять видимость активного участия в этом исполненном понимания совместном решении? Между прочим, это решение и впрямь было принято не совсем без ее участия. Она невольно призналась себе, что Хельригель сделал именно то, чего должна бы потребовать от него она. Ради него же. И ради себя. И ради них. И – выражаясь научным языком – ради конструктивного взаимопонимания. Они научились блестяще понимать такие формулы. Одно плохо – в беде эти формулы теряют блеск. Ну, а он? Без ее участия он свернул со своего излюбленного крестного пути. Он не только понял, что Андрей унаследовал от матери здравый смысл, но благодаря этому пониманию вновь обрел свой собственный, уже в улучшенном виде. Во имя объективности с этим нельзя не согласиться, честно призналась себе Гитта далее. Но меня, продолжала нить своих рассуждений другая, нетренированная часть ее разума, меня он никогда не понимал. И не понимает по сей день. Скрыть от меня то, что он по счастью сделал, чтобы ошеломить меня в последние минуты с таким видом, будто это и составляет гвоздь сегодняшней программы – это свидетельствует только о наличии обычного мужского высокомерия. А жаль, Бенно, очень жаль.
Этим утром Гитта задремала еще на часок. После чего долго просидела перед зеркалом. Чтобы отмщение было красивым и холодным.
Точно без пяти час Гитта появилась в вестибюле гостиницы. Как и следовало ожидать, он был уже здесь, исполненный тщательно скрываемого от нее беспокойства. Сев в машину, она спросила, ел он что-нибудь после завтрака или нет. Лучше все-таки перед этим перекусить. Тем более ей все равно не съесть в одиночку все, что она закупила для вчерашнего вечера. Короче, хороший бутерброд перед этим очень и очень бы не помешал. Он взял толстый бутерброд и начал жевать. Мужчина, у которого нечиста совесть, звереет при виде заботливо приготовленной еды. Он начинает раскидывать умом. Много толстых бутербродов. Два раза она сказала: «перед этим». А один раз: «перекусить». Так не говорят, если НАС больше нет на свете. Она не сказала бы так, если бы… В Москве подолгу висят на телефоне… Она говорит, что он как-то по-другому теперь выглядит. Как новенький… Но не из-за нового пальто и новой шапки. Или не только из-за этого. Такие глупости не принято говорить по такому поводу… Он неуместно отвечает комплиментом на неуместный комплимент: она теперь выглядит моложе. С утра она выглядела старше. В ответ на комплимент она объясняет ему причину своего превращения. Перешагнуть через все… Это тоже не говорят перед… И он замолкает. А она понимает его молчание. Так в молчании Гитта и Бенно Хельригель достигли Новоалександровского кладбища на дальней окраине города. Того, кто молчит, питают через капельницу фактов.
И вот они разделили молчание со всеми остальными. Вместе с ближайшими родственниками они ждут у дверей ритуального зала. Молча ждут, когда их впустят. Молча обмениваются рукопожатиями. Генерал, в форме, как и Андрей, молча следил за соблюдением протокола. Он стоял возле Андрея, но отступил на полшага назад, когда Хельригель приблизился к ним обоим. Сын считается более близким родственником, чем брат. Анна Ивановна собирала принесенные цветы. Укутанная женщина раньше срока впустила Анну Ивановну с цветами. Анна Ивановна укажет цветам их место. Красные розы от Андрея – возле рук покойницы. Желтые розы на длинных стеблях – розы от Хельригеля, привезенные из дому в термосе, – слишком резко отличались от всех остальных роз, астр, хризантем и примул. В таких случаях женщины, подобное Анне Ивановне, – неоценимые помощницы. Возле Андрея, молодого капитана, справа от него, стояла его молодая жена. Элегантная молодая женщина. И красивая тоже. Ее глаза вобрали в себя весну и лето. Неплохо выискал, сынок. Когда ищешь себе жену, надо обладать больше чем просто вкусом. Молодая женщина держала за руку девочку. Маленькую. В толстой кроличьей шубке. Лет примерно трех. Ручки запрятаны в муфту. Она не подала ему руки. Она критически, оценивающе глядела на него большими, карими глазами. Родители дали ей имя Люба, потому что у нее такие глаза. Любины. Хельригель уже знал и про девочку и про то, как ее зовут. По дороге из аэропорта в город Анна Ивановна говорила про ребенка. И в честь кого у нее имя. Девочка своевольная. Наделенная порой каким-то шестым чувством. Но Хельригель не предполагал встретить ее здесь. Он видел, что она смотрит на него оценивающим взглядом, и сумел достойно встретить этот взгляд. Девочка отвела глаза, как заговорщица. В эту минуту Хельригель считал вполне естественным, что статус деда ему приходится делить с другим человеком, не знакомым ни ему, ни ребенку. С человеком по фамилии Гаврюшин. Считал вполне естественным чувство внутреннего родства с этим человеком. Знал он также, что родители девочки, Андрей и его элегантная, красивая, эмоциональная молодая жена, в этом великом молчании внимательно проследили за изъявлением чувств, которым он обменялся с девочкой. И стоявшая рядом Гитта тоже все видела. Видишь, Гитта, это тоже называется: общественные науки.
Из трех кондратьевских сыновей пришли только два младших. Хирург и актер. Женщина, стоявшая между ними, была женой врача. Тоже врач. Вид у нее был очень утомленный. Эту неделю она дежурит ночью. У нее двое детей, один лежит дома с простудой. Он знал про всех. От Анны Ивановны. А младшего, актера, он уже видел у себя в номере. На экране телевизора, по второй программе. В роли молодого белогвардейского офицера, который перешел к красным. Он выглядит точно так, как мог бы выглядеть Игорь, ну, тот самый, с лихими усиками. А как по-твоему, Гитта?
Только про женщину в кресле-каталке и про мужчину, который толкал ее кресло, он ничего не знал. Жизнь записала на лице этой женщины немало истин, которые он не мог прочитать. И на лице мужчины тоже. Он невольно замедлил шаг, приближаясь к этим двоим. Женщина в кресле заметила его нерешительную походку и нарушила обет молчания словами:
– Ну, идите же сюда. Хватит прятаться. Один раз вы уже прятались от меня. Меня звать Ирина, если только это имя вам о чем-нибудь говорит.
И крепко пожала протянутую руку. Тогда, в лощине, Люба криком звала ее. Мужчина за креслом не обратил внимания на протянутую руку.
– Мой муж, – представила Ирина, – был одним из наших механиков.
Мужчина, так и не пожелавший обменяться с ним рукопожатием, вдруг непроизвольно чихнул, после чего с неподобающей громкостью высморкался в свой носовой платок.







