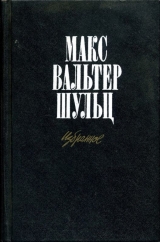
Текст книги "Летчица, или конец тайной легенды (Повесть)"
Автор книги: Макс Шульц
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Макс Вальтер Шульц
ЛЕТЧИЦА, ИЛИ КОНЕЦ ТАЙНОЙ ЛЕГЕНДЫ
Повесть
– Скажи мне, торговка, отчего у тебя такие странные рыбы?
– Ах, мадамочка, вы попробуйте сами нагишом в мороз полежать на столе – тоже, небось, скрючитесь.
И напротив, то, о чем будет
поведано ниже, – история одной любви.

ПРОЛОГ
Жил-был один такой – жил-был один никакой.
– Ах ты, мужичок, мужичок! Ведь надо же такое выдумать! Случилось это с ним десять лет назад, за те несколько дней и ночей, когда он был и такой, и никакой. Рыба – не рыба, мясо – не мясо, замечательный муж для женщины, которой и в природе-то нет, – сказала Гитта.
Тогда, десять лет назад, Бенно Хельригель счел своим долгом, сообразно с обстоятельствами и чистосердечно, поведать своей молодой жене одну историю, историю, которая вполне годится для того, чтобы сойти с ней в гроб. Тогда, десять лет назад, его молодая жена Гитта потребовала, чтобы он поставил точку, завершающую, так сказать, точку в старинной, романтически грустной истории с летчицей, с красивой, своенравной, милой девушкой по имени Люба. Он прожил эту историю, он пережил ее, и хватит. Война и ее лирические стороны. Спятил ты, что ли? Тебе это не подобает, уж кому-кому, а тебе как немцу – не подобает. Да и твоя красивая, своенравная, пожалуй, уже водит внучат есть мороженое, пломбир. Может, она уже по третьему разу вышла замуж, может, и вообще умерла. Да мало ли что может случиться за тридцать лет.
Он еще, помнится, сидел на краю ее постели, отринув настоящее в сердце своем. Значит, жил-был один такой…
«Ах, Бенно, Бенно, я все помню… Как ты выглядишь, сколько блеска в твоих голубых глазах, на твоем побелевшем, словно металл, носу. И не я тому причиной, нет, не я, не я. Вот оно как. Человек хранит то, к чему прикипел сердцем. Будь это даже прошлогодний снег».
Помнится, эти слова глубоко его оскорбили. А когда он начал лелеять и холить глубокую обиду, нанесенную ему, в свою очередь оскорбившему ее любовь, молодая жена от него сбежала, просто-напросто взяла и сбежала. Раз – и нет ее. Боже милосердный… Ушла и не оглянулась.
Все правда. Он хотел поставить точку в конце старой истории. Да-да, хотел. От всей души. Только при этом он не понял – и не понимает до сих пор, – какое потребно высокое искусство, чтобы поставить точку под тем, что еще не Подошло к концу.
– Эх, мужичок, мужичок! Зря вы так, – говорит фрау Герта Хебелаут, в девичестве Кадрайя, родом из Пилликоппена, что в бывшей Восточной Пруссии. Говорит как соседка, как приходящая домработница и вообще как добрая душа. Говорит всякий раз, когда он погружается в безмолвные воспоминания, и, кривя душой, ставит точку в конце фразы о том, что никакого отношения к прежнему это не имеет.
Но если здесь ни при чем прежнее, вплоть до тех страшных времен, когда на земле бушевала война, с чего же все пошло наперекосяк? – спрашивает добрая душа Герта.
И он в ответ ни слова.
Оно и верно. Гитта была слишком горяча для зрелого мужчины. Нет, говорит он, не в ней причина, это судьба виновата. Он все берет на себя. Господи, какой это изрядный груз, то, что он зовет судьбой и взваливает на себя. С таким грузом не пролезешь ни через одну дверь. Даже если дверь стоит нараспашку. А годы уходят…
I
ОСЕЛ СРЕДИ НОЧИ ВЗЫВАЛ К СОЛНЦУ
Итак, в ночь на 20 января, десять лет спустя после той злосчастной исповеди судьба и впрямь поставила точку, самую настоящую точку под старой, сумбурной и более чем сомнительной историей. Хельригелю предстоит сегодня узнать об этом, словно бы с того света. Он забудет про завтрак и испытает мучительную растерянность, более мучительную, чем раньше.
Колея ведет в долину. От землечерпалок на склонах рудника извилистыми дорожками вниз, к подножью. Он нагружает четырнадцать вагонов вскрышной породой – четырнадцать раз по двадцать пять тонн тянет электровоз. Эка невидаль! Для Хельригеля самое обычное дело, целых десять лет как самое обычное. У подножья груз опрокидывается, чтобы заполнить котлован. Но это уже делают другие. А его дело после разгрузки тянуть свой состав вверх, потом, нагрузившись, снова толкать его вниз. И ни капли не скучно. В электровозе ты сам себе хозяин. Машинист, смазчик, следопыт. Тут не заскучаешь. Иногда возишь вскрышную породу, иногда – уголь. Породу к подножию или к отвалу. Уголь – на электростанцию или брикетную фабрику. Как велит диспетчер. Ты подчиняешься главному диспетчеру, а главный диспетчер – тебе. В рабочей дружине он подчиняется тебе. По справедливости. От этого в конечном итоге все и зависит. Хельригель говорит, что работа ему по душе. У него редко когда сойдет с рельсов вагон. А как он ведет свой состав по крутой либо извилистой колее – это уже само по себе искусство. И медалей у него хватает.
Итак, сегодня он возит вскрышку, смена утренняя. Без малого половина девятого. После разгрузки будет завтракать. Январское утро, серое и ленивое, садится на изрытую землю как мучнистая роса. В зернистом снегу зияют закопченные провалы. Сырой, холодный воздух и выбросы смолокурни липнут к лобовому стеклу. Бегают по стеклу дворники. Пахнет серой и беспросветностью. Бенно Хельригелю не доведется сегодня позавтракать. Сегодня не доведется. Но теперь, когда на часах без малого половина девятого, он еще этого знать не может. Теперь он едет вниз, в долину, нагрузка на оси составляет триста пятьдесят тонн, едет и не знает, чем бы это ему защититься от беспросветности сумрачного дня. И малинник еще зашуршит ветками, и ящерки еще будут выплясывать вокруг пригретых солнцем камней. Когда на душе тоска, очень рекомендуется подумать о чем-нибудь эдаком. Думать – и быть в ладах с природой.
У нижнего блокпоста путь закрыт. Хельригель чертыхается. Никак, дежурный кемарит? Состав, который сбрасывал груз перед ним, уже встречался ему, когда шел обратно. Ничего не поделаешь. Сигнал есть сигнал. Нажать на тормоза. Не все тормозные колодки работают синхронно. Кольца резко и звонко бьются друг о друга. Лязгнули тарелки, поезд словно споткнулся. Иначе не получилось. Какой-то человек выходит из будки, поближе к рельсам, застывает. Темное пальто, поверх пальто – опояска, шапка меховая, сапоги. Видно, кто-нибудь из заводского начальства хочет, чтобы его прихватили. Поезд останавливается. Лесенка оказывается как раз рядом с ожидающим. Хельригель поднимает окно:
– В чем дело? Мозоли донимают?
– Срочная телеграмма. Издалека, – отвечает этот человек.
Почтовое отделение в Гросгерене, точнее, некая фрау Хебелаут, приняв телеграмму, сразу передала ее текст по телефону на комбинат. Она сочла, что содержание требует поспешности, и на комбинате с ней согласились. Дирекция готова оказать содействие, предоставить немедленный отпуск, хоть оплаченный, хоть за свой счет, помочь с улаживанием необходимых формальностей. Хельригель перегибается из своей кабины и берет заклеенный конверт с фирменным знаком комбината. У него язык отнимается, когда он видит, что чрезвычайный и полномочный посланник прикладывает к шапке два пальца, по-военному разворачивается и уходит в блокпост. Выпрямляясь, Бенно видит Макса, диспетчера с блокпоста, тот стоит наверху у окна и наблюдает за происходящим со спокойным участием. Но, встретив растерянный взгляд Хельригеля, Макс спешит отпрянуть назад. А посланника он наверняка попотчует своим коронным изречением: «Такова жизнь. Беда одна не приходит. Лучше сядь верхом на свинью и ускачи подальше». Хельригель уже не сомневается, что в руках у него конверт с сообщением о печальном известии. Слишком откровенно проявляют коллеги робкую участливость. Обычную, если кто-то умер. И значит, речь может идти только о Гитте. Телеграмма пришла издалека. Гитта, его бывшая жена, – единственная, кто у него есть вдалеке… Гитта погибла в катастрофе… Четыре года назад она уехала в Советский Союз как корреспондент радио в Москве… О чем всегда мечтала. В марте как раз истекли бы четыре года. И она вернулась бы. Ее уже ждало новое место в Берлине… Прошлым летом она ни с того ни с сего объявилась в Гросгерене, просто так, поболтать за чашечкой кофе. Первый раз после развода. Найти себе другого за это время она так и не сумела. Друзей – да, время от времени и кого-нибудь для постели. Но насчет любви – ничегошеньки. Она была такая веселая, такая оживленная. В этом было даже что-то нарочитое… Она привезла в подарок медный котел, крестьянский, старинный, который ставят прямо в огонь… Приготовила чай в кухне, на газу, чтобы пить в саду. На садовом столе красовался медный котел, закоптившийся, от пламени. А стол переставили туда, где растет наперстянка. Она высоченная вымахала прошлым летом. Доходила Гитте до груди… Потом Гитта пожелала нащелкать несколько снимков. Чтоб непременно получился «натюрморт»: стол, за которым сидит ее бывший, на столе – медный котел, а кругом – голубые побеги наперстянки. Пусть даже в Гитте не было в тот раз ничего бесчеловечного, что-то зловещее в ней все равно было… Она посулила прислать карточки. Карточки не пришли. А пришло вот что. Последний привет. Наверное, с места работы… Других родственников у нее не было… Родственников… Стрелочник видит, что у машиниста просто духу не хватает распечатать конверт. Надо что-то предпринять. И он дает зеленый сигнал. Жизнь идет дальше, пустую породу надо вывезти. Возьми себя в руки, парень. Трогай! Гляди – не трогает. А вскрывает конверт и читает телеграмму. Ладно, закроем путь еще раз. Ненадолго. Посмотрим, как он это воспримет.
До сознания Хельригеля медленно доходит следующий текст: «Сегодня ночью скончалась Люба. После операции на легких. Ее брат генерал Кондратьев просит тебя быть на похоронах пятницу двадцать четвертого января 14.30 московскому времени. Кладбище Ново-Александровское. Просьба объясняется настойчивым желанием покойной. Мы с Любой тоже были дружны.
Ждем тебя четверг двадцать третьего, рейс 600, Интерфлюг, Аэропорт Шереметьево. Номер гостинице забронирован. Гитта».
Итак, Бенно тяжело воспринял известие. Уперся обеими руками в рычаг и уставился перед собой неподвижным взглядом. Того и гляди воздух просверлит. Господи! Не такая уж и страшная весть. Мы-то знаем, чего там написано, в телеграмме этой. Кто-то из знакомых помер. Даже и не родственник…
– Но генерал зовет на похороны, – говорит человек из дирекции. Да, любовь идет странными путями! А поезда все равно должны ходить. Путь свободен. Ты думаешь, все дело в генерале? Генерал тут сбоку припека. Я лично думаю: его бывшая. Вот где причина! В прошлом августе она наведалась в Гросгерен. Ни с того, ни с сего… Хельригель отпускает тормоза. Поезд приходит в движение. Она еще задержалась у калитки, Гитта, его летняя гостья. Делала вид, будто ни капли не смущена, значит, все-таки слегка смущалась. Уж я-то ее знаю. Спрашивала про медный грош на дне морском. Говорила, что порой размышляет об этой истории с летчицей. Кое-что ее взволновало. А кое-что представляется неправдоподобным. «Ну, вот, например, в лощине, когда ты думал, они и тебя прикончат, как лейтенанта, что ты им сказал? Когда ты думал: пойти следом – повиснуть рядом, что ты сказал, отчего убийцы так страшно захохотали?»
Этот странный вопрос больше рассердил его, чем удивил. Она ведь давным-давно выкинула из головы эту историю, как прошлогодний снег. Чего ради запоздало добавлять еще несколько хлопьев? Только когда она обиделась, а ему не хотелось, чтобы она ушла от него с обидой, он решил ее ублажить и повторил то, что в свое время сказал убийцам, отчего они так страшно захохотали.
За эту готовность она наградила его беглым поцелуем, чего он не мог понять все прошлое лето и всю осень.
И понял лишь теперь, когда поезд снова тронулся.
В Москве у Гитты Хельригель была казенная квартира: комната, кухня, ванна, туалет, маленькая прихожая – новый дом в новом районе на окраине города. Один из многих. Добираться сперва на метро, потом на автобусе. Довольно легко. А для Бенно она заказала номер в гостинице «Россия». Что и среди зимы очень непросто.
Кондратьев предлагал посодействовать, но она отказалась. Как и от его предложения взять на себя расходы Хельригеля в рублях. Бенно Хельригель будет ее гостем. В глубине души она подозревала, что и ее гостем он быть не захочет. И вообще ничьим. Он наменяет сколько надо денег и за все заплатит сам. Если вообще приедет. Лично она в этом не уверена. Вообще-то она предпочла бы, чтобы он приехал. И одновременно надеется, что он не приедет. Как же иначе. Он может думать, будто она его обманула. Довольно подлым образом. Сперва он изъявил готовность разделить с ней, своей женой, свое главное сокровище – воспоминание о Любе. Она это предложение отвергла, сочла оскорбительным, потом развелась с ним, чтобы уже после развода тайно присвоить то, от чего в свое время отказалась. Не очень красивая история, дорогая моя. Твой молниеносный визит прошлым летом, твой подарок, твои снимки в саду, важничанье – а про Любу ни звука. Как теперь угадать, давно ли ты с ней знакома. За пять минут люди не сближаются. Ты прав, Хельригель. Впрочем, где тебе понять. Это Люба настояла, чтобы ты ничего не узнал ни о нашей встрече, ни о нашей дружбе. Как-то раз она сказала, что ты понял бы ее и без слов. Чувством понял бы, естественным и безобманным, и медный котел она для тебя раздобыла. Мы только платили поровну, она и я. Так ей хотелось. Еще она сказала: проследи, догадается он или нет. Мы делали вид, будто мы с ней – две веселые колдуньи. Если он еще сохранил это естественное, безобманное чувство, он тебя разгадает. И тогда он скажет, Гитта, скажет он, такой медный котелок, именно такой могла мне подарить только Люба. И если он это скажет, это или что-нибудь похожее, тогда я освобождаю тебя от твоего слова, тогда можешь передать ему привет от меня. Но ты ничего не сказал, ты молчал как рыба. Только силился не глядеть на меня с немым укором. А знаешь, что сказала по этому поводу Люба? Состарился Хельригель, вот что она сказала. Может, ей хотелось, чтобы я возразила? Но я не стала возражать. И тогда она улыбнулась мудрой улыбкой. Временами она была невыносимо мудрой, объяснила мне, что меня побудило уйти от тебя. Я ей рассказала о той беседе в отделе кадров, что ты был вторым человеком в районном руководстве, что они хотели послать тебя в Москву, учиться, и что ты отказался. По личным причинам. Ты, мол, не из тех, кто в сорок один год согласится по новой протирать штаны за партой. И жена у тебя молодая, пятнадцатью годами моложе, ее тоже нельзя бросать одну на три года. Ты до того оконфузился, что даже не побоялся упомянуть дачный домик в Гросгерене и десять соток при нем. Люба испытала скорей ужас, чем разочарование. И только когда я сказала ей, что ты искренне боялся ехать в эту страну, где все, решительно все будет тебе напоминать о некой Любе, ее разочарование как рукой сняло. Она надела очки – она была дальнозоркая, подошла почти вплотную ко мне, прижала два пальца к моим губам и велела мне наконец помолчать. Неужели я – такая пресная особа, что не смогла бы при желании исцелить мужчину от подобных страхов? «Нет и еще раз нет, дорогая моя. Уж признайся, что ты так, самую малость гордилась этим приключением с некой Любой. Чем и объясняется моя симпатия к тебе. Но ты была молода и честолюбива, может даже слишком, тебе хотелось повидать свет. Не ты ли сама рассказывала мне, что он начал колебаться, когда ему сказали, что молодая жена в данном случае не составляет проблемы. Она сможет выехать вместе с ним либо приехать позднее. Она сможет и в Москве работать по профессии. Это все можно устроить. А потом, как ты говоришь, он снова сказал „нет“. Нет и нет, он-де не желает, чтобы его жена пользовалась какими-то привилегиями. Она еще делает первые шаги в своей профессии. И есть множество людей, которые больше заслуживают, чтоб их командировали за границу. И вот это, дорогая моя, именно это ты и не сумела ему простить. Хотя и сознавала, что с точки зрения этической он безусловно прав. Прав в этом вопросе. А во всем остальном-то как, скажи мне, Люба? Был ли он с точки зрения этики прав и во всем остальном? И сам по себе отказ от подобного предложения имеет какое-то отношение к партийной этике или не имеет?»
Люба жила не в центре, а на Ленинских горах. Подкрались вечерние сумерки. Вот как сейчас. Она подошла к окну, долго молча разглядывала силуэт города. А потом начала по-матерински обихаживать меня и потчевать блинами, чаем, айвовым джемом. Когда я рассказала ей, что после нашего развода у тебя был инфаркт, она ответила, что это вполне естественная реакция. И даже не стала спрашивать, ходила я к тебе в больницу или нет. Порой она бывала нестерпимо мудрой, эта Любовь Федоровна, наставник будущих учителей истории…
Надо бы позвонить ему. Сейчас он наверняка сидит дома в таком же подавленном состоянии, как сижу здесь я. Надо бы, но не могу. Не знаю, как начать, не знаю, чем кончить. Пусть сперва приедет. Поставим точку при свете дня. Благо перспектива есть.
У Гитты прямые каштановые волосы до плеч, она любит зачесывать их налево, прическа строгая и в то же время естественная; нерешительность Гитта терпеть не может. Моральную нерешительность она воспринимает как зуд в голове, ей кажется, будто в волосах у нее полно гнид. Столкнувшись с этим малоприятным чувством, Гитта предпринимает основательное расчесывание гребнем и щеткой; для нее это способ восстановить душевное равновесие, метод неподкупного самоконтроля; приступив к делу, Гитта перебрасывает налево всю свою роскошную каштановую гриву, а сама попутно разглядывает себя. Она в достаточной мере наделена тщеславием – как и свободна от него, – чтобы без самообольщения обнаружить на своем лице следы, которые за истекший период оставило на нем время. Те, которые можно отретушировать, и те, которые уже нельзя. Сегодня вечером, то есть вечером 20 января, она приходит к глубокомысленному выводу, что тридцать шесть лет – это не двадцать шесть. Да, я еще хотела рассказать, как два года назад, вот в этой самой квартире мы справляли мой день рождения.
Нас было двенадцать человек. Сплошь коллеги. Пять супружеских пар, Павел и я. Вполне интернациональная компания. Георгии Львович, ветеран, журналист, ученый, тоже присутствовал. Десять дней назад мы его похоронили. Мне хотелось молодо выглядеть, потому что Павел моложе меня. Я заплела красивую, толстую косу. Вот перед этим зеркалом. Все нашли, что мне это очень идет и что я выгляжу очень молодо. Павел сказал, что даже вызывающе красиво и вызывающе молодо. Я хотела сводить с ума, меня самое свели с ума. Мы пили, смеялись, потом начали рассказывать всякие истории. Так всегда бывает, когда собираются вместе супружеские пары. Георгий Львович вспоминал свою берлинскую пору, первые годы после войны. Другие рассказывали о своих поездках. Тут меня словно бы бес попутал – я надумала попотчевать гостей твоей историей. Потому, быть может, что в тот вечер я заплела косу. Люба, красивая, своенравная, ласковая девушка – она, помнится, тоже ходила с косой. Имен я не называла, я делала вид, будто история эта известна мне только с чужих слов, будто она наполовину правдива, а наполовину выдумана. И если они не умерли, так завершила я свой рассказ, то живут до сих пор. Когда гости разошлись, Георгий Львович отвел меня в сторонку. Девочка, сказал он, девочка, ты знаешь об этой истории куда больше, чем рассказала нам. Заставь себя открыть всю правду, запиши ее. У тебя в косу воткнуто перо, самый подходящий инструмент для такого дела. Вот что сказал мне Георгий Львович в тот вечер. И вообрази, я последовала его совету, я изложила одно, другое, третье на бумаге. Но лишь после того, как, к моему немалому изумлению, у меня объявилась настоящая Люба. Я показывала ей свои записи. И всякий раз ее очень многое не устраивало. Мало-помалу мне вообще расхотелось писать. Вдобавок и еще один человек отвел меня в сторонку в тот достопамятный вечер, человек, который вообще не хотел уходить, но был должен, человек, которому уже не раз доводилось покидать мою комнату лишь поутру. Павел, мой красивый, чернокудрый, молодой друг. Когда мы остались одни, Павел снял пиджак и сказал, что я вполне могла обойтись без этого тягомотного романса. А я ему на это сказала: дорогой Павел Сергеевич, надень-ка ты свой клетчатый пиджак и ступай куда подальше. Он и ушел, а я запустила пять пальцев в свою красивую, молодящую косу и растрепала ее. С того вечера он ни разу не снимал у меня пиджак. К сожалению, признаюсь честно. Но тебя это уже больше не касается, уважаемый товарищ Хельригель.
У тебя осталось одно только право – узнать, каким образом я вышла на Любу. Спустя три недели после упомянутого дня рождения в редакцию позвонили. Очень энергичный мужской голос, с трудом сохранявший необходимую вежливость, потребовал, чтобы я на будущее воздержалась от распространения как этой легенды, так и всех, ей подобных. Мужчина, которому принадлежал этот энергичный голос, назвал себя лишь в конце короткого монолога: с вами говорил генерал Кондратьев. Желаю успехов в вашей дальнейшей работе. Трубка положена. Тут я во второй раз прокляла твою историю. И себя, глупую бабу. Но еще через три дня меня попросил к телефону какой-то женский голос. По домашнему номеру. Голос, я бы сказала, приветливый, иронически-сдержанный. Она Любовь Федоровна, сестра того сердитого генерала. И приглашает меня, если, конечно, я хочу, к себе. На чашку чая. Вот как мы с ней познакомились. Вполне логично, правда ведь.
Люба никогда не вводила меня в круг семьи. Брата ее, генерала, я сегодня увидела впервые. Еще до начала рабочего дня. Здесь, на этом самом месте. За пятнадцать минут он звонком предупредил меня о своем приходе. Дело касается его сестры. Я сразу поняла, что Люба не смогла перенести третью операцию на легких. И оказалась права. Кондратьев, принесший мне это известие, сохранял выправку и достоинство. Я предложила ему стул. Он не стал садиться. Снял фуражку с красным околышем и правую перчатку. Письмо Любы с пожеланием относительно тебя, Хельригеля, он изложил мне сухим, протокольным тоном. А когда он затем попросил меня сделать все для этого необходимое, его слова звучали так, будто он оставляет на мое усмотрение – извещать тебя или нет.
Не имеет смысла ложиться. Никакого смысла. Вести разговоры с человеком, которого здесь нет. Уж лучше чем-нибудь заняться. Вон сколько работы накопилось на письменном столе, кассеты, записи, наброски. Она взялась подготовить цикл коротких репортажей на тему: «Московские домовые комитеты. Люди, формы, направление деятельности». Первая часть – собрания жителей дома или микрорайона – уже готова. Здешние люди прямо высказывают свое мнение, без околичностей, они вполне владеют риторикой как заострения, так и затушевывания. Тому, кто председательствует на подобных собраниях, требуется, во-первых, толстая кожа, а во-вторых, добрая душа и достаточно знаний, чтобы разбираться в вопросах гражданского права. Но когда представители бытового обслуживания не справляются либо нечисты на руку, все эти качества не помогут. Тогда поможет только бюджет. Последняя фраза перечеркнута красным карандашом, а на полях приписано: общее место.
За ней числятся еще две части: первая – чистота и порядок, вторая – проблема свободного времени. Чистоту и порядок надо заменить чем-нибудь другим, более художественным. Гитта обращается за помощью к маленькому охотнику. Охотник стоит у нее на письменном столе. Бронзовая статуэтка. Размером со столовую ложку. Поставленную стоймя. Статуэтка изображает голого, кудрявого мальчугана. В правой руке мальчуган держит слегка занесенное копье. Рука изваяна в движении. Мальчуган собирался то ли метнуть копье, то ли колоть копьем, но не успел. Взгляд его устремлен туда, куда указывает наконечник копья. Над самой землей. А левая рука отведена назад в широком, зазывном жесте. И толчковая нога повторяет то же зазывное движение. Классическая робкая невинность детского лица уже дышит близким триумфом. На что он нацелился, этот маленький охотник и чем, судя по всему, вот-вот овладеет? Люба уже говорила: на русалочку, на ведьмочку или на дурочку. Всегда – одно и то же. Он не терзает себя раздумьями, этот мальчуган. Он живет, охотится, ловит. Он ведет честную игру. Но если потрепать его, маленького охотника, по курчавой головке, у него могут возникнуть неплохие мысли. И своими мыслями он одарит тебя. Ему, счастливчику, они не нужны, покамест не нужны. Когда уже было известно, что Любе третий раз надо ложиться на операцию, а Гитта еще ничего о том не знала, Люба подарила ей маленького охотника. С напутствием. Она, Люба, знакома с этим мальчиком так давно, почти всю жизнь, что у нее он уже начал повторяться. Самое время ему перейти в другие руки. И чтобы Гитта не благодарила. Добрые мысли ничего не стоят – ничего, кроме затраченных усилий, а требуют множества хлопот и работы.
Гитта решила, что понимает, чем походя одарила ее Люба. Куском собственной жизни. Понимает – но не до конца. А может, до конца ей и понимать не хотелось.
И вот теперь она задает мальчугану вопрос, треплет его по головке в надежде, что он подскажет ей новые, более свежие, образные слова взамен чистоты и порядка. Она глядит в широкое окно, перед которым стоит ее письменный стол. Видит белые стены, балконы, освещенные окна крупнопанельных домов, что стоят напротив, заснеженный зеленый газон. Между домами множество припаркованных машин, по-над крышами новых домов она видит, как махровое зимнее небо впитывает рассеянный свет двенадцатимиллионного города. Словно пар. Маленький охотник явно рассыпает свои мысли, не заботясь о том, годятся они или нет. Сейчас малыш дарит ей Любину историю про Лену, про Игоря и сердитую вахтершу по фамилии Беляева. Лена была школьной подружкой Любы. Люба рассказала ей историю специально для тебя, если желаешь знать. На то есть своя причина, есть второй вариант.
Беляева караулила большой дом, в котором проживало множество людей, и среди них красивая разбитная девушка Лена. Родители Лены надолго уехали. По служебным делам в далекую страну. И тотчас в квартиру просочился Игорь, честолюбивый оформитель Игорь с лихими усиками. Однажды вечером мимо уснувшей вахтерши тихой сапой – на шестой этаж, к Лениным дверям. Лена радовалась, что Игорь так здорово может проникать в дом и уходить обратно. Какое-то время все шло гладко. Но на самом деле Беляева вовсе не спала. Она уже давно заприметила это непристойное шмыгание и бдила, не смыкая глаз. Более того, она все записывала. День и час. От и до. Свои записи она приколотила на доску объявлений. Мол, читайте, почтенные граждане, читайте же. А сама, словно толстая паучиха, забралась в свои угол и, моргая, глядела оттуда, как почтенные граждане читали ее скандальное объявление. Одни качали головой, другие пожимали плечами, третьи хихикали, четвертые смеялись, пятые возмущались. Беляеву зло разбирало на большую часть почтенных граждан, а всего пуще злилась она на собственного старика, дедушку Вадима, который был в числе хихикающих. Вот ему она показала! Игорь теперь очень мило кланялся, когда приходил и когда уходил. Ровно в десять Беляева запирала входную дверь. Игорь уходил много позже. Но у него был ключ от входной двери. Гражданский брак. А барышне еще и восемнадцати нет. Каково глядеть на такую безнравственность порядочной женщине. От внутренних монологов такого рода Беляева даже охрипла.
Как-то ночью ее гнев перелился через край. А те двое наверху по-прежнему делали свое черное дело. И ожесточенная Беляева позвонила в милицию. Старика тоже растолкала, пусть будет понятым. Старик с невинным видом подтвердил, что хотя против любви и сенной лихорадки еще не найдено средство, но таких распутников и впрямь надо вывести на чистую воду. Беляева смысла его слов не поняла, но на всякий случай грубо его обругала. Пришел милиционер. С мрачным видом. Дрожащими руками открыла Беляева дверь в это гнездо порока. Поистине гнездо порока. Ни одной лампы. Ни единой. Лишь оплывала и капала в суповую миску толстая свеча. Но боже, какое ужасное зрелище! Мертвые, окостеневшие, лежали оба развратника на тахте. Над тахтой висел перевернутый плакат. На плакате печатными буквами: ЛЮБОВЬ – ПРЕКРАСНЫЙ ЯД. И чуть ниже: МЫ БОЛЬШЕ НЕ МОГЛИ ЖИТЬ ВМЕСТЕ С БЕЛЯЕВОЙ. Беляева в ужасе отпрянула назад и вцепилась в своего Вадима. Милиционер зачитал страшную надпись громким басом. После чего серебряной ложкой постучал по лбу мертвого Игоря. «Похоже на дерево», – сказал он. «Так я и знала», – сказала Беляева. А милиционер тем временем сорвал со стены плакат, подошел к обоим старикам, посветил фонариком и потребовал, чтобы они читали дальше, если, конечно, они вообще умеют читать. У Беляевой глаза полезли из орбит. А дедуля зачитал написанное пониже мелкими буквами: «…и поэтому решили завтра пожениться. Приглашаем вас всех на свадьбу. Лена, Игорь». Дедушка просто не знал, ругаться ему или хихикать. На всякий случай он прокашлялся. У старухи ум был менее подвижен: «Чертовы развратники», – бранилась она.
А на тахте, мучительно скорчившись, лежали два манекена в париках под Игоря и под Лену. Твою причастность ко второму варианту истории тебе, Бенно, надо бы держать про себя.
В этот вечер Гитта так и не нашла более подходящих слов, которыми можно бы заменить «порядок и чистоту». Немного спустя, после того как ее одурачил кудрявый охотник, зазвонил телефон. К ее великому удивлению это снова был Кондратьев. Не генерал. Просто Кондратьев. И почти никакой отчужденности в голосе. Он попросил разрешения еще раз заехать к ней с женой Анной Ивановной. Прямо сегодня. Тут возникла одна проблема. Очень непростая… Ну, конечно, товарищ генерал. Приезжайте вместе с Анной Ивановной.
Они приехали без цветов, Кондратьев в штатском костюме молча протянул руку, молча раздевался. Женщины увиделись впервые. Анна Ивановна тоже не говорила обычных любезностей. «Вы не против, если я буду называть вас просто Гиттой?» Этот вопрос Анна Ивановна задала только от своего имени, но не от имени мужа. Предложение заключить союз? Гитта знала, что по профессии Анна Ивановна – юрист. Физически крепкая, здоровая, несколько склонная к полноте, все еще привлекательная, причем у нее эти качества соединились с хотя и непринужденной, но строгой прямотой. Муж помог ей снять пальто. На Анне Ивановне был темный костюм, под ним – белая блузка. На ногах сапоги. Гитте даже подумалось, что эта женщина всю жизнь так и проходила в темном костюме и белой блузке.







