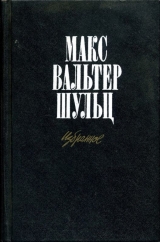
Текст книги "Летчица, или конец тайной легенды (Повесть)"
Автор книги: Макс Шульц
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Размышляя об этом впоследствии, я пришла к выводу, что чувство, которое вызывал у меня Хельригель, было высокомерием, чистейшим высокомерием, без зазрения совести. И при чем тут совесть, раз он немец. У него были густые рыжеватые волосы, а на лице отросла щетина еще рыжей, чем волосы на голове. В моей ситуации высокомерие было единственным подходящим чувством.
На этом месте Люба оборвала свое повествование и спросила свою слушательницу, какие чувства вызвал поначалу этот человек у нее, у Гитты. Гитта ответила, что познакомилась с ним, когда была на последнем курсе, а его назначили руководителем агитбригады. Семеро мужчин из районного комитета и с заводов, пять женщин. Все пять – из ее группы. В то время когда у нас встала проблема коллективизации сельского хозяйства и повсеместного образования сельхозкооперативов. Бригада провела три ночи в деревенской гостинице. Спали на соломе и тюфяках в большом зале. С одной стороны – мужчины, с другой – женщины. Посередине – стол. И дежурный, кто-нибудь из мужчин. Каждую ночь. На потолке :– тусклая лампочка, тоже горит всю ночь. Она ходила к крестьянам на пару с Хельригелем. Они всегда ходили по двое. Крестьянка средних лет его поддела, вот, мол, старому козлу захотелось с девкой побаловаться на сеновале, а она изволь из-за них вступать в кооператив. Ему было тогда тридцать семь, мне – двадцать два. Я больше за него обиделась, чем за себя. А он только засмеялся и сказал крестьянке, что просто у нее глаза завидущие. А в кооперативе к вечеру люди не будут так выбиваться из сил, как теперь на своем личном дворе. На следующую ночь я вдруг проснулась. Хельригель сидел за столом и что-то писал. Было его дежурство. И я размечталась, что хорошо бы подойти к нему, спросить, не хочет ли он есть или пить, подсесть, поговорить обо всем на свете. Вот какие чувства вызвал у нее этот человек в самом начале, – завершила Гитта свой рассказ. Люба вполне удовлетворилась ответом и продолжала о своем.
Кто-то осторожно приоткрыл дверь. Рыжеволосый сунул в открытую дверь голову. Я сказала, чтоб он убирался ко всем чертям. А этот идиот, представь себе, обрадовался, что я вообще заговорила. И протянул мне солдатскую манерку. «Вода, – сказал он, – чистая вода». В школе я три года проучила немецкий, и даже добровольно. Но в первый же день войны мы торжественно поклялись начисто забыть то немногое, что усвоили из фашистского языка. На веки веков. Но меня мучила жажда. Представление о чистой ключевой воде просочилось в заповедные уголки памяти. Я чуть приподняла голову. От восторга рыжий водонос сразу меня развязал. Он пришел без оружия. Что уже само по себе обязывало меня хотя бы к небольшой благодарности. Когда я быстро села, он хотел нагнуться за манеркой и мы столкнулись лбами. Думаю, ему было так же больно, как и мне. Но мы не стали потирать ушибленные места. И смеяться тоже не стали. Мы только тупо уставились друг на друга и в голове у каждого из нас гудело. Еще немного и я заорала бы на него, чтоб он не вел себя как идиот. Но в этом случае мне пришлось бы признать, что мы оба ведем себя как идиоты. Чего, разумеется, я сделать не могла. И пить я не сразу стала. Незачем ему знать, что я умираю от жажды. Но этот пентюх прекрасно меня понял. Он вылез и вообще скрылся из глаз. Я представила себе, как он сейчас стоит возле радиатора и трет ушибленное место. Я и сама делала то же самое, терла ушибленное место над бровью. После чего прижала к нему стеклышко наручных часов. Я не желала обзаводиться шишкой. Итак, первое общее чувство у меня и у него заключалось в том – Гитта, ты почему не слушаешь? – повторяю, заключалось в том, что у каждого из нас голова гудела от ушиба. А первый наш совместный поступок был таков: мы всячески скрывали друг от друга боль, которую испытывали.
Поверь слову, Бенно, еще никогда в жизни ты не распоряжался так свободно, как Люба, материалом вашей истории.
Люба продолжала свой рассказ. Вдруг перед ней возник лейтенант. Он стоял снаружи, между распахнутыми задними дверцами. Мне почему-то показалось, что у этого красавчика, у этого Нарцисса, открылись глаза, возникли сомнения в успехе его затеи. Почему-то он повесил нос. И снизу вверх поглядел на меня. Я встала. Он глядел как-то косо, с напускным смущением. И не мог не заметить котелок с чистой водой. И на котелок тоже косо поглядел. А рыжему резким, командным тоном отдал какой-то приказ. Его фашистский язык я не понимала. Он любезно попросил меня выйти из машины. Лучше бы мне не понять и его допотопный русский. Он вывел меня из полутьмы нависших ветвей, которые надежно укрыли машину, и повел к центру лощины. Пока я не очутилась на свету. Под ногами у меня рос дикий ревень. Большие треугольные листья на жестких красноватых стеблях. И тут он сказал: «Прошу вас, мадам!» С того дня я больше ни разу не ела ревеня. Пришел рыжий, с мылом, полотенцем и котелком. Мыло лежало в алюминиевой мыльнице и пахло одеколоном. А потом произошло нечто для меня неожиданное. Владелец трех домов вдруг обратился в камердинера, который помогает барыне умываться. Он поднял котелок, чуть наклонил его и бережно выпустил из него струйку, великодушно дозволяя мне вымыть руки. Я выронила мыло. Я обернулась. За моей спиной вода лилась на ревень, скупо и равномерно. Пока вся не вылилась. Никто не проронил ни слова. За моей спиной все было тихо. В долине все было тихо. Откуда-то, из дальней дали до меня донесся какой-то гул. Гул моторов. Словно с отдаленного аэродрома. Я решила, что мне это только кажется. Я была готова ко всему. И мне стало стыдно от блеснувшей у меня надежды, что рыжий перехватит руку лейтенанта, если лейтенант надумает вытащить пистолет. Скажи мне, Гитта, что ж это за надежда такая, которой стыдишься? Противоречие, верно? Мне не хотелось умереть с таким вот противоречием в душе. А пришлось бы, надумай лейтенант в эту самую минуту вытащить пистолет. Он ведь действовал быстро, куда быстрей, чем другой. Но за моей спиной ничто не шелохнулось. Долгое время. Как долго? Пока я не перестала верить в какое-то дурацкое чудо, пока я не поняла, почему оба немца у меня за спиной не двигались. То, что показалось мне галлюцинацией – отдаленный гул моторов, – он ведь все приближался. В самом деле приближался, и не по небу. По земле. Гул танковых моторов. У самого устья лощины. Так близко, что проскочить это устье они уже просто не могли. И тогда я ушла. Сперва медленно, потом быстрей, потом припустила бегом, не оглядываясь…
«Это Ирина нас застукала», – сказал лейтенант. Он видел задействованные ею силы. Три танка Т-34 и три разбитых русских грузовика. У них явно есть наши координаты. Они взяли курс на лощину и, насколько я теперь могу слышать собственными ушами, строго выдерживают направление. Я слышал также, что танки остановились перед входом в лощину. «Конец мечтам». Мой лейтенант думал быстро. Устье лощины находилось за поворотом. С того места, где мы стояли, все равно ничего не было видно. Наш быстродум зажал под мышкой котелок. «При всех обстоятельствах человеку нужна лоханка для еды». И снова я увидел капли пота у него на лбу и на носу. Меня тоже охватил великий страх. Хотя одновременно я испытал облегчение, что все сложилось именно так, а не иначе. Я был рад за девушку. Поди знай, что еще могло взбрести в голову моему лейтенанту. В конце концов, своя рубашка к телу ближе. Мне чудилось, будто от входа в лощину доносился беспорядочный гогот. «Как, по-твоему, малыш, – спросил меня лейтенант, – может, стоит дематериализоваться? Пулю в лоб – и с концами». По-моему, такие вопросы задавать не положено. «Господин лейтенант, – сказал я, – лучше продолжайте жить, как Понтий Пилат. А я сдамся». Он собирался последовать моему примеру. Незамедлительно. Подняв руки с миской и с псалмом на устах «С молитвой мы идем вперед». Я сказал, что минута у нас в запасе все-таки есть, надо напоследок хорошенько набить брюхо. С максимальной скоростью. Наш замечательный дорожный рацион. Хлеб, мясо, сгущенка. Одному богу известно, доведется ли нам… Но лейтенант уже бежал. Назад, к перевозке. Там он выкинул из кабины сиденье. А в ящике под сиденьем лежали наши сокровища. Он выгреб оттуда консервные банки. Я не оговорился, выгреб, очень быстро. С такой скоростью маленькая собачонка роет землю передними лапами. И еще он от меня потребовал консервный нож. У меня перочинный нож был с открывалкой, но отдавать ему нож я не захотел. Я дал ему штопор. Он собирался набить живот сгущенкой, то есть получить максимальное количество калорий за минимальный срок. Мы слышали, как один из танков дал газ и медленно въехал в лощину. Лейтенант тем временем высасывал содержимое банки, а вторую держал наготове. А я загружал в себя куски мяса и набивал карманы ломтями хлеба.
В изгибе лощины показалась девушка. Куртка нараспашку, всклокоченные волосы, лицо залито слезами радости, сама от радости спотыкается и вообще плохо держится на ногах. Следом почти вплотную серая туша танка с опущенным стволом пушки, с красной звездой на башне. Гусеницы давят дикий ревень. Командир стоит во весь рост в открытом люке. Я еще увидел черный с утолщениями шлем русского танкиста. Увидел грубое красноватое лицо, наглую ухмылку. Увидел, как мой лейтенант вскочил и поднял руки, покуда я продолжал сидеть и все глотал, глотал. Я видел, как мой лейтенант снова опустил руки, оправил портупею и пружинистой походкой направился к остановившемуся танку с красной звездой на башне. Я видел, как мой стройный лейтенант вытянул для немецкого приветствия руку перед нагло ухмыляющимся командиром танка в черном русском шлеме, а потом четко отрапортовал. Я видел, как девушка молча, горестно взглянула на меня и слезы побежали у нее по щекам. И только после всего этого я увидел серебряно-черный блеск рыцарского креста в слегка раскрытой маскировочной куртке командира. Он явно не дослушал молодецкий рапорт моего стройного лейтенанта, потому что дальше я увидел, как лейтенант, весь побагровев, вдруг вынул из кармана брюк носовой платок и вытер им рот. Могу себе представить, что ему при этом было сказано. Утритесь сперва, боевой товарищ, а то у вас еще молоко на губах не обсохло. Или что-нибудь в этом духе. Сам командир наконец-то выбрался из люка, спрыгнул на землю и подошел ко мне. Лишь тут я догадался встать и принять уставную стойку. Мне было велено доложить: звание, имя, часть, почему вне части, но ответить я не мог. У меня рот был полный. Рядом с девушкой вдруг возник охранник. В синен форме и без знаков различия. Должно быть, из русских перебежчиков, полицай, одним словом. Я, услышал, как мне приказывают проглотить то, что у меня во рту. «Хорошенько проглотить – значит наполовину облегчиться». Типичные прусские шуточки. Отнюдь не враждебные.
Мой лейтенант подошел к пруссаку на расстояние трех шагов. Он попросил, чтобы тот, в свою очередь, сообщил свое звание и имя. Довольно жалким голосом. Командир для начала зажег цигарку, после чего довольно грубо ответил: «Капитан Кротке. Командир боевой группы Кротке. Согласно приказу фюрера». И добавил, что лейтенант с данной минуты поступает в его распоряжение. При словах «по приказу фюрера» лейтенант вскинул правую руку. А капитан небрежно приложил два пальца к валику своего черного шлема. Цигарка у него так и не раскурилась. Полицай подскочил и чиркнул зажигалкой. Эдакая самодельная громадина. Мой лейтенант тоже был готов услужливо подскочить с огоньком, но понял, что все равно будет вторым, и воздержался. Замешкался. Возможно, потому, что ему пришлось бы пустить в ход маленькую и элегантную дамскую зажигалку. Я тем временем был готов рапортовать. Лейтенант едва заметно подмигнул. Я доложил, что нам было приказано отыскать сбитый вражеский самолет, из-за чего мы и отстали от своей части, и при этом взяли в плен летчицу. А наша часть за это время была полностью уничтожена в ходе боевых действий. По выполнении приказа мы могли только издали наблюдать, как транспортируют в плен уцелевших. И господин лейтенант принял решение пробиваться с санитарной перевозкой на запад. Через мертвые зоны. Лейтенант все время кивал по ходу моего рассказа. Теперь спросили у него, как себя вела пленная. Лейтенант отвечал, что она предприняла несколько попыток к бегству. Он же, несмотря ни на что, обращался с ней, как с офицером, И в подтверждение своих слов указал на четырехугольное сооружение из жердей и одеял, на воздвигнутую мной «церковь». Лейтенант говорил громче обычного. Он наверняка рассчитывал, что полицай переведет девушке его слова. Но полицаи молчал как бревно. Один из грузовиков обогнул поворот и остановился позади танка. С него спрыгнуло шесть человек. Все в немецкой маскировочной форме и в черных русских шлемах. На крыше кабины был установлен легкий пулемет. За ним сидел седьмой. Капитан обратился к лейтенанту: «Так-так, господин лейтенант, – сказал он задумчиво, – значит, вы намерены пробиваться на запад? А вовсе не на север? Не в Латвию? Не в Швецию? Саша, а ну, приведи сюда эту бабу!»
Полицай толкнул девушку вперед. Те шестеро, что спрыгнули с грузовика, обступили свободным полукругом лейтенанта и капитана. Оружие – к бедру. Лишь теперь я увидел, что девушка прихрамывает и что гимнастерка у ней на груди разорвана. Портупеи под ватником у нее тоже больше не было. Мне доводилось читать листовки наших перебежчиков. Они призывали нас во имя Германии кончать войну. Если верить слухам, русские пускали таких предателей воевать против нас. У нас в тылу. В немецком обмундировании. Когда капитан так приветливо ко мне отнесся, я решил, что мы угодили в лапы команде перебежчиков. Команде, которая подбирает одиночек, чтобы доставить их в лагерь. Теперь я увидел, что они били девушку! Теперь я увидел, что на нас – а я стоял в двух шагах от лейтенанта – направлено шесть ружейных дул и один пулемет. Капитан спросил девушку, точно ли этот офицер – он указал на лейтенанта – сообщил ей, что намерен податься в Швецию. Да или нет. Полицай переводил. Девушка повела вокруг большими глазами. И не сказала ни да, ни нет. Лейтенант досадливо огрызался. Интересно, кому следует больше верить, немецкому ефрейтору с железным крестом второй степени, надежному, хранящему верность фюреру и рейху, немецкому солдату, или русской бабе с винтовкой. Затем мне приказали именем моей солдатской чести повторить или взять свои показания назад. Капитан предостерег меня. Ложно понятое товарищество, всякие такие штучки он чует за десять метров. Я стоял на своем. «К западу», – вот что всегда говорил мой лейтенант. О Швеции между нами и разговора не было. Тут мой лейтенант вообразил, что для него вся эта история кончилась благополучно. Он утер рукавом холодный пот с носа и со лба. Но вот то, что он сделал потом, ему делать никак не следовало. Он подбоченился и закричал на девушку. По-русски. Так, словно рот хотел себе разорвать. Полицай то ли не сумел это перевести, то ли не захотел. Матерщина, может быть. «Ишь ты, славянская душа выпускает пар», – сказал капитан Кротке. И поскольку лейтенант продолжал драть глотку, капитан ткнул его пальцем в грудь: «Еще несколько вопросов, господин фон Бакштерн. Во-первых, почему вы отстроили для этой суки, как вы изволили выразиться, сортир по первому разряду? Во-вторых, почему при приближении, как вы полагали, противника, вы просто дали вашей пленнице возможность убежать, сами же без боя, омерзительно чавкая, трусливо покорились своей предполагаемой судьбе? И в-третьих, известен ли вам приказ фюрера о том, как следует поступать с трусами, дезертирами и прочим сбродом?» Лейтенант молчал. Он обвел взглядом лица шестерых, что стояли вокруг нас, изготовясь для стрельбы с бедра, поглядел в лицо пулеметчику на грузовике. Я увидел, что пулеметчик направил дуло своего пулемета прямо в грудь лейтенанту.
Еще я вспомнил, как отец мне не раз говорил, что изобьет меня до полусмерти. И ничего подобного не делал. Но уж разжаловать они его наверняка разжалуют, подумал я. А потом он им снова понадобится. Он поглядел и на меня. Потом на девушку. Потом опять на меня. «Дурацкая судьба», – сказал он мне. А на капитана глядеть не стал. Капитан расплющил свою цигарку между большим и указательным пальцами. «Я, кажется, задал вам вопрос, господин фон Бакштерн», – сказал капитан резким отрывистым голосом. Только тут лейтенант поднял на него глаза, словно размышляя, стоит взять его к себе кучером либо конюхом или лучше не надо. «Кротке, – протянул лейтенант, – Кротке… да такого просто не замечать – и то много чести».
И тут капитан швырнул на землю свою цигарку. Когда он приподнял носок сапога, чтобы растереть окурок, из пулеметного дула сверкнул огонь. Я видел, как огонь сбил с ног лейтенанта, как лейтенант упал. Ничком. И только двигал одной рукой – пальцы подтянули банку со сгущенкой.
Увидев это, я подумал, что они скорей всего стреляли холостыми патронами. Но скрюченные пальцы вцепились в песчаную почву и застыли. И китель у него пониже лопаток весь разлетелся в клочья. Выходные отверстия. Я поглядел на свой перочинный ножик. Лезвие все еще торчало из открытой банки консервов. Я подумал, что надо его непременно забрать. Он на все годится. Не то другие будут накалывать на него куски мяса, намазывать хлеб, подумал я. И тогда он исчезнет. Нет, мой ножик не для них. Не для них, которые все так же молча, с тупым равнодушием стоят полукругом, широко расставив ноги, безликие, готовые стрелять с бедра.
И не для того типа на грузовике. У пулемета. Для него и подавно нет. Мой нож не для этой породы молчаливых, крепких, прожорливых… Но чтоб за это так, сразу… Я увидел, что теперь все стволы направлены на меня. И пулемет тоже. Я мог заглянуть сразу в семь маленьких черных дул… семь дыр, которые заставят меня умолкнуть навек. А я-то думал, что семь для меня счастливое число.
Капитан и полицай приблизились ко мне. Ну, сейчас капитан заведет беседу. Само собой. Но, оказывается, он пока не имел в виду меня. Он проследовал вместе с полицаем мимо. Он все еще имел в виду моего стройного, мертвого лейтенанта. У меня за спиной он продолжил неоконченную беседу с покойником. «Вот что значит истинный аристократ, – услышал я позади, – такой готов умереть во имя собственного ослоумия». А девушка, та стояла теперь сама по себе среди кустов дикого ревеня. Стояла и поглядывала в мою сторону. Бросала на меня взгляды. Глядела на меня. Мы глядели друг на друга. Мы следили друг за другом. Мы приглядывали друг за другом. Мы впервые заговорили друг с другом. Девушка глазами меня подбадривала: теперь твоя очередь. Потом моя очередь. Главное – не наложить со страху в штаны перед этими идиотами. Я, глазами же, спросил, правильно ли ее понял. Она четко ответила: слов нет, до чего правильно. Ее коротко стриженные волосы растрепались. Они вобрали в себя все солнце, которое пробилось теперь в лощину сквозь кусты. Кротке надумал помешать нам. Он стал передо мной, стал между нами. И мы потеряли друг друга из глаз. Я слышал, как полицай оттащил в сторону мертвого лейтенанта, а тем временем Кротке втиснулся между нами. Но помешать нам он уже не мог. Та капелька времени, которая была выделена на нашу долю, уже начала свое течение. Возникло что-то прекрасное.
Я еще никогда не испытывал ничего столь прекрасного. Постичь друг друга и одновременно понимать друг друга – это и впрямь прекрасно. От этого уходит страх. Это как тропинка, ведущая к солнцу.
Если у тебя все должно пройти через чувство, как горячая вода через фильтр для кофе, то, может быть, ты наконец сумеешь как-то освободиться от вашей истории.
Кротке продолжал ерничать на своем берлинском диалекте: «Я вот вам что хочу сказать, ефрейтор, преданный фюреру и рейху: ваш барин больше петь не будет. Это во-первых. А если бы вы его заложили, валяться бы вам на его месте с холодной задницей. Это во-вторых. У нас закладывать не принято. Снизу вверх не принято. А вот с барышней как нам быть? Может, вы чего присоветуете?»
Он пристально на меня уставился, и в глазах у него горело упоение властью. Я понимал, что он затеял со мной игру в кошки-мышки. А мышке не положено давать советы кошке. Но я уже вступил на тропинку. Мыши по таким не ходят. Хотя и тропинка к солнцу не может спасти от глупости. Поэтому мой ответ был достаточно глупым: «Господин капитан, отвечал я, мой отец частенько повторял: „Кто девушку ударит, тот каши с ней не сварит“». У Кротке на мгновение отнялся язык, потом он вдруг захохотал во всю глотку и так же во всю глотку довел до сведения своих людей присказку моего отца. Семеро его подручных тоже захохотали во всю глотку. В башенном люке – первый раз за все время – появился восьмой. С тем чтобы также ржать во всю глотку. Когда капитан резко, ни с того ни с сего, оборвал свой гогот, остальное его тоже оборвали, вдруг, ни с того ни с сего. Голова восьмого тотчас нырнула в люк.
Не услышал я лишь, как гогочет только что вернувшийся полицай, грузный парень, с тупым, жуликоватом лицом. И еще девушка, та прямо упрекнула меня взглядом. Разочарованным взглядом. Осуждающим. Она больше не глядела на меня. Она больше не обращала на меня никакого внимания. Она больше, не обращалась ко мне. А полицай двинулся к ней, чтобы снова ее караулить. В руке у него все еще была лопата. Капитан окликнул его: «Эй, Саша, мой палач, с этой мы что будем делать? Как по-твоему?» Полицай напустил себя важность: «Такие, господин капитан, бывают очень опасные». После чего капитан с присущей ему громогласностью затеял совет со своим народом. «Эй, ребятушки, заревел он, опасная у нас жизнь или нет?»
Мне и по сей день чудится, будто семеро его храбрецов плюс восьмой, который снова на короткое время вынырнул из башни, хором отвечали своему господину и повелителю: «Так точно, господин капитан, жизнь у нас опасная!» Капитан осмотрел меня. Нерешительно. Но злобно. Сейчас будет вынесен приговор. Я невольно вытянулся по струнке. А приговор гласил: «Если барышня вздумает капризничать, тогда наш ефрейтор – звать-то его как?..
– Ефрейтор Хельригель, господин капитан.
…Тогда нашего ефрейтора по имени Хельригель ждет печальная судьба. Надо же в конце концов разобраться, кто кого заглотит, то ли змея орла, то ли орел змею». Приговор завершался словами, что ношение оружия будет мне дозволено не раньше, чем они разберутся, что я собой представляю. А до тех пор мы оба, пленная и я, поступаем в распоряжение Саши. Для черной работы. Саши-палача. А Саша, чтоб мы знали, на дух не переносит три предмета: большевиков, водку и поэзию. «Да, да, и поэзию, – с каким-то намеком повторил капитан Кротке. После чего покинул меня, подозвал своих людей и вместе с ними пошел к перевозке. С ними же он профессионально обследовал машину, как ходовую часть, так и оснащение. Я же пока суд да дело, снова занялся тушенкой. Для чего повернулся спиной к Саше. И делал вид, будто доскребываю остатки. А на самом деле не мог проглотить ни кусочка. Эти остатки желе на стенках вызывали у меня тошноту. Но мне было важно спасти свой ножик. По возможности незаметно я опустил его в голенище, а банку досуха вытер пальцем. Правда, ни капитан, ни его свита не обращали на меня никакого внимания, но я все время чувствовал у себя на затылке пристальный взгляд Саши. Если чувствуешь, что кто-то следит за тобой, постарайся этому помешать. Я повернулся и точно так же вонзил глаза в Сашу. Но мой взгляд не застал его врасплох. Он сидел на плоском камне. Приняв нарочито скучающий вид. И рубил острием лопаты длинные стебли ревеня. Быстрыми ударами. Как повар – сечкой. Перед ногами девушки. Она не отступала ни на шаг. И не глядела ему на руки. Она снова поглядела на меня. Наконец-то, наконец-то снова поглядела на меня. Снова захотела поговорить со мной. И я понял: ты что же это натворил? Они ведь ржали, как жеребцы. Уж лучше бы ты молчал. И тогда бы для нас обоих все уже было позади. Она прикусила губу. И закрыла глаза. Так она сказала мне, что ей очень больно.
Дурацкая судьба, – еще успел мне сказать лейтенант. Что он имел в виду? Свою неудачу? Мое соучастие? Или меня самого, как непрошеного, нежеланного, глупого вершителя его судьбы? Потому что в его глазах я был и оставался тупым пролетарием? Я не находил ответа. Да и не важен он был сейчас, этот ответ. Главное, мы пока живы. Я ждал, когда она снова откроет глаза. Чтобы сообщить ей эту мысль. Самую главную. Не закрывай глаз. Если будем смотреть, значит, и жить будем. Она скривилась от боли.
Меня окликнули. Мне швырнули под ноги насос. Чтоб я накачал запаску. Давай, давай! Они с чего-то вдруг заторопились. У ребят накачивать колесо ручным насосом считалось вроде как наказанием. И человек должен был продемонстрировать свою силушку. Тут нельзя было ни перевести дух, ни остановиться, пока в камерах не окажется столько атмосфер, сколько нужно. Проверяющий оценивал работу, тыча в камеру носком сапога. Еще сегодня утром запаска была твердая, как железо. Я сам ее опробовал и вентиль тоже, а теперь гайка болталась свободно и покрышка спустила. Значит, они пожелали испытать мои бицепсы. Я взялся за дело. Вслух отсчитывал каждый толчок. Мы люди ученые. Без единого перерыва достиг отметки 222. Кротке потребовал качнуть, еще десять раз. Рукоятка не поддавалась. Кротке захотел доказать мне, что еще десять раз качнуть можно. Взялся за дело сам. Но только сбил воздушную трубку. Другой пнул протектор носком сапога. „Но максимуму“, – сказал этот другой. И оба молча отошли. Я в глубине души надеялся, что этот орангутан, этот Саша наблюдал мои атлетические упражнения и сделал нужные выводы. Завинчивая колпачок – а такое обычно делаешь не глядя, я заметил, что моего сооружения, моей „церкви“, больше не видать. Одеяла и жерди лежали на земле. А над засыпанной ямой возвышался холмик. Вот что я увидел. Но люди Кротке здесь были ни причем. Они ведь не отходили от перевозки. Выходит, этот амбал Саша уволок тело лейтенанта. Сбросил его в выгребную яму и присыпал землей… Моего мертвого стройного лейтенанта звали Фуле. В Фуле жил да был король… Черт подери всю поэзию… Черт подери войну.
Этому лейтенанту, фон Бакштерну, я никогда до конца не доверял. Я не раз прямо его ненавидел. Но то, как его лишили жизни, а потом сунули в землю, меня возмутило. И возмущает до сих пор. И печаль я ощущаю до сих пор. Ты говоришь, чтоб я не разводил сентиментальность. Ты говоришь, что, доведись ему выйти живым из войны, он и сегодня относился бы ко мне с тем же высокомерием. Ты говоришь, что, вспыхни война сегодня, он был бы в ней моим врагом, он бы хладнокровно стрелял в меня сам, либо приказывал стрелять другим. Может быть. А может, и не может быть. Вернувшись из плена, я очень старался отыскать его семью. Через службу розыска. И получил ответ. Изо всей семьи в живых осталась только его мать. В лечебнице. Душевнобольная. Неподалеку от Любека. К ответу было приложено разрешение от врача навестить ее. А официальное разрешение у нас я даже и спрашивать не стал. Не хотел отвечать на лишние вопросы, которые у нас могут задать. Женщина, которую я увидел, была, должно быть, когда-то очень хороша собой, но теперь духовно разрушена, хотя до сих пор тщательно следила за собой, была очень чистоплотна и тщательно соблюдала требования этикета. Меня она встретила как своего сына. Объяснения не помогали. И ради бога, не надо отрицать это потому лишь, что я погиб. Наконец-то я выбрался к ней, чтобы рассказать, как именно меня убили. Это ж надо, какая радость.
Врач сказал, чтобы я взял на себя эту роль, если только сумею. Я решил попытаться и потерпел неудачу. Я рассказал так, как ей было бы, на мой взгляд, приятно услышать. А она, эта безумная мать, выгнала меня, чтоб я пришел снова, когда перестану врать. „Ты не пал, мой мальчик, тебя убили в битве…“ Во время этого тягостного разговора или допроса – называйте как хотите – я понял, в чем главная нелепость нашей судьбы: в том, что никто на деле не может быть другим, чем он есть. Например, Хельригель не может быть другим, чем он есть. Например, Хельригель не может быть Бакштерном. Например, Бенно не может быть Гиттой. Например, Гитта не может быть Бенно. Ты смеешься. Тебя это забавляет. Но это действительно главная нелепость нашей судьбы. Порой мы и впрямь взываем из бездны: мы, мы, мы! Но когда наконец мы воззовем из бездны: ты! ты! ты! Когда, скажи, Гитта? Например, мы двое. Вдобавок два товарища по партии. Что-то тут заедает, вроде как старая пила. Вот с Любой все было по-другому. Мы просто были вынуждены не спускать глаз друг с друга. А у нас обоих, Гитта, у меня и у тебя, была свобода…
ЛЮБА РАССКАЗЫВАЛА ГИТТЕ: Думаю, ты можешь себе представить, как легко было у меня на душе, когда я думала, что бегу навстречу своим освободителям. Мне снова подарили жизнь. Уже несколько раз я призывала смерть-освободительницу. Я искала встречи с ней. Она уклонялась. Меня, пленную, привязали к носилкам. Со мной обращались как с ценным вещественным доказательством гуманного обращения. На случай, если побег лейтенанта не удастся. Метод дрессировки столь же наивный, сколь и жестокий. Этот смазливый немецкий лейтенант бог весть почему возомнил, будто он призван быть пастырем для заблудших душ. Прямо какая-то белогвардейщина. Мой отец и моя мать принимали участие в том, чтобы выгнать этих высокородных духовных пастырей ко всем чертям. И в этой борьбе оба сложили головы. А я, их родная дочь, должна была в случае надобности давать показания в пользу этого доисторического типа. Короче, ты можешь себе представить, что я им наговорила, пока думала, будто снова попала к своим.
Я замахала руками, я закричала, углядев колонну. Если бы они не увидели, как я машу руками, они, может, и проехали бы мимо нашей лощины. Но они увидели. Первый танк оторвался от колонны и попер на меня.
Какая музыка гусениц! За первым свернула вся колонна и остановилась на некотором расстоянии. Я вскарабкалась на наш танк. Я поцеловала красную звезду. После чего отрапортовала по всей форме. Командир колонны держался холодно. По-русски он говорил с украинским акцентом. Я не обиделась на холодность командира. Любой командир будет поначалу держаться холодно, когда на них в одиночку выйдет незнакомый им представитель Советской Армии, бежавший из плена, либо отбившийся от части. Стоя на площадке танка, а правую руку словно в знак клятвы положив на ствол пушки, я коротко и точно, как умела, доложила обо всем, что со мной произошло. И о той роли, которую уготовил мне немецкий лейтенант. О том, что он хотел использовать мою персону как своего рода запасной вариант, как подстраховку на тот случай, если потерпит неудачу затеянный им побег в Латвию либо в Швецию. Я сказала также, что при нас есть еще один солдат, который лишь с превеликой неохотой поддерживает замысел своего командира. Чувствуешь, Гитта, я от всей души замолвила словечко за нашего Хельригеля.







