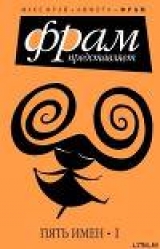
Текст книги "Пять имен. Часть 1"
Автор книги: Макс Фрай
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
– А вот фартуры![20]20
fartura – португальское «ярмарочное» лакомство – огромное колесо из жареного в масле теста, которое режут на кусочки и посыпают корицей и ванилью;
[Закрыть] Фартуры! Кому фартуры?! Горячие фартуры, шурры,[21]21
churro – «огурцы» из такого же жареного в масле теста. при помощи специальной палочки в них проделывают дырочку, которую заполняют шоколадом или вареньем;
[Закрыть] вафли!!! Кому фартуры?! Детка, – дородная торговка в грязном переднике перегибается через прилавок ярмарочного вагончика и манит Жоаниню пальцем, – тебе фартуру, шурру или вафлю?
Жоаниня оглядывается в поисках бабушки и обнаруживает ее у палатки с глиняной посудой. Дона Филомена, прямая и торжественная, как восклицательный знак, задумчиво крутит в руках расписную мисочку с надписью "Caldo verde".[22]22
caldo verde – португальский суп из вареной картошки, вареного лука и некоей травки, которая так и называется «caldo verde»;
[Закрыть]
Жоаниня снова поворачивается к киоску с фартурами.
– А… – нерешительно спрашивает она, – сколько…сколько стоит шурра? С шоколадом?
– Пятьдесят эшкудо.
Жоаниня засовывает руку в кармашек розового платья. Она уже купила себе свистульку в виде петушка, блюдечко с красивой надписью «Жоаниня» и специальной петелькой, чтобы вешать его на гвоздик, белую меховую овечку и зонтик для куклы Клементины, и от полученной с утра от Лурдеш прекрасной двухтысячной купюры осталось одно воспоминание.
– Один и один – будет два, – бормочет Жоаниня, двигая монетки по ладошке, – два и пять – семь, семь и десять и десять… Семь и десять и десять, это будет…
– Двадцать семь, – вмешивается торговка, ловко подхватывая колесо фартуры двумя деревянными лопатками и перенося его со огромной сковороды на поднос. – Посмотри, зайчик, в другом кармане. Наберешь еще столько же, и будет шурра.
– Эй, Ванесса! – внезапно вопит она. – Давай, доченька, скорее корицу и ваниль!!!
Щекастая девочка, на вид немного постарше Жоанини, в таком же, как у матери грязном переднике, встает на цыпочки и с важным видом посыпает фартуру корицей и ванильным сахаром из круглых коробочек с дырками.
Жоаниня послушно сует руку в другой карман, но находит только запасную пуговицу от платья и леденец от кашля.
Девочка в переднике отставляет коробочки с корицей и ванилью, берет с прилавка шурру с шоколадом и откусывает половину. Горячий шоколад течет у нее по пальцам, и девочка слизывает его острым красным языком, высокомерно поглядывая на Жоаниню.
Жоаниня подходит вплотную к прилавку.
– Полшурры без ничего, – твердо говорит она, стараясь не смотреть на девочку, и протягивает торговке свои монетки. – Сдачи не надо.
Торговка оглушительно хохочет.
– Полшурры без ничего!!! – повторяет она. – Сдачи не надо!!! Посмотрите только на нее! Маленькая, а деловая! Полшурры без ничего!!!
Жоаниня резко разворачивается и со всех ног бросается к бабушке. В спину ей несется басовитый хохот торговки и тоненький с привизгом смех щекастой девочки.
* * *
– А фартуры вы с бабушкой ели? – спрашивает Лурдеш, приколачивая гвоздик к двери Жоанининой комнаты. – Давай сюда твое блюдечко!
Жоаниня прячет блюдечко за спину.
– Я сама хочу повесить!
– Конечно, сама. Оп-па! – Лурдеш подхватывает дочь на руки и поднимает повыше. Сосредоточенно сопя, Жоаниня цепляет блюдечко на гвоздик.
– Красиво? – с сомнением спрашивает она.
– Очень! – Лурдеш слегка подкидывает Жоаниню, но тут же делает комично-несчастное лицо и поспешно ставит девочку на пол. – Ой-ой-ой, какая ты стала тяжеленная! Признавайся, сколько фартур вы с бабушкой слопали? Тридцать? Сто?
Жоаниня воинственно вздергивает подбородок.
– Я не ем дурацкие фартуры!
– Это почему? – удивляется Лурдеш, слегка поправляя криво висящее блюдечко.
– Они вредные, – гордо говорит Жоаниня. – Бабушка говорит, что в них эти…жиры… от них люди становятся толстыми и умирают от сердца. И от этого…который у тебя. Бабушка говорит, что ты, когда была маленькая, ела много фартур, поэтому теперь…мама? Мама, это мое блю…МААААААААААМААААААААА!!!!
"Ничего, – зло думает Лурдеш, промывая холодной водой неглубокие порезы. – Ничего, дорогая мамочка, я еще с тобой побеседую. Если ты думаешь, что сможешь испортить детство Жоанине точно так же, как ты испортила его мне…" – не закончив мысль, Лурдеш выключает воду, промокает руку салфеткой и заклеивает самый большой порез пластырем.
– Жоаниня! – зовет она. – Обувайся, солнышко, идем покупать тебе новое блюдечко, еще красивее! И шурр съедим. С шоколадом и ванилью!
Зареванная Жоаниня с недовольным видом застегивает белые сандалии.
– Сама ешь свои дурацкие шурры, – упрямо бормочет она себе под нос.
* * *
– Ну, Жоана, ну, прекрати же ты нервничать! – утомленно говорит Лурдеш. – Во-первых, сейчас ты все равно уже ничего не исправишь. А, во-вторых, даже если у тебя средний балл будет семнадцать, а не восемнадцать, ты всегда можешь поступить на сестринское дело,[23]23
в отличие от России, португальские медсестры заканчивают высшее, а не среднее учебное заведение. сестринское дело считается почти таким же престижным, как и собственно медицина, и поступить на сестринское дело довольно сложно. хотя, конечно, не так сложно, как на медицину.
[Закрыть] там принимают с шестнадцатью, я узнавала.
Жоаниня не отвечает. Она сидит на диване и нервно грызет ноготь большого пальца.
– И вынь палец изо рта. Ты уже до мяса догрызлась! – командует Лурдеш. – Жоана! Кому я сказала!
Жоаниня нехотя опускает руку и тут же начинает покусывать нижнюю губу.
– Не хочу я на сестринское дело, – наконец говорит она. – Я хочу на медицину. В Коимбре после третьего курса можно специализироваться по диетологии.
– Диетология, диетология, опять диетология, – ворчит Лурдеш. – Ты уверена, что это ты хочешь, а не бабушка?
Жоаниня непределенно пожимает плечами.
– Я ничего не имею против диетологии, – уклончиво говорит она. – А бабушка сказала, что оплатит мне весь курс.
– Ну, как знаешь, – говорит Лурдеш, с трудом выбираясь из кресла. – В любом случае, не психуй и не грызи ногти. Не поступишь сейчас, поступишь через год.
Лурдеш выходит из комнаты, шаркая по полу огромными разношенными тапками и тяжело опираясь на палку. Жоаниня с острой жалостью смотрит ей вслед и снова вцепляется зубами в ноготь большого пальца.
* * *
– Жоана, ты уверена, что хочешь закрыть бабушкин счет? – сеньор Нуну Лопеш с неодобрением качает головой. – Ты хорошо подумала?
Жоаниня молча кивает.
– Может, все таки, не станешь торопиться? Представь, что через год-два тебе захочется вернуться в университет и закончить курс. Знаешь, как тебе тогда пригодятся эти деньги? – сеньор Лопеш чувствует, что Жоаниню не переубедить, но с утра в банк заходила дона Лурдеш и попросила сеньора Лопеша побеседовать с Жоаниней. "Вы же старый друг, – сказала она, сморкаясь в бумажный платок. – Может, она хоть вас послушает?"
"Черт знаешь что, мало мне своих забот, – думает сеньор Лопеш, раздраженно постукивая по зубам ручкой с золотым пером. – Подумаешь, девчонка университет бросила на четвертом курсе. Все они сейчас бросают, никто не хочет учиться. А что счет обнуляет…забеременела, поди, поедет в Испанию аборт делать…"
– Ну, ладно, Жоана, – говорит сеньор Нуну Лопеш строгим голосом. – Я в твои дела вмешиваться не желаю. Ты – девочка взрослая, и… – сеньор Лопеш коротко хмыкает – привитая, сама должна знать, что делаешь.
Жоаниня снова кивает, встает со стула, улыбается сеньору Лопешу и выходит из кабинета.
"Наглая девица, – недовольно думает сеньор Лопеш, – сидела тут полчаса, и ни разу не открыла рта. Могла бы хотя бы попрощаться по-человечески…"
* * *
Жоаниня паркует новенький фургон на тротуаре у перекрестка. В шесть утра здесь пусто, как будто город еще не проснулся. Жоаниня поднимает боковую стенку, и фургон превращается в киоск. На видном месте висит лицензия в рамочке. Рядом с ней – обязательная жалобная книга, еще ни разу не разу не раскрытая, в целлофановой упаковке.
Жоаниня подключает генератор, снимает чехол с электроплитки, и наливает масло в огромную черную сковороду.
– А вот фартуры, кому фартуры! Горячие фартуры, шурры, вафли! – тихонько мурлычет она себе под нос, надевает накрахмаленный белый передник и начинает замешивать тесто.
"В первую очередь я наделаю шурр, – думает Жоаниня. – Начиню шоколадом и съем". Она представляет себе, как горячий шоколад щекотно поползет у нее по пальцам, и невольно облизывается.
Половинки– А все потому, что ты выбирать не умеешь, – сказала Инеш. – Если бы я так выбирала… – она поискала по карманам, выложила на столик несколько двадцатисентимовых монет и принялась складывать их в столбик. – Если бы я так выбирала, я бы… – столбик покачнулся и распался, и Инеш упала грудью на столик, пытаясь не дать монеткам раскатиться в разные стороны.
Изилда прихлопнула ладонью убегающую монетку и поболтала палочкой корицы в остывающем кофе.
– Не хватит тебе, – сказала она, пододвигая монетку к Инеш. – У тебя тут нет нет двух с половиной евро.
– Думаешь? – Инеш покопалась в сумочке и вытащила еще горсть двадцатисентимовиков. – Мне Паулу вчера десять евро разменял. Хожу теперь, бренчу… Дона Фатима!!! – внезапо заорала она. Изилда вздрогнула и пролила на стол немного кофе. – Дайте мне пачку «Португальских» голубых и зажигалку!
– Ну, что ты так кричишь? – пробормотала Изилда, промокая салфеткой коричневую лужицу. – Хоть бы предупреждала заранее, что ли…
– Зачем? – удивленно спросила Инеш, похлопала себя по карманам, и тут же завопила снова. – ДОНА ФАТИМА!!! Не надо зажигалку! Я уже свою нашла!
Изилда страдальчески поморщилась и сломала палочку корицы пополам. Иногда подруга отчаянно ее утомляла.
* * *
– Я вообще не понимаю, как ты можешь с ней жить, – недовольно сказала дона Консейсау, откупоривая пузырек темного стекла. По кухне пополз резкий запах каких-то трав. – Она – холодная, эгоистичная, самовлюбленная сука, а ты…
– Я не живу, – буркнул Жоау, с треском разворачивая фантик. – А Габриэла – не сука, – добавил он и быстро сунул конфету в рот.
– Сука, – непреклонно возразила дона Консейсау. – Раз!
Жоау нервно дернулся и проглотил конфету целиком.
– Ты чего? – спросил он, поднимая глаза на сестру.
– Лекарство, – лаконично ответила дона Консейсау, наклонив пузырек над маленьким стаканчиком. – Два, три, четыре, пять…
– Габриэла – не сука, – сказал Жоау и потянулся за следующей конфетой.
– Восемь! – угрожающе сказала дона Консейсау. – Девять, десять, одиннадцать…
– Она просто несчастный больной человек. Где ты берешь эти, с коньяком? Очень вкусные, мне такие ни разу не попадались.
– ПЯТНАДЦАТЬ! – крикнула дона Консейсау и торжествующе взмахнула пузырьком.
* * *
– Не нужны тебе мальчишки, – убежденно сказала Инеш. – Тебе нужен мужчина. Взрослый, образованный, с деньгами. Которого ты будешь уважать. Понимаешь? У-ва-жать! А не использовать в постели и не гонять по хозяйству, как прислугу.
Изилда покивала головой и заказала себе еще кофе.
– Только дайте мне, пожалуйста, ложечку, а не корицу, – попросила она.
– Ты меня не слушаешь, – укоризненно сказала Инеш. – Я вообще не понимаю, для чего ты тогда просишь совета, если ты меня не слушаешь?!
* * *
– Хорошо, хорошо, – сказал Жоау. – Габриэла – холодная, эгоистичная, самовлюбленная сука, а я – тряпка без капли самолюбия и позволяю садиться мне на шею, погонять и пришпоривать. Вот такой у тебя неудачный брат.
Дона Консейсау заплакала.
– Конечно, – сказала она сквозь слезы. – Это я виновата. Я была слишком авторитарной сестрой, и от этого у тебя все проблемы…
* * *
– Я знаю, кто тебе подойдет, – сказала Инеш, застегивая куртку.
Изилда вопросительно глянула на нее. Инеш сделала таинственное лицо.
– Погоди, сама увидишь, – мурлыкнула она, подставляя прохладную щеку для прощального поцелуя.
* * *
– Образованная? – строго спросила дона Консейсау и поправила очки.
– Очень, – горячо ответила Инеш. – Знает семь языков, пишет докторскую по филологии…
– Курит?
Инеш замялась, и дона Консейсау махнула рукой.
– Что творится с молодыми женщинами? – осуждающе сказала она. – Курят, пьют…
– Изилда не пьет! – обиженно сказала Инеш.
Дона Консейсау еще раз поправила очки и криво улыбнулась.
– Ну, хорошо, хорошо… приглашайте ее на наш рождественский обед, а там будет видно. Может, и впрямь что-то получится…
* * *
Изилда с тоской посмотрела на поднос. На нем уже стояла чашка, кофейник, вареное яйцо на фаянсовой подставочке, блюдце с двумя кусками подсушенного хлеба, вазочка с джемом, нож, масло… и все-таки чего-то не хватало.
Изилда зажмурилась и попыталась вспомнить, как выглядели завтраки, которые приносил ей в постель ее предыдущий мальчик. Вроде, все было на месте…
За спиной что-то зашипело.
Молоко! – вскрикнула Изилда, резко поворачиваясь к плите – как раз в ту секунду, когда белая пена хлынула через край кастрюльки.
* * *
Жоау поерзал, устраиваясь поудобнее.
Как Габриэле мог нравиться этот дурацкий ритуал? – мрачно подумал он. – Каждый день завтракать в постели. Это же с ума сойти!
Жоау чувствовал себя очень глупо и от этого страшно злился.
* * *
– Ну, как? – спросила Изилда, усаживаясь в ногах у Жоау.
– Переварено, – буркнул Жоау, ковырнув вареное яйцо. – И кофе остыл. И тосты.
Изилда с шипением втянула воздух сквозь намертво сжатые зубы.
– И салфетки ты не положила! – проговорил Жоау, раздражаясь. – Какого черта ты берешься делать завтрак, если не умеешь?!
Очень медленно, почти плавно, Изилда встала с кровати, взяла поднос, подошла к окну и вышвырнула поднос на улицу.
– Еще раз, – проговорила она скрежетнувшим от ненависти голосом, – еще раз ты позволишь себе разговаривать со мной таким тоном, и следующий поднос я сломаю о твою голову. Умеешь готовить и сервировать завтраки? Отлично. С завтрашнего дня это делаешь ты. А я буду сидеть в постели и критиковать.
Жоау издал странный звук – не то икнул, не то громко сглотнул, потом вдруг покраснел, кулем вывалился из кровати, подполз к ошеломленной Изилде и обнял ее колени.
– Я буду, – прошептал он. – Я буду делать завтраки. Все, что прикажешь.
Изилда улыбнулась и потрепала Жоау по голове.
– Конечно, – мягко сказала она. – Конечно, прикажу.
Мне снилось, что мы поженилисьМне снилось, что мы поженились и теперь живем вместе.
Мне снилось, что я проснулась и поняла – ну, вот, мы поженились.
Мне снилось, что я встала и пошла через комнату, старательно наступая на солнечные пятна, разбросанные по начищенному паркету.
Я шла и удивлялась – откуда в твоем доме паркет? И кто его так здорово чистит?
Мне снилось, что я выглянула в коридор, а там было сумрачно и прохладно, и я осторожно трогала пол босой ногой, как трогают воду, не решаясь в нее нырнуть.
Мне снилось, что я, наконец, решилась, набрала воздуха в грудь и побежала по коридору в гостиную, где ты пил кофе. Я знаю, что ты пил там кофе, я слышала, как стукнула чашечка об стол.
Мне снилось, что я вбежала к тебе, переводя дух, а ты лежал на диване и улыбался. А с пола точно такой же улыбкой мне улыбались собака и кошка. Кошка была твоя, я даже во сне не мыслила тебя без кошки. А собака – моя, черно-белый бордер-колли с глазами цвета жидкого меда, я всегда о такой мечтала.
Мне снилось, что ты старше, чем тогда, когда мы виделись в последний раз. Но я подумала – конечно, пять лет прошло, а ты уже не мальчик, ты и тогда уже не был мальчиком…
Мне снилось, что ты подвинулся на диване и сказал: «Падай сюда», и я послушно упала, думая, что теперь я, наверное, смогу и спать с тобой в одной постели, и ты не будешь больше говорить, что не хочешь меня будить своим храпом.
Мне снилось, что ты первый сказал: «А помнишь?», и я напряглась, не зная, о чем ты заговоришь, а ты сказал что-то совсем невинное: «А помнишь, я носил непромокаемую шляпу, и ты называла меня шампиньоном?», и я с облегчением засмеялась. Я боялась, что ты скажешь: «А помнишь, как ты исподтишка признавалась мне в любви?», потому что я помнила, и мне было стыдно за то, что каждый день, когда ты не видел, я гвоздиком выцарапывала на столе под клавиатурой «я люблю тебя», а сказать не решалась, боялась, что ты ответишь: «а я тебя нет, извини», и тогда мне придется уходить, потому что я не захочу, не смогу находиться рядом с тем, кто уже сказал, что не любит, а мне так хотелось думать, что у меня есть надежда.
Мне снилось, что я вспоминала, как мы оба не решались заговорить о серьезном, и когда серьезное подходило слишком близко, ты начинал шутить невпопад, а я громко и вымученно смеялась. Мы заклинали серьезное, и серьезное, напуганное нашим камланьем, отступало. Мы были хорошими шаманами – ты и я. Только ты потом мрачнел и замыкался, а я с остервенением царапала гвоздиком, сдвинув клавиатуру, «я люблю тебя, я люблю тебя», и каждый день эта надпись становилась глубже и глубже.
Мне снилось, что мы поженились, и я, лежа на диване рядом с тобой, искала торжествующим взглядом фотографию твоей бывшей жены. Я хотела показать язык ее острому носу, жесткому взгляду и тонким губам, сжатым в красную ниточку. Я хотела сплясать для нее раздражающий варварский танец с криками и неприличными жестами, но фотографии не было, и стена была белая-белая, даже дырочки от гвоздя не осталось.
Мне снилось, что в дверь позвонила Кристина со второго этажа, а мы ее не пустили, потому что мы поженились, и ты сказал, что нам никто не нужен, а я подумала: «Как странно. Впервые в жизни мне хочется пустить Кристину».
Мне снилось, что ты обнял меня и заглянул мне в глаза. А я отвела взгляд, и увернулась от поцелуя.
Мне снилось, что мы поженились, и ты, наконец, любишь меня и хочешь сделать меня счастливой. А я все так же остро несчастна.
Мне снилось, что мы поженились, и что я тебя больше не люблю.
Ольга Морозова
И зайчиха
Кот и плюшевая зайчихаОн же вот, понимаешь, он же так это делает, что просто смотришь и думаешь: боже мой. Ага, так вот прямо и думаешь. Потому что он делает такое лицо, господи, да, ну что ты меня поправляешь, морду, ну, делает же – значит, лицо. Он говорит без слов: гады, сволочи, муки мои неземные, движения души моей в профанацию превращать, что же вы мне подсунули, а. А потом, убедившись, что ты смотришь, оборачивается к ней и оглядывает ее всю, с деланным равнодушием, мол, ну-ну, и вот с этой, да? И к тебе снова: видишь, на какие жертвы идти приходится, видишь, как мучаюсь, как же ты можешь – с ней же мне предлагается жить долго и счастливо, любить ее нежно и страстно, а она же некрасивая, немилая, неграциозная, неинтересная, не-жи-ва-я, понимаешь ты или нет? А потом он вздыхает, мол, чего уж, ладно, а вдруг, ну не могу же я больше так, издает возглас, исполненный страданий, прижимает ее к полу и начинает процесс. Она легкая, поэтому они делают два-три круга по комнате, медленно, в полном молчании. Он сначала с отвращением как-то, а потом ничего, нежно, увлеченно – вроде так и надо. А потом все заканчивается. Он отупело слезает с нее, облизывается машинально и падает на бок. И лежит так минут пятнадцать, в полном обалдении. Потом уходит спать. А потом все начинается снова: мучения, вопли, взгляды вокруг, полные укора, интерес (а вдруг?), чувства, секс, обалдение, сон, пустота…
Вам это ничего не напоминает, нет?
Вот и мне нет, вот и мне.
Я знаю, как это будет«Угу», – скажет она и вопьется теплыми губами в рыжий кончик и станет втягивать его в рот, помогая себе зубами.
Я скажу ей громким шепотом: «Знаешь, ты такая красивая».
«Ага», – будет она жевать, хрустеть, перемалывать морковку белыми ровными резцами.
А я буду говорить: «Ты – самая лучшая, и ближе тебя никого для меня нет на свете».
«М-м-м», – невнятно пробормочет она, ловя падающую ботву, дожевывая последний кусочек.
А я стану рассказывать ей торопливо: «Я знаю, как это будет. Мы будем жить с тобой в чудном доме, в лесу, у озера, любоваться утром свежей листвой и пронзительно-желтым солнцем, а вечером станем купаться и слушать ветер».
«Мням», – доест она и ботву тоже и сыто погладит себя по брюшку.
И я скажу, но спокойно, чтобы она ничего не заметила: «Ты не думай, я буду хорошим зайцем, я буду любить тебя, зарабатывать буду деньги, покупать тебе серьги и морковь, какую захочешь».
А она ничего не скажет, только улыбнется и прислонится ко мне белым пушистым боком.
Или, может, я буду говорить, что брошу ее завтра же, что никогда не любил, что изменял ей двадцать четыре раза. Я придумаю, что сказать. Только буду держать ее лапы в своих, чтобы она не вырвалась, чтобы тихо, чтобы думала только об этом, но никуда, никуда не могла уйти.
Я прижму ее к земле, моя тень скроет ее от желтого июльского поля, мои лапы станут гладить ее по ушам, и я буду говорить – что угодно, чтобы только не слышала она, как идут по следу собаки, как трубят охотники, как плачет ветер.
И когда подойдет откуда-то с запада, раздвигая сухую траву костылем, белая выжженная Смерть, она так ничего и не поймет. Я знаю, как это будет.
На крыше– Послушай… – он сел, привалился к печной трубе и медленно расправил лапой левое ухо. – За что?..
– Ну-у-у, – протянул Трубочист и задумчиво почесал спину ершиком, – Наверное, не за глупые вопросы.
– Нет, правда! – он вскочил и, заложив лапы за спину, стал ходить по крыше. – Я действительно не понимаю. За что они так?.. Зачем я им нужен?
– Наверное… ты им нравишься, – невнятно проговорил Трубочист, экстатически водя ершиком по спине. – На вкус и цвет…
– Что? Что им нравится? Неужели эти белые уши? – оскальзываясь на ледяной крыше, он шагнул к Трубочисту и рванул себя за бледные меховые тряпочки, которые развернулись к солнцу и сразу же начали просвечивать розовым. – Эти… недоруки?
– Эй, прекрати! – Трубочист брезгливо отпихнул белые мягкие лапы и поудобнее уселся на трубе. – Если ты сегодня себе не нравишься, так и скажи. И нечего приплетать сюда людей.
– Тебе хорошо, – вздохнул Заяц и с ненавистью уставился на собственное отражение в ледяной лужице. – Ты себя любишь. Всегда. Я так не могу.
Он пнул свое отражение и начал рывками стаскивать с шеи розовый бант.
– А почему бы и нет? В конце концов, я мужчина в самом расцвете сил. – Трубочист улыбнулся и стал медленно переодевать твердые, блестящие раздвоенные носки: с правой ноги на левую, с левой – на правую.
Заяц всхлипывал, уткнувшись в надорванный розовый бант. Над крышами медленно вставало солнце.
* * *
– Ты не знаешь, это пройдет? – медленно спросил Заяц, разглядывая лапы. Бинты грязноватой кучкой лежали рядом.
– Должно… А где ты, собственно, умудрился? – Трубочист подошел поближе, бесцеремонно ухватил Зайца за лапу и повернул к свету. – Не морковку же ты чистил, в самом деле?
– Да нет… Я как-то даже и не помню. Сон плохой приснился. Просыпаюсь – а оно вот…
– Рассказывай.
– И с каких пор ты интересуешься моими снами? – Заяц попытался улыбнуться. Лапы у него мелко дрожали.
– С тех самых, – строго глянул на него Трубочист, усаживаясь поудобнее и доставая из кармана трубку.
– Ну, мне приснились люди, которые чего-то от меня хотели, а мне их было очень жалко… А потом они куда-то меня отволокли и привязали к столбу… Но привязали плохо, и я упал. Тогда они взяли длинные гвозди… О господи…
– А потом ты проснулся, а у тебя на дырки вот эти и кровь идет?
– Ну да… Я как-то даже и не думал…
– Вот и не начинай. Я думаю, что все гораздо проще.
– Да?.. И ты знаешь, что с этим делать?..
– Для начала скажи мне, когда ты последний раз был у психотерапевта?..
– Ну, я… в общем, завтра к нему собирался…
– Вот и иди.
– Думаешь, поможет?..
– Конечно. Это еще ничего… У моей бабушки год назад вообще истерическая дуга случилась. А ее, говорят, сейчас уже и не встретишь – не та пошла истерия, не та… Впрочем, бабушка еще и не то способна изобразить, чтобы я носки переодел. А тут – стигматы. Тоже мне… Психосоматика чистой воды. Так что расслабься. Можешь сфотографироваться, пока не исчезли. А то, может, оставим как есть? В журнал пошлем – «Паранормальные явления», бабушка очень любит. Будешь у нас сенсацией. Только про меня не забудь, когда знаменитым станешь. Ну, молчу, молчу…








