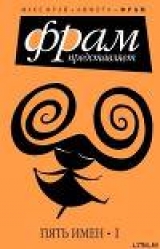
Текст книги "Пять имен. Часть 1"
Автор книги: Макс Фрай
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Убираю все с кухонного стола.
Сметаю крошки.
Долго и придирчиво разглядываю кусок прозрачной клеенки, служащий мне скатертью.
Протираю клеенку влажной губкой, затем насухо – бумажным полотенцем.
Кладу на стол прямоугольник белого картона.
«Иза Войт», – пишу я красным маркером на куске картона. Буквы неровные, зато крупные. Обвожу каждую по два раза. А потом еще раз – для верности.
Ставлю табличку в угол, прислонив к стене. Пятясь, отхожу на другой конец комнаты. Надпись буквально сочится красным, и прекрасно видна даже из коридора. Иза бы наверняка ее сразу увидела. Жаль, придется оставить табличку дома. Мне не хочется, чтобы кто-то знал, что я встречаю Изу.
Сегодня я первый раз еду в аэропорт. До этого мне казалось, что Иза приедет поездом, и я добрых два месяца встречала ее на центральном вокзале. Потом – на автобусной станции. Потом еще недели три – в порту. В порт я и сегодня заеду – на всякий случай и для очистки совести. Хотя зачем, если Иза прилетит на самолете?
Мне даже странно, что я столько времени не вспоминала о самолетах. Может быть потому, что сама я боюсь летать, и внутри себя была уверена, что Иза тоже боится. Но, с другой стороны, когда нужно – очень нужно, – я все-таки летаю. Почему бы и ей не летать? Пока я паркуюсь, пока изучаю таблицу прилетов, во мне крепнет уверенность, что именно сегодня, где-то между часом и пятью… нет, шестью… между часом и шестью, произойдет то, ради чего я живу. Я увижу Изу. А Иза увидит меня.
В без пяти шесть я допиваю восьмую за сегодня чашку кофе. Иза не прилетела, а мне пора идти, через тридцать пять минут мне в эфир. Или, к черту эфир? «Пассажир Рикардо Мартинес Диас, прибывший рейсом 589 из Мехико, пройдите, пожалуйста, к окошечку информации. Повторяю: пассажир Рикардо Мартинес Диас, прибывший рейсом 589 из Мехико, подойдите к окошечку информации, вас ожидает супруга»
Господи, да что же это со мной сегодня! Я уже сто раз могла дать объявление! «Пассажирка Иза Войт! Вас ожидают у стоянки такси» или «Госпожа Иза Войт! Подойдите, пожалуйста, к кафе на первом этаже».
Быстро расплачиваюсь за кофе. Девочка за кассой смотрит на меня со жгучим любопытством. «Простите, ради бога, – говорит она. – Ведь, правда же, вы – Иза Войт? Ток-шоу «Час с Изой»? Простите, вы не дадите мне автограф?»
* * *
– Не знаю, мне не нравится, – морщится Иза. – Какой-то надрыв нездоровый. Не фантастика, а шизофрения…
– Ну, одно другого не исключает. Кто сказал, что шизофреник не может быть героем фантастического рассказа?
– Я бы не стала… – Иза рассеянно хлопает рукой по бумагам на столе – ищет сигареты. Сигареты лежат прямо рядом с ее локтем, но я не подсказываю – пусть поищет. Иза делает неловкое движение и сваливает на пол стопку дисков. Ворча что-то про бардак, который я тут развела, лезет за ними под стол.
– Вот там и сиди! А я тут покурю пока, – показываю ей язык.
– Вредная, да? – хмыкает Иза. – Собираешься меня тут сгноить, ты, душительница свободы слова?! Ты не имеешь права на меня обижаться, я – твой соавтор, мне позволено все, даже критика.
Иза по одному подает мне диски, я делаю из них башню. Башня несовершенна – сверху явно нехватает мясной тефтельки.
– Эй, узница совести, у тебя есть мясная тефтелька?
– Обязательно, – говорит Иза из-под стола. – А еще – пять тысяч паровых машин, портрет очень одинокого петуха и неплохая идея, которую я тебе ни за что не выдам. Сама все напишу, опубликую и прославлюсь.
– Поделишься идеей, дам сигаретку, – вкрадчиво говорю я.
– Две сигареты, – торгуется Иза. – И еще одну потом – с кофе и коньяком. И одну прямо сюда, под стол, я тебе пятки прижигать буду.
Наши диалоги чудовищны, но они доставляют нам массу удовольствия. Нести часами всякую необременительную чушь, попивая кофе и покуривая то мой Житан, то Изин Кент – что может быть лучше?
– Выходи, смелая подстольщица, – говорю я. – Дело делать будем.
– Питьем запивать, – подхватывает Иза, выбирась из-под стола, – куревом закуривать. Вначале курево, потом дело!
Протягиваю ей сигарету и зажигалку. Иза закуривает. Выражение лица у нее как у ребенка, которому после категорического запрета на холодное неожиданно обломилась тройная порция мороженого, и он еще не вполне поверил своему счастью.
Щелкаю пальцами перед Изиным носом.
– Идею давай, а то опять под стол пойдешь!
– А, да! – Иза растерянно улыбается, как будто я ее разбудила. – Идея простая. Давай, напишем про человека, у которого НЕ было двойника!
* * *
Тони сидит на берегу Кванзы и бездумно кидает камешки в воду. Камушки говорят «бульк». Или «шлеп». Если кинуть правильно, будет шлеп-шлеп-шлеп-бульк. Или даже шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-бульк.
Тони не знает, почему «шлеп-шлеп» правильнее, чем «бульк». Но он точно знает, что все люди вокруг него – «шлеп-шлеп». И только он один – безнадежный «бульк», после которого сразу тишина.
Тони шесть лет. Он маленький, худой, очень темный. И очень, очень несчастный. Потому что всех всегда двое. И только он, Тони, всегда один.
– Почему? – спрашивает Тони у Мары.
– Так получилось, – обычно отвечает Мара.
– А где мой второй? – спрашивает Тони у Мариного второго, Лино.
– Этого никто не знает, – обычно отвечает Лино.
– Он потерялся? – спрашивает Тони. – Он заблудился? Заболел? Умер? Он меня ищет? Мне его вернут?
– Да, да! – отвечают Мара и Лино, и в их одинаковых голосах сквозит одинаковая фальшь. – Конечно, тебе его вернут. Только, наверное, не сейчас. Может быть, чуть-чуть позже.
Но Тони знает, что второго никогда не возвращают «чуть-чуть позже». Если со вторым что-то случается, его всегда возвращают немедленно. Вторая рыжей Марии, рыжая Рита, попала под машину и умерла. Тони сидел в кустах и видел, как ее сунули в зеленый мешок и увезли. А через два часа обе рыжие играли в классики у фонтана.
На днях вернули старого Герберта, второго старой Франсишки, свернувшего шею в ванной, а до того – ушастую Лизу, вторую ушастого Элдера, подавившуюся вишневой косточкой… И только его, Тониного, второго не возвращают. Поэтому Тони всегда один. Поэтому Тони сидит на берегу Кванзы и бездумно кидает камушки в воду. Шлеп-шлеп-бульк.
* * *
– А дальше? – спрашиваю я Изу.
– Ну… – Иза растерянно пожимает плечами, – опишем трагедию ребенка-экстраверта, растущего в абсолютно интравертном мире. Представь себе этот мир – у всех есть двойники. Не просто близнецы, а настоящие двойники, идеальные. Каждая пара зациклена только на себе, внутри пар одинаковые эмоции, одинаковые переживания, можно даже не разговаривать – твой двойник и так все понимает, потому что переживает то же самое…
– Эээээээ… Андрогины? Самодостаточные люди? А почему они у тебя то однополые, то разнополые?
– А тебе не все равно? – Иза кладет сигарету в выемку пепельницы, и я немедленно ее оттуда утаскиваю. Я уже и не помню, как у нас сложился этот ритуал, но мы всегда курим одну сигарету на двоих и пьем кофе из одной и той же чашки. – Они же все равно не размножаются… в привычном нам смысле, я имею в виду. Какого бы пола они ни были, пара – это всегда идеально сбалансированное единое существо.
– Ладно, – говорю я, – почти убедила. Стерильная цивилизация, самодостаточные пары, как только что-то случается с одним из двоих, его немедленно восстанавливают. Понятно. А что с ребенком Тони? Где его второй?
– А ребенок Тони у нас подкидыш, – Иза отнимает у меня недокуренную сигарету и затягивается. – Его нашли…
– В капусте!
Иза давится дымом.
* * *
– Почему мне не возвращают второго?! – наскакивает Тони на Мару. – Почему всем возвращают, а мне нет?! Почему?!!
Мара беспомощно смотрит на Лино. Лино пожимает плечами.
– Видишь ли, Тоник, – осторожно говорит Мара, – так получилось, что у тебя нет второго.
– А где он? – спрашивает Тони
– Нигде нет, – вступает Лино. – У тебя с самого начала его не было. Ты уже большой мальчик, знаешь, откуда берутся дети…
Тони кивает. Мара пару раз водила его на детфабрику, показывала двойные пробирки, в которых развиваются пары зародышей.
– Молодец, – Лино гладит Тони по курчавой шевелюре. Мара прерывисто вздыхает и отворачивается. – Так получилось, что ты к нам попал не с детфабрики. Тебя…ну…принесли. Одного.
– Кто принес?
– Не знаем, Тоник, – отвечает Мара. – Мы вышли утром, а ты лежишь у почтового ящика, как посылка. Маленький совсем. И плачешь. Мы тебя и взяли…
– Маленький вот такой? – Тони разводит большой и указательный пальцы.
– Побольше, – смеется Мара. – Вот такой! – и показывает руками расстояние сантиметров в пятьдесят.
Тони смотрит на нее и пытается представить себе – как это, такой маленький и один? Так не бывает. Пары разъединяют, как только дети начинают ходить. Это ему рассказали на детфабрике, когда он спросил, почему зародыши в двойных пробирках связаны между собой какой-то трубочкой. Выходит, Мара и Лино говорят правду – у него никогда не было никакого второго. Тони смотрит на Мару и Лино – они улыбаются друг другу. Они вместе. А он, Тони, по отдельности.
Час спустя Тони опять сидит на берегу Кванзы и кидает в воду камешки. Правда, теперь он тоже улыбается. Он только что обнаружил, что сколько бы камешек ни шлепал по воде, последнее слово всегда за «бульк», и это доставляет Тони какое-то щекочущее удовольствие.
«Я вам еще покажу! Я вам всем покажу», – думает он, отправляя в полет новый снаряд.
* * *
– Подожди, подожди, – говорит Иза. – Тебя куда-то не туда понесло, ты что делаешь из мальчишки?
– Понятия не имею, – отвечаю я. – Мстителя-разрушителя, маньяка-одиночку, судя по всему. А что из него еще может вырасти в такой ситуации?
– Глупости какие! – сердится Иза. – Его можно отправить в путешествие в поисках второго, он может выдумать себе невидимого второго, он может подрасти и встретить его… мало ли вариантов?!
– Не знаю, – говорю я. – Мне не нравится идея. То есть, все понятно, все трогательно, но я не вижу сюжета, развития. К чему ты хочешь прийти? Какой финал видишь?
Иза неопределенно пожимает плечами. Вид у нее забавный, как у обиженного ребенка.
– Не хочешь – не пиши, – говорит она. – Ты только критиковать умеешь! Придумай твою собственную идею, может, она будет лучше!
Я смеюсь.
– Мне теперь тоже идти под стол, чтобы ты меня простила? Я могу! Буду сидеть там и кусать тебя за ноги, а ты будешь носить мне еду, кофе и сигареты. Идет?
Иза фыркает.
– Ладно уж, прощаю, – говорит она. – А давай напишем такое… мистическое?
– Главный герой – журналист, – подхватываю я.
– Ральф Блюм!
– Тогда уж – Леон!
– Тогда уж – Гарсия!
– Леон М. Гасия, – говорю я. – Обязательно с М. в середке – для солидности. И лет ему сорок…
– Тридцать шесть!
– А работает он…
– В Эль Мундо!
Это похоже на игру в буриме, одна начинает фразу, другая ее заканчивает, одна изобретает ловушку, другая – возможность спастись из нее. Именно так рождаются наши лучшие вещи.
И вот уже Леон М. Гарсия, циничный и слегка нетрезвый испанский еврей (36 лет, разведен, воспитывает дочь), обрастает плотью. Мы уже видим его – носатого, слегка лысеющего, с вечной сигаретой в углу рта. Один глаз слегка прищурен от дыма, и кажется, что Леон все время ехидно усмехается.
– Он – журналист одной темы.
– «Охотится» на целителей, колдунов, шаманов…
– А почему?
– У него бывшая жена ушла в секту, дважды воровала дочку… потом, наверное, вообще умерла. От передозировки нектара и амброзии.
– Секундочку! – Иза стучит стучит зажигалкой по столу. – А каким боком тут двойники?
– Ну… может, очередной шаман будет его двойником?
– Скучно… Может, этот очередной шаман будет лечить людей с помощью двойников?
– Это как?! – иной раз Изины идеи ставят меня в тупик.
– А вот читает шаман заклинание, и из человека выходит двойник. И шаман говорит – это, мол, та часть тебя, у которой рак…
– Или венец безбрачия!
– Или венец безбрачия, не суть важно. Этого двойника человека должен убить – сам, своими руками. И тогда он избавится от рака. Ну, и от венца безбрачия заодно.
– Богатая мысль! При этом шаман говорит всем, что количество двойников в нас конечно, и тот, который является носителем рака, может заодно быть и носителем любви к своим детям… Поэтому злоупотреблять «процедурами» нельзя – можно убить в себе все человеческое…
– А Леон?
– А Леон оказывается свидетелем ритуального убийства двойников. Публикует жуткую статью со снимками, организовывает кампанию травли. Шамана сажают в тюрьму, а на суде он проклинает Леона.
– На следующий день Леон распадается на много нежизнеспособных двойников и умирает. Дочь остается сиротой, и ее усыновляет вышедший из тюрьмы шаман.
– Мне не нравится! – хором говорим мы с Изой. Иза нервно хихикает, я встаю из-за стола и начинаю ходить кругами по комнате. На этот раз обычная тактика не принесла плодов. Не дается нам рассказ о двойниках, хоть плачь…
* * *
– Мне кажется, я знаю, в чем дело, – тихонько говорит Иза.
– Я тоже знаю. – Я останавливаюсь посреди комнаты. Иза подходит ко мне почти вплотную.
– Это очень личное, правда? – шепчет она. – Слишком личное. Такое личное, что об этом невозможно написать.
Иза сейчас так близко, что я вижу свое отражение в ее глазах. Я тянусь к ней – обнять, поцеловать, просто прикоснуться! Губы опять – в который уже раз – наталкиваются на стекло… Хватаю со стола пепельницу, в бешенстве запускаю ее в преграду, вечно, с рождения отделяющую меня от моего двойника.
Иза со звоном осыпается к моим ногам.
А теперь еще и самкиКакое лето… какое убийственное лето…
Засуха, голод…
За что, Большая Белая?
В чем мы провинились перед тобой?
Тебе разонравилось наше пение?
Тебе не по душе наши жертвы?
Хоть намекни, Ты же знаешь, мы все сделаем, чтобы вернуть Твое расположение!
Опять Одноногий кого-то несет… отвратительно шуршит под ногами сухая сожженная трава…
– Маэстро Коа-Шар,[18]18
Coaxar [коашар] – порт. квакать
[Закрыть] Маэстро Коа-Шар! Идемте скорее! Там Вва Большеротого хотят убить!
Голос хороший, поставленный, значит, уже поет. Тембр странный, высоковат… и сам мальчик – маленький, худенький… и кожа эта пергаментная…
Какое страшное лето, Большая Белая! Июньские дети худы, как богомолы и не растут… совсем не растут…
– Что с Большеротым, Младший?
– Он яйца отказался отдать в инкубатор! Вва Сухорукий полез, так он ему чуть вторую руку не откусил! И еще кое-что… – у мальчишки вырывается смешок, но он тут же делает серьезное лицо. – Сухорукий так визжал, что сорвал голос… Теперь говорит, что на вечернюю распевку не выйдет. Мужчины вытащили Большеротого на площадь, хотят яйца насильно отнять.
Только этого не хватало… Большеротый – здоровенный лоб, ему перебить половину Хора, как мне – спеть вечерний речитатив под аккомпанемент дождя. То есть, запросто. С другой стороны, на охоте Вва Большеротому нет равных, только благодаря ему мы все как-то до сих пор живы… Если с ним что-то случится, можно сразу приглашать Одноногого – все лучше, чем медленно умирать от жары и голода.
– Идемте, Маэстро Коа-Шар, – теребит меня Младший, – ну, идемте же! Там уже почти весь Хор собралася, они же его убьют!
Мальчишка так переживает за Большеротого… Кто он ему? Сын? Нет, навряд ли, не было у Большеротого июньских детей. Да и какая разница – сын – не сын. Наши дети, даже когда маленькие, Воспитателей любят больше, чем Родителей. А этот уже подросток, уже, поди, свое место в Хоре есть… Вполне самостоятельная единица, мог бы и пофлегматичнее быть… А он вон приплясывает на месте, и видно, что не от любопытства, не потому что хочется скорее бежать посмотреть, как Хор будет топтать Вва Большеротого… Кажется, если бы не приличия, он бы меня насильно туда потащил – спасать свихнувшегося Большеротого и его яйца. Надо же, какой… Наверное все же, сын…
– Ты Вва, Младший? – спрашиваю
– Нет, Маэстро, – конфузится он, – я – Коа…
Б-большая Белая! Дожили… Собственного потомка не узнал! Кто он мне? Внук? Правнук? Праправнук?
– Кто твой Родитель, мальчик?!
– Коа-Пятнышко, Маэстро, – шепчет мальчишка, пиная от смущения сухой стебель.
Коа-Пятнышко… Мой младший сын, моя гордость… Самый сильный голос в Хоре. Как он пел, мой мальчик, мой выученик! Когда Коа-Пятнышко открывал рот, замолкал даже ветер. Даже Одноногий не смел шелохнуться, когда раздавалось сладкое пение моего сына… Мы все ему в подметки не годились – да, мы были Хор, прекрасный, слаженный, как единый организм. А Коа-Пятнышко был настоящий Солист, баловень Большой Белой.
Вот только с детьми Пятнышку не везло. Сезон за сезоном он откладывал неправильные яйца. Бедный мой мальчик, он каждый раз так надеялся, так перебирал яйца, вдруг найдется хоть одно хорошее! И все без толку. Яйца Коа-Пятнышка были безнадежно неправильными, их даже в жертву не приносили из опасения оскорбить Большую Белую, их просто сжигали.
Воистину, нет справедливости в мире – у бездельников, вроде Вва Сухорукого каждый сезон появляются чудные, здоровенькие детки, а у моего сына, самого талантливого солиста, когда-либо певшего колыбельные Большой Белой, не было даже наследника, чтобы передать родовое имя.
Последнюю кладку Пятнышко сделал в июне. Кажется, она тоже была неправильная. По крайней мере, Сухорукий что-то такое кричал о проклятии Коа, о том, что кладку надо найти и сжечь, что плохие яйца оскорбляют взор Большой Белой, что в их полупрозрачной мути развиваются неведомые монстры, и если их не уничтожить, всех нас ждет глад, и мор, и большие неприятности.
Обычно вспыльчивый, Пятнышко, кажется, даже не слышал этих криков. Несколько дней он ходил задумчивый, сонный, и дважды взял не ту ноту на вечерней распевке. А потом пропал…
Через неделю, когда мы уже перестали его искать, хмурый и молчаливый Вва Большеротый сказал мне, что видел, как Пятнышко шел к жилищу Одноногого. Отчаявшись стать отцом, мой мальчик просто покончил с собой…
– Маэстро Коа-Шар…
Я вздрагиваю и прихожу в себя. Смотрю на июньского – такого маленького, худого и коричневого… ничего, совсем ничего в нем нет от высокого и крупного Коа-Пятнышка. Разве что не по возрасту звучный голос… Но у Пятнышка был баритон, а несчастного заморыша – альт. И вообще – чушь все это. Любимая сказка всех малышей – про "брошенную кладку". А на самом деле без инкубатора, без Воспитателей, да еще и из неправильных яиц никто вывестись не может. Таковы законы природы, да хранит их Большая Белая.
Крепко беру маленького вруна за подбородок, заглядываю ему в глаза.
– Так ты говоришь, ты – сын Коа-Пятнышка? А ты знаешь, что у Пятнышка не было правильных яиц? Ты знаешь, что ни одна из его кладок не попала в инкубатор? Что у него нет и не могло быть детей? Что… – мальчишка всхлипывает, и я разом остываю: – Не надо, не плачь, Младший…
Он даже не пытается высвободить подбородок из моих пальцев. Он стоит смирно, и из его больших круглых глаз безостановочно катятся слезы. Ох, Одноногий меня забери… Ну, что я за человек? Наорал на ребенка, довел его до слез – за что? За то, что бедняжка увлекся своими фантазиями?
Треплю мальчишку по мокрой коричневой щеке.
– Извини меня, Младший. Пойдем уже, пока Вва Большеротый не оставил нас без Хора.
– Ну, что вы, Маэстро, я все понимаю.
Мальчишка смотрит на меня мокрыми глазами и улыбается такой знакомой улыбкой, что я готов поверить в наше родство.
На площади возле пересохшего фонтана собралась такая толпа, как будто там проходит репетиция Праздничных Восхвалений Большой Белой. В середине разозленным медведем ворочается Вва Большеротый. Вот когда я жалею, что у нас почти у всех поставленные прекрасные голоса – ор стоит до небес. Впрочем, когда я подхожу, люди на секунду замолкают. Но ровно на секунду, а потом опять начинают орать:
– Маэстро Коа-Шар, Большеротый свою кладку в инкубатор не отдает!
– Обнялся с ней и говорит – жрать ее будет.
– Да не жрать, дурак, а жечь!
– Это я дурак? А ну повтори, завтрак Одноногого!
– Это я завтрак Одноногого? Урод, люди, посмотрите на него, это же урод! Он же гаммы, не сфальшивя, пропеть не умеет, а туда же – обзываться!
– Большеротый, давай сюда яйца, придурок!!!! Что ты с ними обнялся, как девственник с первой кладкой, ты же всех детей подавишь, бедных!
– Не тронь! Уб-бью!
– Маэстро, ну, хоть вы ему скажите!
Зажимаю уши, закрываю глаза. Как всегда, когда на репетициях перед концертами стоит галдеж, глубоко вздыхаю… А потом, во всю мощь своих легких: «ХОООООООООООР! МОЛ-ЧАТЬ!!!»
Воцаряется восхитительная звенящая тишина.
Открываю глаза. Обвожу взглядом хор. Даааааааа, могу еще крикнуть, когда надо… некоторые альты послабее даже присели…
Ищу глазами Вва Сухорукого. Он, конечно, мерзавец, но осведомленнее него никого нет в Хоре. Если нужны не домыслы, а проверенная информация, ничего не поделаешь – приходится звать Сухорукого. Он у нас – четвертая власть. Это, если считать, что Большая Белая – первая, Одноногий и Ночные Летуны – вторая, а я – третья.
– Сухорукий, что здесь творится?
– Большеротый не отдает кладку в инкубатор, Маэстро. Я думаю…мы думаем, что у него получились неправильные яйца. Вот он и не хочет, чтобы кто-то видел.
Сухорукий докладывает четко, но в его выпуклых глазах – удовлетворение. Ну, конечно, у него у самого яйца всегда – отборные. Охотник он никакой, поет громко, но фальшиво, в слабеньком речитативчике путается, зато Родитель – каких поискать. И дети все в него – бесталанные, склочные и живучие. Воспитатели шутят, что их смело можно во владениях Одноногого выгуливать – и ничего им не будет. Не берет их Одноногий. Брезгует, что ли?
Смотрю на угрюмого Вва Большеротого. И впрямь, привязал к поясу мешочек с яйцами. Отсюда и не разглядишь – правильные или неправильные. Но, наверное, неправильные, иначе с чего бы он так развоевался?
– Большеротый, – говорю устало, – дай сюда кладку, пожалуйста. Ничего не будет с твоими драгоценными яйцами, их просто положат в инкубатор.
Молчит. Мотает говоловой и молчит.
– Большеротый! – повышаю я голос, но в глубине души знаю, что он не отдаст. На Большеротого кричи – не кричи, ему все равно. И в детстве такой же был упертый. Я ему «ля», а он поет «до». Я «ля», он «до»… так до сих пор и поет «до» вместо «ля», хорошо, хоть голос у него негромкий, не как у Сухорукого.
– Большеротый, – повторяю я уже просто для проформы, – Во имя Большой Белой, отдай кладку, что ты, в самом деле, как…как…
– Как самка, – услужливо подсказывает Сухорукий, и, сообразив, ЧТО он ляпнул, цепенеет. Сейчас его будут убивать, и никто, никто его не защитит. Потому что – это знает любой свежевылупившийся детеныш – даже смерть – недостаточно строгое наказание за такое оскорбление.
– Ну все, – шепчет кто-то из Хора, – допрыгался, голубчик. Сейчас Большеротый из него сделает…завтрак Одноногого.
Хор, как одно существо, затаил дыхание и ждет реакции Большеротого. А Большеротый вдруг ухмыляется:
– Как самка, говоришь? Ну-ну… А ты ее видел, эту самку?
Идиотский вопрос. Самок не существует. Как не существует ангелов, жизни после смерти и спасения от Одноногого – если он тебя уже схватил за задницу. Мой собственный учитель, Маэстро Коа-Камень рассказывал, что самки – это такие мерзкие монстры, которые вымерли тысячу тысяч сезонов назад из-за того, что прогневали Большую Белую. От них осталось одно только слово, да и то в приличных Хорах обычно не употребляется. Особенно в пристутствии Младших.
Между тем, с Большеротым надо что-то делать. Яйца он не отдает – это раз. Яйца явно неправильные – это два. На заявление Сухорукого, считай, не отреагировал, как будто его не смертельно оскорбили, а спросили который час. Это три. По отдельности оно, может быть, звучит не так уж и страшно. Но все вместе это – бунт. А бунтарям не место в Хоре, даже если после этого нам всем предстоит стать завтраком Одноногого.
– Хоооооооооооор! – кричу я. – На суд стано-вись!
Хор быстро выстраивается полукругом. Вва Сухорукий, который, кажется, только сейчас понял, что убивать его не будут, вприпрыжку бежит на свое место. Вва Большеротый стоит посреди площади – очень спокойный. Кажется, его не пугает то, что сейчас произойдет.
– Восьмой лирический баритон, Вва по прозвищу Большеротый, – ох, как мне не хочется это делать, – возраст – четыре сезона, основное занятие – охотник, обвиняется в попытке сокрытия неправильных яиц, в несоблюдении правил Хора и законов природы, да хранит их Большая Белая, а также в бунте и отсутствии чувства здоровой гордости. К какому наказанию следует приговорить Вва Большеротого? Альты?
– К изгнанию – ангельскими голосами стройно отвечают альты
– Баритоны?
– К изгнанию
– Басы?
– К изгнанию
Вопрос решен, как всегда – единогласно.
– Хооооооооооор! Разойдись!
Полукруг распадается, нас обступают.
– Извини, Вва, – говорю я. – Хор – это единое существо. А ты нарушаешь.
– Вы меня простите, Маэстро, – отвечает он. – Я бы и так ушел. Мы все равно собирались.
– Мы?! – я в ужасе. За что, Большая Белая?! Кого он уведет с собой, этот ненормальный, кого еще лишится несчастный Хор???
Из-за моей спины выскальзывает Младший – тот самый, который утверждает, что он – мой внук. Вва Большеротый кладет ему руку на плечо.
– Маэстро… мальчишка заглядывает мне в глаза. – Маэстро, я не вру и не фантазирую. Мой Родитель – Коа-Пятнышко. Он оставил кладку в доме у Вва… К сожалению, не все выжили. Вы… – мальчишка останавливается, набирает побольше воздуха, чтобы выпалить все разом, – вы, самцы, более приспособленные. Если бы не Большеротый, я бы, наверное, даже не вылупилась…
Какое страшное… какое убийственное лето… Засуха, голод. Хор потерял лучшего охотника. А теперь еще и самки… И Большая Белая лягушкой висит в небе и улыбается. Как будто так и надо…








