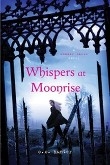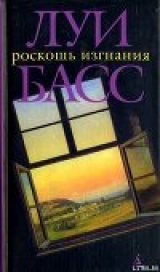
Текст книги "Роскошь изгнания"
Автор книги: Луи Басс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Отодвинув пишущую машинку, как тарелку с недоеденной едой, я секунду смотрел на него. Хотя уже темнело, было еще жарко, и у меня рубашка прилипла к спине в том месте, где я опирался на спинку стула. Сетки я успел опустить – в саду уже хозяйничали москиты, лягушки и ночные мотыльки. Скоро должны были появиться и летучие мыши.
– Что случилось, Паоло?
– Ничего, – тихим голосом ответил он, не глядя на меня. Но тут же быстро повернулся и присел к столу. Даже Каслриг почувствовал что-то неладное и посмотрел на него с задумчивым вниманием, словно пародируя мое выражение лица. Трелони проснулся и вылез из-под стола, пуская слюни на мои туфли.
– Не хочешь рассказать, что стряслось?
– Я уже сказал, ничего не стряслось! – неожиданно вспылил Паоло. – И вообще, кто вы такой, чтобы спрашивать? Мы вам ничего не должны только из-за того, что вы богатый, знайте.
– Я это знаю.
Какое-то время он сидел и, нахохлившись, смотрел на меня. Потом отвернулся и уставился на темные силуэты холмов на другой стороне залива.
– У мамы рак.
– Чепуха, – мгновенно сказал я. – Что это ты выдумал? Она еще слишком молода.
Но я тут же вспомнил, какой больной у Анны вид, каким напряженным и бледным было ее лицо под соломенной шляпой, когда она указывала мужу, как управлять катером.
– Это правда. Она была у врача. Папа вчера вечером сказал мне. Рак груди. Он говорит, это может быть очень серьезно.
– Не обязательно, – неуверенно успокоил я. – Знаешь, большинство женщин выздоравливает. Это факт.
Паоло повернулся ко мне и мрачно улыбнулся, стараясь казаться взрослым. Каслриг, проявив больше чуткости, чем я, соскочил со стола и погладил мальчика по колену с неожиданной для шимпанзе добротой, глядя на него с комичным выражением сочувствия и печали. Паоло рассмеялся и потрепал его по голове. Потом расплакался.
Я сидел и ждал, когда он успокоится, чувствуя растерянность, как это всегда бывало, когда плакала Элен. Наконец Паоло шмыгнул носом и спросил:
– Ты ненавидишь свою мать, Клауд?
Я улыбнулся.
– Моя мать давно умерла, Паоло. Но, помнится, иногда бывало, что я ненавидел ее, да.
– Иногда я ненавижу свою мать, но я не хочу, чтобы она умирала.
– Она не умрет. Мы с Бруно что-нибудь придумаем, обещаю тебе. Незачем беспокоиться. – Он продолжал молча смотреть на меня. – Ты мне не веришь?
– Верю. – Паоло вытер нос и глаза. – Наверно, верю.
– Хорошо. Выше голову! – Я запустил руку в карман джемпера, висевшего на спинке стула, и достал носовой платок. Протянул его Паоло, и он шумно высморкался. Одновременно далеко внизу, словно передразнивая его, мрачно прогудел огромный паром.
– А теперь иди домой, – сказал я. – Скажи отцу, чтобы пришел ко мне.
Когда он ушел, я долго сидел неподвижно, думая не о трагедии Анны, а о собственном близящемся конце, который, в сущности, некому будет оплакать.
Бруно явился часа через два. Я представить не мог, что увижу на его лице столь явно выраженные смятение и усталость. Оно было темно и искажено; казалось, он не находит себя от волнения. Мы молча поднялись наверх, и он сел за стол, нервно постукивая по полу ногой. На столе уже лежала моя чековая книжка.
– Итак, Бруно, тебе наконец придется принять от меня кое-какую сумму. Это тот подарок, от которого ты не можешь отказаться.
Бруно пожал плечами и ничего не ответил. Я принялся выписывать чек.
– Я хочу, чтобы ты бросил работу и был с ней. Хочу, чтобы Анна отправилась в лучшую клинику, даже если придется ехать в Америку или Швейцарию. Договорились?
Я протянул ему чек.
– Это слишком много, – сказал Бруно. – Нам не нужно такой чертовски огромной суммы.
– Истрать сколько потребуется, а остальное вернешь, когда она поправится.
– Хорошо. – Несколько мгновений Бруно молчал, делая над собой усилие, чтобы сказать то, что ему явно трудно было сказать. – В таком случае спасибо.
Первым делом Анна побывала у специалиста здесь, в Неаполе. Когда я навестил ее, она, не в пример Бруно, бросилась слезливо благодарить меня, отчего мне стало довольно неприятно. Больше ради ее мужа и сына я надеялся, что она выздоровеет.
Они оба продолжали навещать меня, когда Анна легла в клинику, но в море мы уже не выходили. Они принесли в мой дом на холме тяжелую, заразительную печаль. У всех нас было ощущение, что она умирает. В каком-то смысле я завидовал ей. Ей повезло быть окруженной скорбью близких. Что до меня, то я начал примиряться с мыслью, что моя собственная семья уже привыкла жить без меня.
Болезнь Анны больше, чем что-либо, подчеркивала тот факт, что я, в отличие от всех остальных, одинок. У одинокого человека есть свои особые права. Даже если он причиняет страдания, осуществляя их, он должен что-то иметь в качестве возмещения, позволять себе маленькие роскошества.
Превыше нашей частной печали была скорбь самого города. Неаполь был пуст. Все покинули его. Мои любимцы изнемогали от зноя. Заросли в саду становились все гуще и все выше, фонтаны разрушались, стрекозы, трепеща крылышками, плясали в воздухе. Днем стояла нестерпимая жара, и я старался выходить из дому только по ночам. Днем в разрушающемся палаццо на вершине холма все было погружено в сон и насылало дрему, как чары – на город внизу. Каждый вечер я выходил на балкон и подолгу вглядывался в закатное небо, надеясь увидеть Перси, но каждый раз напрасно.
Солнце садилось, кипя на пустынных площадях. Проезжая по безлюдным улицам со своими собакой и шимпанзе, я замечал, что эта пустота задевает во мне чувствительную струну, влияет на меня сильней, чем, думаю, влияла бы на кого-то другого. Я, пожалуй, понял, что должен был ощущать Байрон. Иногда я просто часами кружил по улицам, и мне казалось, что глубочайший покой моей души усыпляюще действует на город. Его состояние было точным соответствием моего, и он попадал под воздействие моих усыпляющих чар, а я просто часами кружил по нему, думая о тех, кого оставил в прошлой жизни, и наслаждаясь роскошью изгнания.
14
К концу лета стало заметно, что природа, как и весь город, склонилась перед календарем: первый день сентября не только подвел черту под отпусками, но и принес ощутимые перемены в погоде. Жара пошла на убыль, синее небо как будто обмелело, вместе с темнотой с моря прилетал прохладный ветер. Толпы возвращавшихся отпускников вываливались из тускло мерцающих паромов, менее шумные, чем когда уезжали. Август был унылым временем для тех из нас, кто оставался в городе, но каким-то образом это массовое возвращение людей к работе оказалось даже хуже. С высоты своего балкона, на котором вдруг снова стало возможно находиться даже в разгар дня, я наблюдал за прибывающими в гавань паромами и чувствовал, что мир продолжает жить своей жизнью без меня.
Чары, которые околдовали Неаполь в августе, сохраняли свою силу только здесь. Пальмы в саду выглядели более вялыми и клонили вершины к позеленевшим фонтанам. Павлины с жалобными криками расхаживали среди зарослей, которые цвели последними и самыми опьянительными цветами. По ночам с залива несло холодом, так что приходилось натягивать свитер, когда я выходил на балкон выкурить последнюю сигарету. Сезоны сменяются так быстро.
С наступлением прохлады мои любимцы ожили. Каслриг прыгал и носился по дому с прежней энергией. К Трелони тоже вернулась активность, и он тяжелой рысцой бегал по саду. Оба были очень привязаны ко мне и следовали за мной, куда бы я ни шел, Каслриг – держась за мою руку, Трелони – труся сбоку и оставляя на мраморе полов предательский след слюны.
Теперь, когда они возродились к жизни, я обнаружил, что жалею их. Им было неведомо, что за этими стенами живет своей жизнью огромный мир. Они не разумели, что августовская пустота Неаполя изгнана из города и поселилась в моем доме, моем саду, моей душе. Для них холодный ветер с моря не нес с собой угрозы зимы.
Недели две спустя после окончания отпускного времени пришли хорошие новости из клиники: похоже, болезнь была обнаружена вовремя. Лечение помогало Анне, и почти наверняка она должна была поправиться. Паоло считал, что я лично спас ей жизнь, и привязался ко мне, почти как мои домашние любимцы. К этому времени он уже не работал в баре, а ходил в школу, и мы виделись не так часто, как прежде. Хотя, могу сказать, болезнь матери сделала его старше. Наконец-то он начал мужать, чего всегда так жаждал.
Теперь, когда Анне стало лучше, мы снова стали выходить в море, но с окончанием лета наши прогулки уже не дарили того восторга. Мы знали, что в этом году их скоро придется прекратить.
Пару недель назад (как летит время!) я позвал Бруно и Паоло к себе на обед. После трапезы мы сидели, попивая виски, – по крайней мере Бруно и я, поскольку Паоло еще не настолько взрослый, как бы он при этом ни страдал, – разговаривали о выздоровлении Анны и шутили, как бывало до ее болезни.
– Ну, Scrittore, – сказал Бруно, поглаживая брови толстым пальцем, – привычка, которая мне у него очень нравилась, – когда снова отправимся нырять?
– Когда хочешь. Давай завтра?
– Давай, думаю, я смогу урвать несколько часиков после обеда, до того, как поеду в клинику.
Был почти час ночи, когда Паоло, который в конце концов был всего мальчишкой, свернулся калачиком в шезлонге в парадной зале и уснул. Мы с Бруно вышли на балкон и любовались видом, тихо разговаривая, чтобы не разбудить его. Внизу наших приглушенных голосов не было слышно за хором лягушек и цикад. Вдали, на черной воде, сонно покачивались огоньки редких лодок. Казалось, они шлют нам сигнал из бездны, устало, как люди, спасшиеся после кораблекрушения, которые состарились на своих необитаемых островах и давно потеряли надежду на возвращение домой.
Неожиданно я почувствовал, что мое время уже близко. Оставаться и дальше один на один с этим знанием было сверх сил. Закурив сигарету, я облокотился о перила рядом с Бруно так, что мы едва не касались друг друга, и смотрел на затихший город.
– Ты, наверно, догадался, что я болен, да, Бруно?
– Да. Я видел таблетки… И вижу, что иногда тебя мучает боль.
– Почему ты никогда не спрашивал, что со мной?
Бруно пожал плечами:
– Я знал, что ты сам скажешь, когда будешь готов.
– У меня ничего серьезного, просто язва желудка. Сначала врачи предположили рак. – Я помолчал, улыбаясь: даже мое тело не могло удержаться от обмана. – Как бы то ни было, я могу дожить до ста лет. Поэтому в последнее время я много думал о своем будущем.
– И, надеюсь, решил вернуться в Англию.
– Нет. Там мне нечего делать.
– В любом случае там твоя семья. Место мужчины – с его семьей.
Улыбаясь последней сентенции, такой типичной для Бруно, я повернулся к нему:
– Я не нужен им, Бруно.
– Чепуха, – неистово прошептал он. Если бы не Паоло, который спал рядом, он бы выкрикнул это. – Это просто отговорка, то, во что ты предпочитаешь верить, потому что не хочешь выполнять свой долг. Возвращайся и начни все сначала.
– Слишком поздно.
– В любом случае они нужны тебе так же, как ты им.
– Иными словами, совершенно не нужен.
Он с бешенством посмотрел на меня, потом отвернулся и уставился на залив. Помолчав секунду, вздохнул.
– Не мне учить тебя, Scrittore. Слишком мы разные. Мне трудно понять, что ты должен чувствовать.
– Хорошо. Надеюсь, ты не станешь мешать моему решению, каким бы оно ни было.
– Нет. Не буду. – Он вновь помолчал, и я спросил себя, понял ли он, что я имел в виду. – Если тебе когда-нибудь будет что-то нужно, говори не задумываясь.
– Спасибо тебе, Бруно. Я по-настоящему это ценю.
Когда он опять заговорил, я почувствовал, что он старается сдержать голос, и увидел, что он понял меня.
– Мне будет не хватать тебя.
Я улыбнулся.
– Праздник не может продолжаться вечно.
Он обнял меня и в истинно южной манере поцеловал в щеку. Потом, ничего больше не сказав, направился в залу, разбудил сына, и они ушли. Вскоре внизу взревел мотор, и сноп света от фар обежал сад. В конце заросшей дорожки они на минуту задержались – Паоло вылезал из машины и сонно возился, отпирая ворота, – и наконец уехали. Я смотрел вслед бегущим по склону холма огням машины, пока их не поглотил мерцающий ковер внизу.
Когда дом вновь погрузился в тишину, я долго стоял на балконе, облокотясь о перила и куря последние на сегодня сигареты. Как приятно было покурить, не думая о здоровье, и это было еще одно из моих маленьких роскошеств. С моря подул холодный ветер, пробиравший до костей. Даже огни внизу выглядели колючими и холодными. Летней дымки больше не было.
Вдруг, когда я стоял там, глядя на ночное небо, на звезды, выступающие над черным очертанием Везувия, я заметил темное пятнышко, скользящее над городскими антеннами. Оно ныряло вниз, потом с новыми силами опять взмывало, летя по направлению к дому. Я не смел поверить своим глазам, но, по мере того как пятнышко росло, мои сомнения исчезли. Он пролетел мимо меня в зал, сделал круг и сел на спинку шезлонга, насмешливо склонив набок голову.
Перси вернулся.
– Перси! Где тебя носило? – закричал я, бегом бросаясь в зал.
Попугай, перебирая лапками, бочком сделал несколько шагов по спинке шезлонга, глядя на меня круглым черным глазом.
– Отвали, – сказал он.
Я был в таком восторге, что даже не мог засмеяться.
– Ты можешь говорить! Сколько недель я учил тебя, и ты не сказал ни слова, а теперь возвращаешься и вот – пожалуйста! Невероятно!
– Отвали.
– Прекрасно, Перси, прекрасно, начало положено! Дальше пойдет само собой!
Перси еще переступил лапками и склонил голову в другую сторону.
– Отвали.
– Ладно, ладно, – сказал я, начиная сомневаться в том, что заиметь говорящего попугая было такой уж хорошей идеей. – Кажется, я тебя понял.
– Отвали.
Затем Перси сделал то, чего никогда прежде не делал. Он подлетел ко мне и сел мне на плечо, точно как должны делать попугаи, и следующие десять минут я скакал по залу, изображая Джона Сильвера, смеясь и одновременно чуть не плача, поскольку ничто не может так растрогать одинокого человека, как проявление преданности. Он вернулся ко мне спустя столько недель, отыскал дорогу домой из Африки, или где там он был, просто чтобы остаться со мной. Я знал, что теперь он никогда меня не покинет.
В то же время я почувствовал, что его появление символично, что это знак приближения конца. Я упал на диван и заплакал без удержу.
– О, Перси, недолго я смогу с тобой играть. Мое время на исходе. Больше нет никакого смысла ждать. Они все забыли меня, и это справедливо, понимаешь. Как я могу жить дальше, Перси, как? Слишком поздно начинать сначала.
Взволнованный моими рыданьями, Перси спрыгнул с плеча мне на колени.
– Я умираю, Перси, умираю точно так же, как отец. Ничего с этим не поделаешь. У меня та же болезнь, что была у него. Он передал ее мне. Я умираю, Перси. Отчаяние – наверняка наследственная болезнь.
Я почувствовал, что Бруно, будь он сейчас здесь, одобрил бы то, что на это сказала птица.
15
В последний раз, когда мы отправились нырять, я едва не задохнулся.
Мы погрузились глубоко, почти на пятьдесят метров, у берегов Капри. Я выдохнул, а потом, когда попытался вдохнуть, обнаружил, что воздух не поступает. Бруно в этот момент отплыл, ища пещеру, которая, как он слышал, была в этом месте, но найти которую ему раньше не удавалось. Мне потребовалось секунд десять, чтобы, отчаянно гребя, доплыть до него, а и в обычных условиях такие усилия заставляли меня задыхаться. Когда я тронул его за плечо, он повернулся ко мне – бескровные губы побелели, глаза странно равнодушные и далекие под маской. Я подал сигнал SOS, проведя рукой по горлу. Рука Бруно подплыла ко мне, предлагая его загубник. Практика в подобных случаях такова: оба ныряльщика возвращаются на поверхность, пользуясь одним аквалангом.
С полным спокойствием человека, находящегося на грани паники, я взял у него загубник и вставил в рот, но я был в таком состоянии, что забыл, что необходимо при этом сделать. Прежде чем вдохнуть воздух, нужно удалить воду из загубника, нажатием кнопки впереди стравив немного воздуха. Не сделав этого, я вдохнул воду.
Бруно, ничего не заметив, взял у меня загубник, чтобы в свою очередь глотнуть пару раз воздуху, пока я задыхался в полной тишине. Во рту появился острый привкус подступившей тошноты. Я, хоть убей, не мог понять, что сделал неправильно. Я знал, что существует какой-то способ избавиться от воды в загубнике, но ничего не соображал, не помнил, и мне стало ясно, что сейчас я умру.
Меня охватил нежданный покой. Когда удушье прекратилось, я откинул голову назад. Поверхность была не видна, не было ничего, кроме голубой мглы и пронизывающего ее рассеянного света. Вскоре мое тело, медленно кренясь, начало погружаться на глубину, и я почувствовал, что меня мягко тянет вниз, в густую синь, что я становлюсь частью нее. Я был в полной эйфории – ни страха, ни единой мысли. Мое тело, вращаясь, продолжало погружаться, и кружилась голова от ощущения, что оно уходит от меня в глубину.
Внезапно меня заставили очнуться. Бруно обхватил меня своей огромной рукой за шею, поднимая мне лицо. Потом вставил мне в рот загубник и нажал кнопку. Воздух ворвался мне в легкие, и мы начали подниматься.
На поверхности была почти зима Кроме нас, в тот день не было других ныряльщиков. «Ариэль» покачивался совсем рядом. Тишину нарушали только шлепки волн о его борта. Неподалеку виднелся пустынный берег Капри, серые скалы и белое море, медленно стекающее с их боков.
Мы молча подплыли к катеру, помогли друг другу снять акваланги. Только когда мы окончательно забрались на борт, Бруно нарушил молчание.
– Ты был на краю, Scrittore, – сказал он, расстегивая тяжелый пояс, который с металлическим звуком лег на палубу.
– Да. – Сняв свой пояс и ласты, я вытянулся на одном из мягких сидений на носу и устремил взгляд в небо. Два призрачных зимних облака висели в вышине надо мной, плывя под куполообразной поверхностью неба, как два ныряльщика, вглядывающихся вниз сквозь голубую толщу воздуха. Вздохнув, я расстегнул костюм для подводного плавания, чтобы подставить тело под зимнее солнце. – Что, как ты думаешь, случилось?
– Не знаю, – ответил Бруно, присев у желтого акваланга и осматривая его. – Возможно, неисправен манометр. Когда вернемся, отнесу акваланг в центр подводного плавания, пусть проверят.
– Да, Бруно, на сей раз ты действительно спас мне жизнь.
Здоровяк сел напротив меня и стянул скрипнувшие резиной ласты. Потом проворчал:
– Ты б, наверно, был счастливей, если бы я не стал тебя спасать.
Я не сразу понял, о чем это он, поскольку с того нашего ночного разговора на балконе прошло несколько месяцев, а потом мы больше не касались моего будущего.
– Нет, ты сделал правильно. – Море качало катер, как колыбель, и я чувствовал умиротворение и сонливость. – Я просто забыл, как под водой вставлять загубник.
– Значит, я плохо тебя учил.
– Нет. Я запаниковал, понимаешь. – Я поднял голову и посмотрел на него. – Что бы ты подумал, если я отказался бы брать твой загубник?
Бруно пожал плечами, но ничего не ответил.
Как бы то ни было, этот случай сослужил мне хорошую службу. Теперь я знал, что делать. Когда придет время, я отплыву на катере в последний раз, один. Потом перевалюсь через борт и стану погружаться, пока под влиянием давления не произойдет изменение в крови и эйфория не овладеет мной. Тогда я сброшу акваланг.
Бруно долго глядел на меня, пока я лежал, не отрывая глаз от перистых зимних облаков, с таким ощущением, что и они тоже смотрят на меня. Они вовсе не висели неподвижно, но очень медленно скользили на юг вместе с течением. Наконец я услышал, как Бруно встал и поднял якорь.
– Ну ладно. Посмотрим-ка, на что способна эта лодка по-настоящему.
Он запустил мотор и рванул с места на такой скорости, что катер встал на дыбы, и я подумал: сейчас перевернемся. Мы, конечно, не перевернулись, потому что Бруно мастерски укротил катер. Мотор взвыл на высокой ноте, катер прыгнул вперед, развернулся, подняв стену брызг, и понесся к материку.
С тех пор как вернулся Перси, я знал, что отпущенное мне время стремительно сокращается, что нет причин оттягивать задуманное. Тем не менее я медлил, испытывая страх. Пока я тянул, в Неаполь пришла зима. Сейчас декабрь. В холода эти места теряют все свое очарование. Когда нет солнца, пребывание здесь просто теряет всякий смысл. Но Лондон, Лондон! Лондон зимой – это все, нужно признать. Как тогда хороши красные отражения автобусов в черных лужах, туманное свечение театров, пар дыхания. Ничто не сравнится с той атмосферой. Неаполь же просто умирает зимой. Дело даже не в холоде. Это безвременье, ждущее новой весны.
Иными словами, я ужасно затосковал по моему родному городу и все сильней начал чувствовать, что здесь мне не место. Разочарование, видимо, было обоюдным, поскольку неаполитанцы приветствовали меня теперь без прежнего энтузиазма и больше не стремились поглазеть на мой дом. Все, кому это было любопытно, уже, должно быть, побывали на холме и потеряли интерес ко мне. Моя недолгая слава закончилась, я оказался сенсацией на один летний сезон. И если я еще оставался там, то это воспринималось не более как странная прихоть.
После того погружения, когда решился вопрос, как на практике осуществить задуманное, я понял, что единственный способ довести дело до конца – это твердо определить дату. Соответственно, я решил дать себе последнюю неделю (которая, кстати, заканчивается послезавтра). Возможно, напряжение, с каким мне далось это решение о последнем дне, окончательно лишило меня душевного покоя.
Той ночью я не мог уснуть. День был назначен, и я часами лежал, с ужасом представляя себе это: совершенное одиночество, последняя роскошь, которую может себе позволить изгнанник. До рассвета было еще долго, когда я заметил странное свечение и поднял голову.
В углу комнаты стоял бледный молодой человек с темными глазами и каштановыми кудрями. Это был Байрон. На нем была свободная белая рубашка, как в Венеции. В одной руке он держал, несколько театральным жестом подняв над головой, громадный железный подсвечник, почти невидимый под причудливыми потеками воска. От неровного света свечи на стенах плясали огромные тени.
– Я пришел поблагодарить вас за то, что вы нашли мои мемуары, – проговорил он. – Если желаете доказательств, что они подлинные, откройте записную книжку в конце. Там, на внутренней стороне переплета, увидите знак, который, думаю, вы узнаете.
Комнату залил дневной свет.
По мере того как неделя приближалась к концу, рос мой страх, но с ним и моя решимость идти до конца, и я жаждал, чтобы призрак явился вновь. Однажды мне даже показалось, что я увидел его – в щеголеватой дорожной шляпе и с тростью-шпагой, – довольно долго смотревшего на меня со своей скучающей улыбкой, прежде чем раствориться в бледном зимнем солнце, заливавшем сад. На другой день разразилась электрическая буря с треском и сверканием разрядов, и мне вроде бы померещилось, что я вижу его – во весь опор скачущего на коне вниз по дороге к моему дому, за поясом пара пистолетов.
Конечно, на самом деле никакого призрака я не видел, это, как все другое, был лишь обман, в данном случае – зрения.
Двумя днями раньше Анна последний раз посетила клинику. Вчера вечером я устроил здесь у себя небольшую вечеринку по случаю ее выздоровления, не говоря им, что это, и прощальная наша встреча.
Все изменилось со времени нашей последней посиделки перед тем, как у нее обнаружили болезнь. Главное, зима уничтожила прежнюю атмосферу дома. С закрытыми окнами и опущенными шторами в нем темно, гулко и торжественно; даже смех Бруно не может заполнить эти залы. Анна сильно похудела, юный Паоло стал задумчивей, чем прежде.
Тем не менее вечеринка получилась веселой. Умница Каслриг сел за стол и ел с нами. Трелони ходил вокруг, пуская слюни и постукивая по мраморному полу когтями, которые пора было бы подрезать, просил подачки. Перси сидел в углу и упражнялся в сквернословии.
Все члены этой семьи – единственные оставшиеся у меня друзья – изменились. Анна по-прежнему жесткая и непреклонная, но, кажется, стала мягче с Паоло. Тот горбился за столом и даже не стеснялся в выражениях, но она не пыталась одергивать его.
Возможно, приняла как неизбежное, – чего мне не удалось в отношениях с Фрэн, – что он должен сам, без ее вмешательства, взрослеть и учиться жить.
Что до Бруно, то он спокойно, без нарочитости проявлял заботу о выздоравливающей жене, по видимости любя ее. Я был уверен, что его любовь фальшива, потому что в Анне и отдаленно нет ничего привлекательного. Это худая, изможденная женщина, обидчивая и любящая командовать. Но в конце концов, может быть, неискренность так же хороша, как подлинное чувство, если люди при этом счастливы. Я не мог не вспомнить, как я охладел к Элен, и сомневался, что все сложилось бы иначе, если бы я смог вернуться.
Когда ужин закончился, я сказал, что хочу поговорить с Бруно наедине. Я открыл застекленную дверь, и мы вышли на балкон. Снаружи было холодно, с моря дул по-зимнему суровый ветер, раскачивая фонари вдоль набережной.
Мы облокотились на перила и, дрожа от холода, смотрели на город.
– Через пару дней я собираюсь отправиться понырять, Бруно.
Он понимающе кивнул, но ничего не сказал.
– Передай мои извинения Паоло, но скажи ему, что я не был несчастлив в конце. Знаю, звучит странно, но это правда. Просто я должен уйти.
– Скажу, Scrittore. Должен признаться, я, в известном смысле, восхищаюсь тобой за то, что ты видишь все так… как оно есть.
Я отрицательно покачал головой:
– Ни к чему кривить душой.
Он повернулся ко мне в своей медлительной манере:
– Нет, я серьезно. Мне выпала честь знать тебя. Я никогда не встречал такого человека, как ты, настолько сумасбродного, настолько больше, чем жизнь.
– Отвали!
Мы оглянулись и увидели, что к нам присоединился Перси.
– Совершенно верно, Перси, скажи ему, я думаю, он совсем спятил. – Все это прозвучало по-английски, поскольку мои домашние любимцы слишком большие снобы, чтобы учить итальянский. – В любом случае, – я переключился опять на итальянский, – я оставил тебе немного денег и дом.
– Я этого не хочу.
– Послушай, я сейчас слишком устал, чтобы спорить, честно. Спорь с моим адвокатом, или отдай деньги на благотворительность, или еще что. Единственное, о чем я прошу, проследи, чтобы за моими любимцами кто-то ухаживал. Сделаешь?
– Конечно.
Минуту мы стояли молча. Я был невероятно благодарен ему за то, что он не пытался отговорить меня в последнюю минуту. Это очень все облегчало. Тут в гавань вошел огромный белый паром, почти пустой в это время года. Нам на балконе он виделся лишь небольшим пятном света, медленно ползущим в бесконечной черноте, теплой точкой в бездне. Паром дал гудок, и, словно это был сигнал, Бруно стиснул мое плечо.
– Бруно… – Я обернулся к нему, но не нашел, что сказать.
– Все в порядке, Scrittore. Я понимаю. – Он протянул руку, и я пожал ее. – Прощай, и удачи тебе.
– Прощай, Бруно.
Прощайте и вы, мои слушатели. Прощай, дорогая моя аудитория, если предположить, что таковая у меня когда-нибудь будет. Моя повесть догнала меня, и я изобразил все, насколько мог. Последняя сцена будет слишком безлюдна, чтобы кто-то стал ее свидетелем или рассказал подробности.
Даже сейчас я был в состоянии продолжать дневник, описывая ужас и отчаяние, испытываемые мною, но какой в этом толк? Уже написано слишком много слов. Последний персонаж с довольно унылым поклоном отступает в сумрак теней, и повествование, которое, в конце концов, не более чем затянувшаяся записка самоубийцы, завершается. Я изобразил все, насколько было в моих силах. Замечательно получилось или безвкусно, забавно или печально? Право, не знаю. Я слишком устал, чтобы беспокоиться об этом.
Элен, Росс, даже Байрон – все они ушли в прошлое, умерли для меня и забыты, и сейчас я чувствую, что сам начинаю растворяться, отступать в их сумрачное подобие мира. Как они, я тоже скоро останусь лишь героем повествования. Больше мне нечего сказать. Моя машинка отстукивает последние слова. Молчание летит к холодному балкону быстро, как летел однажды Перси, махая крылами, готовясь сесть на мое плечо. Молчание опустилось на меня. Я ошеломлен скоростью, с какой промелькнули мои последние дни и недели. Это подобно книге, которую читаешь запоем, – захлопнешь ее и видишь, что, пока ты читал, наступила ночь. Даже в худшие времена жизнь была для меня такой же захватывающей, и ее конец оказался так же неожидан.
Теперь, кто бы вы ни были, вы должны оставить меня. В заключительном эпизоде свидетель или рассказчик будут лишними.
Нужно еще попрощаться со своими любимцами.