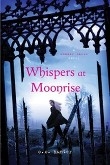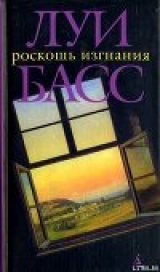
Текст книги "Роскошь изгнания"
Автор книги: Луи Басс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Мысли мои рассеянно блуждали. Ноги Кэролайн под столом. Фрэн, лишь вчера еще маленькая девочка, а теперь вот задравшая юбчонку – зачем? – демонстрируя свою женскую зрелость. Элен, бегущая по саду, размахивая руками. Моя карьера, подходящая к концу. Росс, врывающийся без стука ко мне в комнату в университетском общежитии, потом вдруг останавливающийся и ерошащий свою бороду. Послушай-ка вот это. Что именно? Какое-то стихотворение, которое он только что где-то вычитал.
Когда мне было двадцать с небольшим, я поехал в Клэпхем, к пожилой женщине, желавшей продать кое-какие антикварные вещи. Ничего особо ценного у нее не оказалось – так, много всяческого викторианского барахла, с которым не стоило и возиться. Для нее, однако, те вещи были дороги как память, отчего мы никак не могли с ней договориться о цене. Пока мы торговались по поводу вещей в спальне для гостей, я заметил, что она что-то прячет за платяным шкафом, словно стыдясь, что кто-то увидит: это была вылинявшая китайская ширма. С замиранием сердца я небрежно попросил показать мне ее. Это просто старый хлам, сказала хозяйка, и я могу забрать ее бесплатно, если желаю. В конце концов я по своей доброте душевной заставил ее взять тридцать фунтов и унес ширму с собой.
В том же месяце изображение ширмы появилось на обложке каталога аукциона Кристи. Проданная за двадцать пять тысяч, она позволила начать мне собственное дело.
Спазм в желудке вернул меня на землю. Я увидел, что продолжаю крутить кольцо на пальце с тем же волнением, какое испытывал много лет назад. Но на сей раз это не помогало, я это чувствовал. Неожиданно во мне возникло неясное желание бежать, вырваться на свободу. Какая-то часть меня подталкивала продать все, что я имел, и уехать, отправиться за границу, подальше от карьеры, которая завершалась, от безлюбого брака, от детей, переросших мою любовь.
Я встал и подошел к окну. Солнце обняло меня. Фредди был внизу, на тротуаре, и, опершись на урну, заглядывал внутрь нее, словно ждал, что его вот-вот вырвет. Во мне росло нетерпение, предчувствие больших перемен.
– Вернон, – прерывающимся голосом сказал я, но тот не слышал меня. Даже глаз не оторвал от работы. – Мне здесь нечего делать. Я ухожу. Если будут какие успехи, постарайтесь дозвониться мне домой.
– Непременно. – Он уже снова уткнулся в листки и что-то быстро писал. – Обязательно позвоню, Клод.
Я решительно вышел из комнаты и сбежал по скрипучим ступенькам. Посетителей в зале не было. Американец уже ушел. Заслышав мои шаги, Кэролайн оторвалась от книги.
– Мистер Вулдридж?
– Да?
– Что происходит? Отчего все так взволнованы?
– Объясню позже, – сказал я, проносясь мимо нее, хотя не имел представления, куда идти. – Сейчас я очень тороплюсь.
На улице солнце казалось не таким жарким. Перед Британским музеем я свернул направо и пошел в сторону Сохо. Потом вдруг возникла другая идея. Я замедлил шаг, удивляясь сам себе, но не остановился. Просто плыл дальше, увлекаемый людским потоком, словно пылинка на воде. Интересно было наблюдать за собой со стороны – как далеко я в действительности зайду. Углубившись в квартал красных фонарей, я остановился и прочитал приглашение над раскрытой дверью:
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ МАНЕКЕНЩИЦЫ.
ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ.
Задрав голову, я увидел четыре грязных окна с серыми тюлевыми занавесками. И надо всем этим продолжали скользить все те же, что и утром, облака, немыслимо безмятежно, мечтой о белизне.
Сам не заметив как, я оказался на лестнице и понял, что на самом деле задумал это еще в магазине, а может, и еще раньше. Я не дрожал от нетерпения. Во мне не было и признака того томления по юной плоти, которое преследовало меня большую часть моей женатой жизни. Двадцать пять лет верности и жертвы закончились спокойно, с чувством печали.
5
Когда я тем вечером открыл дверь, вернувшись домой после первой моей измены, Элен готовила ужин. Аромат с кухни уже проник во все уголки дома. Жена в ситцевом платье, которое висело на ней мешком, сновала от буфета к плите. Завидев меня, она подошла, тыльной стороной ладони отводя выбившиеся прядки. Я глядел на нее, испытывая чувство невыносимой ностальгии по нашей молодости, которая в случаях, подобных нашему, часто приходит на место любви.
– Здравствуй, дорогой! – Мгновение она смотрела на меня, явно заметив, что что-то не так. Однако в этот раз интуиция ее подвела. Должно быть, она не распространялась на супружескую неверность. Возможно, в случаях, которые грозили Элен болью, ее дар переставал действовать. Она совершенно неверно истолковала выражение моего лица. – Значит, расшифровать письма не получается.
Я помотал головой. Вдруг мне пришло в голову, что запах девицы мог остаться на моей одежде и теле, так что я быстренько сел за стол, не дожидаясь, когда Элен подойдет ближе. Но, сев за стол, я тут же сообразил, что отказ от ежевечернего ритуала будет подозрительней всякого запаха.
Но Элен, видимо, ничего не почувствовала или не обратила внимания. Она просто вернулась к готовке. Мне показалось, что она никогда не была такой бесхитростной и слабой. Какое-то время она стояла у плиты, повернувшись ко мне спиной, а я сидел за столом, недоумевая, что за безумие нашло на меня сегодня днем.
– Клод! – вдруг повернулась ко мне Элен, словно только сейчас что-то сообразив. – Что с тобой?
– Со мной? Что ты имеешь в виду?
– Ты не налил себе выпить!
Мгновенье я смотрел на ее сияющее лицо, красное от жара плиты, как у вошедшей в раж исполнительницы рождественских гимнов.
– Да что-то не хочется.
– Господи, должно быть, плохи дела!
Не в состоянии отвечать, я смотрел мимо нее в окно с чувством полного опустошения, как бывает, когда переспишь с женщиной. Сумерки ложились на сад. Над крышами в разрывах мрачных туч увядало и мрачнело небо. Начали вспыхивать линии фонарей, прорезая громадное скопище городских улиц и уходя в сумрак пригорода. Это было как какой-то ритуал, утонченный и глубинный, вселенский знак, который никогда никому не понять. Тьму медленно пересекал самолет, вспыхивали его бортовые огни, словно регистрируя пульс незримого сердца.
– Это тебе. – Элен стояла у стола, протягивая маленький сверточек. – В благодарность за сегодняшнее утро.
– Что? – озадаченно спросил я. – А что произошло сегодня утром?
– Не имею представления. Все, что я знаю, это что ты заходил к Фрэн и в результате у нее было прекрасное настроение, когда она вернулась домой. Уж не помню, когда я видела ее такой счастливой.
– Да ну, пустяки, зашел и зашел.
Элен ласково улыбнулась и быстро поцеловала меня в лоб.
– Я знаю тебя, Клод. Знаю, чего тебе стоит заставить себя извиниться.
Я молча развернул сверток. Внутри находилась бархатная коробочка, а в ней – кошмарные, золотые с черным запонки. Элен с опаской взглянула на меня.
– Ну как?
– Восхитительные запонки.
– Правда, нравятся? – неуверенно переспросила она. – Мне кажется, они очень необычные.
– Точно, очень необычные. – Элен любила покупать мне одежду, но лучше бы она этого не делала. У нее не было ни чувства стиля, ни хотя бы понимания мужского честолюбия. Но сейчас это было не важно, я встал из-за стола и обнял ее. – Чудесные запонки, Элен. Правда.
Я едва не расплакался.
– Я рада.
– Кстати, а где Фрэн?
– У себя в спальне. – Элен отступила на шаг и многозначительно посмотрела на меня. – Повторяет уроки.
– О!
– Ну, ты доволен? Она действительно занимается!
– Конечно, доволен, – ответил я, заставив себя улыбнуться. – Очень доволен.
При других обстоятельствах это был бы прекрасный день. Мы с Элен обменивались обычными шутками относительно моей работы. Примерно через час спустилась улыбающаяся Фрэн и на самом деле поцеловала меня в щеку. Ближе к ужину появились Росс и Кристофер. В тот вечер даже у Росса, казалось, было хорошее настроение, он постоянно подливал себе и, блестя темными глазами, сыпал шутками и байками. Когда он бывал в ударе, с ним не мог сравниться никто из моих знакомых.
Все были веселы и болтали без умолку. В общем шуме не было заметно моей молчаливости. Только однажды Фрэн наклонилась ко мне – ее свежая красота сияла, освещенная снизу свечами, которые зажгла по такому случаю Элен, – и спросила:
– В чем дело, пап? Ты что-то приуныл.
– Да нет. Просто устал.
Наконец мы легли. Жена прижалась ко мне и, чувствуя, что во мне нет желания, довольная уснула, положив голову мне на плечо. Несколько часов я пролежал без сна, боясь двинуться, чтобы не разбудить ее. Рука совсем онемела, но я все равно не шевелился. Никогда за все время нашей совместной жизни не чувствовал я себя таким одиноким. Я был почти благодарен жжению в желудке – моему неразлучному спутнику, малой доли той кары, которой я заслуживал.
Рассвет застал меня на обычном своем посту – у застекленной двери в кухне, где я стоял и смотрел на рассвет в саду. Ночь стекала с лужайки под деревья и кусты в дальних его уголках. Я задумчиво стоял, покуривая и наблюдая, как она отступает.
Что-то сломалось во мне вчера, и лишь теперь, когда это вдруг произошло, я осознал, в каком напряжении жил все эти годы. Должно быть, блюсти супружескую верность – всегда тяжелое бремя. Дешевая девка, с которой я провел время в квартале красных фонарей, была в самом соку. Долгое время зная лишь перезрелое, рыхлое тело жены, я забыл, сколь упруга может быть юная плоть.
Тем не менее по-настоящему она меня не зажгла. Рядом с ее молодостью мне лишь стало видней, какая сам я рухлядь. Сейчас, дымя сигаретой и глядя на сад, я понял, что в определенной степени та девушка была знаком, зашифрованным посланием о моей жизни.
В должное время спустились Фрэн и Элен, чтобы позавтракать. Они оживленно болтали за столом, я же сидел и молча наблюдал за ними с таким чувством, будто смотрю прямую передачу по телевизору. Только теперь я разглядел, что Фрэн уже почти стала взрослой. Возможно, это тоже сыграло определенную роль. У детей свое назначение. Они придают нашей жизни смысл. Жена же у меня – неунывающая, грузная женщина, ее прекрасные волосы уже седеют. Глядя на нее, я чувствовал определенную вину за вчерашнее, но так отстранение, словно это случилось не со мной, а с кем-то другим. Мое похождение не доставило ей страданий.
Жена с дочерью не обращали внимания на мое молчание, сочтя его за одну из обычных моих причуд. Фрэн кончила завтракать и скрылась у себя наверху. Я вышел из-за стола, вернулся к застекленной двери и закурил очередную сигарету.
– Ты собираешься одеваться, милый?
– Нет. К чему? Куда мне идти?
Мой ответ удивил Элен.
– Ты не собираешься в книжный магазин?
– Теперь там и без меня прекрасно обходятся.
– А письма как же? Вернон, может быть, уже расшифровал их.
– Он позвонит, если расшифрует.
Секунду спустя я почувствовал ее руку на своем плече.
– Что с тобой, Клод? – нежно спросила она. – Я знаю, что ты всю ночь не спал.
– Я чувствую себя старым, Элен. То, что байроновские письма лишили меня покоя, тому доказательство. Знаешь, нечто подобное я когда-то испытывал, заработав двадцать фунтов на каком-нибудь платяном шкафе. И теперь взбудоражен не меньше. Не могу избавиться от ощущения, что это последняя моя находка. Нет у меня стимула, чтобы дальше продолжать дело. – Я улыбнулся, чувствуя себя глупо, но мне было необходимо выговориться. – Я передал бразды правления Кристоферу. От меня больше нет никакого проку.
– Конечно, ты не прав, любовь моя. Может, ты займешься новым бизнесом, или расширишь этот, или еще что-нибудь придумаешь.
– Я устал от бизнеса, вот в чем все дело. Слишком это легко. Каждый дурак может делать деньги.
Элен рассмеялась.
– Пойми, ты достиг положения, к которому, по твоим же словам, всегда стремился: сколотить такое состояние, чтобы, уйдя на покой, жить в роскоши.
– Иметь много денег и ничего не делать – такое хорошо, только когда молод. Для меня это все равно, что смерть. Я боюсь ощущения пустоты. – На солнце набежала тучка. На сад легла тень. – Мой отец…
Даже не оглядываясь, я почувствовал, что Элен тихо подошла и стала у меня за спиной.
– Выброси эти мысли из головы, Клод. Это последнее, над чем тебе стоит сейчас задумываться.
Я посмотрел на тучку: солнце выглянуло из-за нее, и вновь брызнуло ослепительное сияние.
– Я всю жизнь вкалывал без передышки.
– Пока, мам! Пока, пап!
Мы попрощались с Фрэн, на секунду задержавшейся в дверях. Она была в школьной форме. Когда дверь закрылась за ней, меня обдала волна невероятной печали.
– Как я люблю эту девчонку!
– Я это знаю, Клод. Вот поэтому ты не должен позволять себе киснуть. Сейчас важный период в ее жизни.
Я промолчал. Элен постояла немного, положив руку мне на плечо, и пошла наверх одеваться.
Все утро я слонялся по дому. Настроение было до того подавленное, что я даже не мог читать или слушать музыку. Оставалось только бродить по комнатам. Наверно, от безделья больше обычного разболелся желудок. Пришлось дать себе слово пойти к врачу, если через неделю не станет лучше.
Около двух пришла женщина убраться в доме. Чтобы не мешать ей, я решил пока погулять в саду. Под кустом, где я положил его вчера, я увидел мертвого воробья – бесформенный комочек перьев. Я подумал, что не дело оставлять его там, пока не уберет садовник. Сходил за совком и аккуратно, чтобы не повредить корни цветов, закопал воробья в мягкой земле одной из клумб.
Покончив с этим, я стоял, сам удивляясь, к чему были все эти хлопоты. К тому времени ветер усилился и небо стало похоже на свернувшееся молоко. Я чувствовал печаль, словно присутствовал на настоящих похоронах. Я закрыл глаза и перенесся в родительский дом, куда я приехал на рождественские каникулы в последний год моей учебы в Оксфорде. В то утро я проснулся от дикого вопля. Мать с побелевшим и застывшим лицом стояла на лестничной площадке у моей комнаты перед трупом отца, который висел на привязанном к перилам поясе своего халата.
Это случилось до Крещения, и перила еще были украшены мишурой. В последних нелепых судорогах отец сорвал несколько гирлянд, и они шутовским украшением оплели его плечи. В подобном обрамлении даже его лицо горгульи с толстым вывалившимся языком и выкаченными глазами казалось дурацким. Тело было абсолютно и неестественно неподвижно. Ты чувствовал, что малейшего движения воздуха достаточно, чтобы оно начало медленно поворачиваться в воздухе, точно бумажные Санта-Клаусы и снеговики на новогодней елке, когда открываешь дверь в гостиную.
Телефон стоял внизу, в холле, на инкрустированном викторианском столике, точно под моим отцом. Его ноги, бледные и прозрачные, словно восковые, приходились мне чуть выше уровня глаз. Час был ранний, и в доме было холодно. В ушах словно застыла смола. Набирая номер, я чувствовал смутный страх оттого, что пояс вот-вот оборвется и мертвец всей своей тяжестью рухнет мне на голову. Но он было совершенно неподвижен, погружен в вечное молчание, – труп малодушного банкрота.
Я убрал совок на место и медленно пошел к дому.
На полдороге я услышал то ясный, то приглушаемый порывами весеннего ветра звонок телефона.
Звонил радиотелефон, стоявший на кухонном столе. Я выдвинул антенну и, поднеся трубку к уху, пошел обратно в сад.
– Алло?
– Клод? Это Вернон.
Сердце у меня екнуло.
– Да, добрый день, Вернон. – Только сейчас ко мне вернулось ощущение времени: было уже около трех, а я все бродил по ветреному саду в халате. – Какие новости?
– Я разгадал шифр.
– Боже мой! И о чем там говорится?
– Ну, пока я прочитал только одно письмо.
– И?
В трубке послышался шорох: то ли помехи на линии, то ли тихое покашливание Вернона.
– Боюсь, вас ждет разочарование, так что будьте готовы к этому.
– Вряд ли, вряд ли.
– Во-первых, как я предчувствовал, шифр оказался чисельным и поразительно сложным. К сожалению, это означает, что на одной странице содержится не слишком много информации, поскольку каждая буква представлена своим отдельным вычислением. Группы символов, которые на первый взгляд кажутся словами, на деле служат для обозначения одной буквы. Таким образом, шифрованная страница Гилбертовых писем – это лишь короткий абзац обычного письма.
– В таком случае ему пришлось немало потрудиться.
– Это еще слабо сказано.
– Но чего ради? Что он скрывал?
– Судя по первому письму, ничего особо важного. Письмо – чистой воды любовное, Клод.
– М-да, – Я остановился посреди лужайки и посмотрел на небо. Похоже, собиралась весенняя гроза. – Значит, вы считаете, что это плохая новость?
– Во всяком случае, ничего хорошего. Я надеялся на что-то, что оправдает такую таинственность и, таким образом, даст доказательства подлинности писем. Одна любовь этого не дает. Что меня теперь интересует, так это байроновские письма. Надо их расшифровать. Вы собираетесь появляться сегодня в магазине?
– Через час буду. Я прихвачу их.
Я сложил антенну, как адмирал – подзорную трубу, и мгновение смотрел на темные тучи, собиравшиеся на горизонте, словно движущаяся горная гряда. Потом чуть ли не бегом вернулся в дом, потеряв на ходу шлепанцы, которые так и остались валяться на лужайке.
В спальне я на секунду задумался и решил, что времени уже слишком много и нечего делать вид, будто у меня сегодня обычный рабочий день. Может, моим рабочим дням вообще пришел конец. Так что я надел первое, что подвернулось под руку: широкие вельветовые брюки, рубашку с отложным воротником, замшевые туфли и короткий анорак. Потом зашел в кабинет и взял из застекленного шкафчика два письма Байрона.
Едва мои пальцы коснулись бумаги, как меня поразило острое предчувствие, хотя я не смог бы выразить его словами. Это было просто ощущение, что тайна этих писем неким образом связана со мной: мой вчерашний проступок, отношения с Элен и Фрэн, мучения человека, которому некуда бежать, – все получит объяснения.
Пока я ехал в город, надвинулись тучи, в мире стало сумрачно, как в спальне, где задернули шторы. Габаритные огни машин придавали дневному свету еще больше призрачности. Подъехав к магазину, я решил не обращать внимания на счетчик и припарковался прямо напротив двери. Оглядел улицу – нет ли полицейского патруля – и юркнул в дверь.
Внутри двое посетителей разглядывали книги, что в другое время обрадовало бы меня. Кэролайн, хотя и удивилась тому, что я одет так неформально, воздержалась от комментариев.
Вернон, так же как вчера, сидел в офисе наверху, склонясь над письменным столом, освещаемым слабым светом из окна; казалось, за все это время он не пошевелился, как Байрон на своем вечном берегу. Когда я опустился в скрипучее кресло напротив него, он поднял на меня глаза, лицо – бесстрастная маска.
– Клод. Добрый день. – Старик позволил себе слабую улыбку. – Вы вовремя, мне как раз хотелось кому-нибудь объяснить, как я расколол этот орешек.
– Так объясняйте, я слушаю, – сказал я, подавшись к нему через стол.
Вернон достал из аккуратной стопки лист бумаги и положил передо мной.
– Я сделал копии всех шифрованных фрагментов. Этот – из первого письма. Каждый из символов обозначает некое число. Эта направленная вверх стрелка, например, обозначает двойку, этот полумесяц – пять. Здесь присутствуют все десять цифр. Вам, возможно, известен простейший шифр, в котором каждая буква просто замещается ее порядковым номером в английском алфавите: «a» – единицей, «b» – двойкой и так далее. Так вот, шифр, который использовал Гилберт, намного более сложный вариант этого шифра.
Вернон сделал многозначительную паузу, поправил очки кончиком карандаша, явно очень довольный тем, что разгадал хитрость нашего друга из девятнадцатого века.
– Конечно, каждое число действительно соответствует букве. Однако, чтобы узнать, что это за число, необходимо сперва произвести кое-какие вычисления. Кроме цифр мы имеем здесь зашифрованные символы вычитания, сложения, умножения и деления. Так, например, вот эта группа знаков расшифровывается как «два плюс семь минус четыре», что дает нам пять. Ясно?
– Как дважды два.
– Следовательно, можно подумать, что эта группа знаков обозначает букву «е» – пятую в алфавите. Достаточно логично, не так ли?
– Конечно.
– Именно так я и подумал. Но какое бы число ни подставлял вместо того или иного знака, ничего не получалось. Одна сплошная бессмыслица. Вот почему вчера, когда вы приходили, я уже начал было думать, что все это розыгрыш. Но сегодня утром меня как громом поразило, я вдруг все понял.
Он снова сделал паузу, глядя на меня через стол. Ни разу за все время нашего знакомства я не видел такого восторженного выражения на его лице, такого сияющего взгляда.
– И что вы поняли?
– Каждое письмо к Амелии содержит в себе числовой ключ, как правило, он находится в абзаце, предшествующем зашифрованной части. К примеру, в том первом письме, если помните, он пишет, что, задув свечу, лег в постель и смотрел на звезды над Парижем и так далее. Он называет время – полночь, так что число двенадцать – это ключ к последующему зашифрованному фрагменту. Поэтому все, что нужно сделать, это прибавить двенадцать к результату каждого вычисления, и тогда все становится на место, обретает смысл.
– Вернон, вы чудо, – сказал я, глядя на загадочные каракули и не представляя, как бы я смог прочитать их. – А я-то поражался, как это вам удается решать кроссворды в «Таймс»!
– Желаете узнать, о чем говорится в письме?
– Разумеется.
– Я прикрепил расшифровку к каждому из писем. – Избегая моего взгляда, он принялся перебирать бумаги на столе. – Вот это – к тому, что мы сейчас смотрели.
Все так же не глядя мне в глаза, он протянул мне копию зашифрованного фрагмента из первого письма Гилберта, к которому скрепкой была прикреплена белая бумажная полоска с расшифровкой. Рядом с витиеватым слогом эпохи Реставрации расшифрованный текст поражал своей откровенностью.
«ПЕРВАЯ НОЧЬ БЕЗ ТЕБЯ НЕКОМУ БЫЛО ЕГО УБЛАЖИТЬ КАК ТЫ ВСЕГДА УБЛАЖАЕШЬ ПОЭТОМУ Я ДУМАЛ О ТЕБЕ ПОКА СОЛДАТ НЕ ВОССТАЛ И САМ ЗАСТАВИЛ ЕГО ТАНЦЕВАТЬ».
Я снял полоску, чтобы взглянуть на оригинал, и увидел, что Вернон был прав. Чтобы написать эти несколько слов, Гилберту понадобилось почти двенадцать строк символов. Столь невероятно много места и все ради того, чтобы засекретить свое коротенькое непотребное послание. Я снова обратил внимание на сдерживаемую неистовость каллиграфического почерка, тонкие линии-порезы на всей странице. И вновь, как при первом чтении писем, я остро почувствовал этого человека: Гилберт, этот аристократ, насмешливый, образованный, кладет столько труда на то, чтобы посреди своего послания вдруг оставить элегантный слог и зашифровать откровенную похабщину.
– Клод? Что вы обо всем этом думаете?
Несмотря на банальность тайны, которую они 'скрывали, эти знаки сейчас еще больше, чем прежде, поражали меня скрытой темной загадочностью и низменностью. Я вспомнил, как Элен, едва бросив на них взгляд, попросила убрать их от себя.
– Клод?
С легким отвращением я положил письмо на стол и толчком послал Вернону.
– В нем есть что-то очень неприятное.
– Тут я с вами соглашусь, вряд ли наш друг Гилберт большой романтик.
– Дело не только в этом. В нем самом есть что-то действительно глубоко отвратительное. Разве не чувствуете? Просто мерзость.
– Значит, вы считаете, что это не шутка?
– Уверен, Вернон. Не знаю, зачем он это делал, но убежден, что в тысяча восемьсот семнадцатом году человек по имени Гилберт писал зашифрованные письма из Европы женщине, находившейся в Англии. Может быть, им не требовалось какого-то скрытого мотива. Может быть, то, что они пользовались шифром, доставляло им своего рода извращенное удовольствие, щекотало нервы. Что собой представляют остальные послания?
– Они в том же духе: детский лепет очень по-взрослому двусмысленный. Это еще относительно скромный пример. Хотите взглянуть на другие?
– По правде говоря, нет, спасибо. Почему бы не перейти к письмам, где говорится о Байроне?
– В самом деле, почему?
Я достал из кармана письма и перекинул ему через стол. Тучи теперь были прямо над нами; Вернон включил настольную лампу и направил ее свет на страницу.
– Первым делом, – сказал он, внимательно изучая описание Гилберта вечера в опере, – нужно найти число, служащее ключом. Не будете ли так любезны, пока я ищу, написать буквы алфавита?
Радуясь возможности чем-то занять себя, я вырвал страничку из блокнота и принялся за дело. Когда я закончил, Вернон воскликнул:
– Ага! Вот оно! Слушайте: «Это продолжалось, должно быть, долгих пять секунд, за которые мы распознали друг в друге родственные души». Затем начинается шифр. Итак, ключ – число пять, Клод. Вам не трудно написать пять под «а», шесть – под «b» и так далее?
Проставляя числа под буквами, я подумал, что мы впервые работаем вместе. К своему удивлению, я, человек богатый и удачливый, чувствовал гордость оттого, что мне оказана такая честь, – словно первоклашка, помогающий отличнику старшекласснику. Шифры, поэты и старинные документы – все это была территория Вернона. Здесь он чувствовал себя хозяином, уверенным и властным, каким обычно привык себя чувствовать я.
Справившись со своим нетрудным заданием, я взглянул на него. Он опустил лампу ниже, так что теперь она была не более чем в шести дюймах от старинного листочка. Когда он наклонял голову, в стеклах его очков появлялись два ярких прямоугольных отражения стола. И, склонившийся над конусом ослепительного света, он в своем сосредоточенном спокойствии походил на дантиста или хирурга.
– Готово? Замечательно. – Он нашел в своих бумагах лист с символами Гилберта и числами, которые им соответствовали. – Я буду делать подсчеты и говорить вам результаты. Вы записывайте буквы, и мы мигом справимся. Первое число… двадцать один.
Он делал подсчеты настолько быстро, что я едва успевал записывать буквы. Ключ ему почти не понадобился: Вернон уже запомнил значение каждого символа. При такой скорости было невозможно уловить смысл складывавшихся слов.
«МЫОБАБЫЛИОДИНОКИИТАКДОЛЖНОБЫТЬВСЕГДА».
– Теперь прочитайте, что вы записали, – сказал Вернон, когда мы закончили.
– «МЫ… ОБА… БЫЛИ… ОДИНОКИ… И ТАК… ДОЛЖНО… БЫТЬ… ВСЕГДА». Правильно?
– Гм. Похоже, больше в этом зашифрованном фрагменте ничего нет. Оба одиноки. Интересно, почему он так написал?
– Может, они оба – аристократы? Оба – гении? Что меня больше смущает, так это зачем ему нужно было зашифровывать эту фразу. По мне, она совершенно безобидна.
– В самом деле, в самом деле. – Вернон сдержанно вздохнул. – Это первый шифрованный фрагмент, где не говорится о сексе. Это само по себе примечательно. Похоже на шифр внутри шифра. – Он поднял голову и посмотрел на меня, его стариковское лицо, освещаемое снизу светом, отраженным от листа бумаги, напоминало череп. – Вы по-прежнему считаете, что все это звучит правдоподобно?
Я на мгновение задумался, ощущая неподвижность сгущающегося на улице мрака.
– Да, считаю.
– Что ж, очень хорошо, – сказал Вернон мягко, тем не менее в его голосе чувствовалось тактично сдерживаемое сомнение. – Перейдем теперь ко второму из байроновских писем. – Он бегло просмотрел его. – Вот эта фраза должна содержать ключ. «Причиною его дурного настроения была заурядная неаполитанка, с которой он три дня был в романтических отношениях». Итак, проделываем ту же операцию, Клод, только теперь ключ – число три.
Я принялся быстро писать числа, вполуха прислушиваясь к первым раскатам грома. Атмосфера сгустилась до предела, казалось, что в любой момент она взорвется ливнем. Даже шума машин не было слышно, словно они вместе с птицами смолкли перед грозой.
На расшифровку второго байроновского письма ушло куда больше времени. Скоро мы вошли в ритм, Вернон называл следующее число, едва я записывал предыдущую букву. В комнате царила тишина, слышался только его мягкий голос да изредка шуршание бумаги. В механическом процессе поиска чисел и записи букв я потерял всякое ощущение времени. Казалось, мы занимаемся этим целую вечность, но, когда диктовка наконец прекратилась, я в замешательстве увидел, что прошло всего-то несколько минут.
Однако, когда я посмотрел на свою страницу, оказалось, что я успел написать довольно много строк заглавными буквами.
– Так, – сказал Вернон, отодвигаясь от слепящего света лампы, – что мы имеем?
«НЕТ… НИЧЕГО… НЕИЗМЕННОГО… КРОМЕ… НАШЕЙ… ЛЮБВИ».
– Гм. Совершенно не похоже на Гилберта. Чувствую, скоро мы увидим, как он впадет в лирику.
– Пожалуй. Вот что делала с человеком встреча с поэтами-романтиками.
Мы рассмеялись, но тут же замолчали, смущенные тем, как громко, почти истерично, прозвучал наш смех. Взглянув на Вернона, снова склонившегося над столом, я почувствовал, что он взволнован больше, чем хочет показать. Я неловко кашлянул и продолжил чтение записи.
«НЕТ НИЧЕГО НЕИЗМЕННОГО, КРОМЕ НАШЕЙ ЛЮБВИ… ЧУВСТВУЮ… МЫ… МОЖЕМ… НИКОГДА… БОЛЬШЕ НЕ ВСТРЕТИТЬСЯ». Господи, Вернон, я только сейчас понял!
– Что вы поняли?
– Ведь это последнее письмо из найденных, не так ли? Значит, или остальные письма потеряны, или Гилберт просто перестал писать.
– Довольно правдоподобно. После Венеции большинство путешественников обычно направлялись во Флоренцию и Рим…
– Но в письмах упоминается только Венеция. Тогда предчувствие, возможно, не обмануло его. Возможно, он и Амелия больше никогда не встретились. – Когда я снова уткнулся в письмо, то с волнением понял, что, может быть, я первый человек с 1817 года, кто расшифровывает последние записанные мысли Гилберта. И так же как при первом чтении писем, у меня возникло ощущение, будто я оскверняю могилу. Казалось, низкие штабеля книг, темнеющие во мгле, окружавшей освещенный стол, молча слушают, как я читаю. – «Я… РАССТАЮСЬ… С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ… И ОТПРАВЛЯЮСЬ В… НЕАПОЛЬ… ПО…» Погодите-ка, думаю, здесь мы наверняка допустили ошибку. Да, это определенно «d». «ПО… ПОРУЧЕНИЮ… ЛОРДА Б.».
– Что-то не верится. Гилберт выполняет поручение?
– Погодите, Вернон. Посмотрим, что он скажет дальше. Так: «Я… ПОКЛЯЛСЯ… МОЛЧАТЬ И СКАЖУ ТЕБЕ ТОЛЬКО… ЧТО… МНЕ ПРЕДСТОИТ… СОВЕРШИТЬ… НЕЧТО… ВАЖНОЕ… ВОЗМОЖНО, ТЕБЕ ПОЛЕЗНО БУДЕТ ЗНАТЬ… ЖЕНЩИНА…»
– Клод? – Вернон неестественно медленно наклонился вперед, опершись локтями о стол в круге света от лампы. – Что дальше?
Но я продолжал сидеть, уставясь в лист бумаги и не видя его. Перед глазами пульсировала красная вспышка, я чувствовал дурноту, ожидая, что вот-вот прогремит первый удар грома. Именно в такой момент это и должно было произойти.
– Ну? – нетерпеливо спросил Вернон. – Так что там?
– «ЖЕНЩИНА УКРАЛА ЕГО МЕМУАРЫ». – Я встал и направился к окну, чувствуя, что ноги едва держат меня. Улица была залита бурым предгрозовым светом. Фредди все так же был внизу. Как корова, ложащаяся на землю перед надвигающимся ливнем, старый бродяга съежился в дверной нише и что-то бормотал. Казалось, наступает конец света. – «Женщина украла его мемуары», – повторил я.