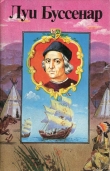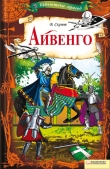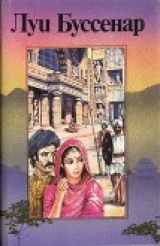
Текст книги "Приключения знаменитых первопроходцев. Азия"
Автор книги: Луи Анри Буссенар
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
В марте следующего года микадо вдруг появился на политической сцене и, произведя на окружающих еще более странное впечатление одним фактом своего появления на людях, принимал лично, в качестве священной персоны, в своем дворце в Киото представителей Англии, Голландии и Франции. После ратификации им документов в качестве полноправного монарха договоры начали выполняться как положено.
В конце 1868 года микадо, совершенно преобразившийся и осовремененный, дабы показать, что свершившиеся перемены носят необратимый характер, оставил священный город Киото и перенес свою резиденцию в Эдо, переименованный в Токио, то есть Восточная столица.
В течение последующих пятнадцати лет феодальный строй окончательно рухнул, уступив место центральному правительству. Древняя Япония была побеждена.
ГЛАВА 10
МОРИС ДЮБАР
У морских офицеров нет недостатка в объектах изучения, а разные страны, куда их забрасывают судьба и профессиональный долг, могли бы предоставить им массу возможностей для глубокого изучения и описания. Они видят много удивительного, таинственного, ужасного, странного, но, однако, чрезвычайно редко пытаются воспользоваться свободным временем, будучи на борту или на судовой стоянке, чтобы заняться литературным трудом.
Часто возникает вопрос, почему эти люди, образованные, трудолюбивые, выдающиеся, остаются столь безразличными к окружающим их чудесам, даже не думая запечатлеть на бумаге свои мимолетные впечатления, облечь в слова то восхищение, которое они испытывают и которое буквально готово слететь с их уст, когда та или иная страна собирается распахнуть перед ними все свои тайны и предстать во всем великолепии.
Тому есть несколько причин, и среди них одна, главная. Дело в том, что писателем случайно не становятся. Кто-то, будучи неплохим стилистом, оказывается поверхностным и невнимательным наблюдателем; кто-то обладает даром наблюдателя, но, оказавшись один на один с чистым листом бумаги, теряется, как гранильщик, желающий получить бриллиант. Кто-то воображает, будто написать книгу все равно что письмо, и в изнеможении бьется над двадцатой страницей, вне себя от ярости и усталости. Но это говорится для тех, кто пытался этим заняться… поскольку большинство, причем подавляющее, ко всему этому просто безразлично.
И поскольку писателем случайно не становятся, чтобы им стать, нужно обладать даром. Прежде всего нужно обладать даром наблюдения, гораздо более редким, чем это принято думать; стиля, еще более редким даром; и работоспособностью, твердым желанием писать, не останавливаясь перед трудностями, не падая духом перед неудачами и наполняя каждый новый день надеждой на успех.
Вот почему, несмотря на благоприятные обстоятельства, которые, казалось бы, могли пробудить спящий талант, так мало истинных писателей как среди морских офицеров, так и среди представителей других, так называемых литературных профессий.
Это вступление, быть может слегка затянутое и тем не менее весьма важное, позволяет понять, каким образом, приступая к изучению современной Японии, мы стали счастливыми обладателями прекрасного труда о живописной, анекдотичной и близкой Японии; а также почему этот труд принадлежит – вещь чрезвычайно редкая! – перу выдающегося писателя и вместе с тем заслуженного офицера нашего морского корпуса, а именно: Морису Дюбару.
Родившийся 27 августа 1845 года в Жеврей-Шамбертен (департамент Кот-д’Ор), что на бескрайних холмах старой доброй Бургундии, давшей миру столько талантливых людей, Морис Дюбар, после усиленных занятий в Морском интендантском училище, был выпущен оттуда в 1868 году в чине помощника интенданта. Он плавал без перерыва, если можно так выразиться, вплоть до 1873 года и был тогда на борту «Декре», что дало ему возможность участвовать в памятной экспедиции Франсиса Гарнье. Известно, что офицеры морского интендантства кроме обязанностей, общих с армейскими интендантами, подвергаются сверх того всем опасностям плавания и вынуждены проводить длительное время в колониях да к тому же выполнять все обязанности действующего офицера.
Участие в этой кампании, когда Дюбар чуть не погиб в Хайфоне из-за приступа злокачественной лихорадки, привело его на лечение в Китай, а оттуда в Японию, откуда он вернулся со своим трудом «Живописная Япония», из которого мы и заимствуем все детали нашего описания.
Назначенный по конкурсу помощником инспектора военно-морского министерства в 1881 году, а затем, в 1885 году, начальником кабинета помощника государственного секретаря военно-морских сил и колоний, Морис Дюбар является сейчас генеральным инспектором, выполняя функции, сходные с генеральным контролером сухопутных сил, в чине контр-адмирала.
Находясь в расцвете сил и своего замечательного таланта, он, несмотря на огромную занятость по работе, находит время писать по случаю чудные эссе, полные юмора и фантазии, доставляя знатокам огромное удовольствие…
Так последуем за ним в Японию, которую видело столько людей, но так, походя, как листают богато иллюстрированную книгу, и которую он сумел показать нам глубоко и разносторонне.
Если верить Дюбару, эта, еще недавно таинственная страна, столь желанная, куда он прибыл с чувством обостренного интереса, с трепетно бьющимся сердцем, разочаровала его. Было ли это, как иногда случается, осуществлением слишком долгого ожидания заветного желания? А может быть, во всем виноват дождь, ливший как из ведра в тот день? Все возможно.
Однако первое неблагоприятное впечатление от высадки в Иокогаме быстро стерлось. Один из друзей, довольно долго живший в Японии, встретил Дюбара, окружил вниманием, избавив, таким образом, от чувства изолированности, столь тяжкого для европейца вообще, а особенно для француза, находящегося на пороге неизвестности.
Будучи человеком поднаторевшим в путешествиях, Дюбар организует свою жизнь таким образом, чтобы не терять времени зря. Он устраивает все так, что получает возможность совмещать службу на корабле с посещением самых интересных мест, быстро улаживает все дела, как заправский матрос, и очертя голову устремляется в неизвестность.
Сначала, как человек сообразительный, Дюбар спешит все увидеть наскоро, как бы делая общий набросок, эскиз обширного и детального исследования, уже намеченного им. Так, он посещает «Шиво», тройную гранитную крепостную стену, за которой высился дворец тайгунов, сгоревший во время одного из тех страшных пожаров, что пожирали за несколько часов целые города. Пожары – это бич Японии, чьи фанерные дома, настоящие ажурные светильники, горят как бумажные. Затем он побывал у «Шиба», гробницы сёгунов – что означает: «главнокомандующий» – так раньше величали тайгунов, пока они не захватили власть; посетил храм «Асаха», знаменитый своими чудесами, приписываемыми богам, а также невероятными скоплениями голубей и окружающими его площадками для стрельбы из лука; и наконец, сады Уэно, где все еще царит беспорядок и хаос, а стволы деревьев обожжены и хранят следы пуль и картечи, – печальные развалины того, что было когда-то главным храмом империи и где в 1868 году разыгралась кровавая драма, положившая конец незаконному владычеству тайгунов и восстановившая права законных властителей страны.
Эти места, пишет Дюбар, хранят зловещий вид, которому воображение готово придать еще более унылые оттенки; кажется, война кончилась только вчера, а на стволах больших деревьев и камнях со следами картечи еще видна кровь храбрецов, страшных даймио, погибших в схватке, похоронившей древнее японское рыцарство. И тем не менее буквально в двух шагах отсюда шумит нескончаемый праздник; если правительство микадо, подхваченное вихрем дел, не успело еще окончательно стереть следы пролетевшей грозы, то японский народ, самый смешливый в мире, не долго носил траур, и уже на следующий день после урагана на земле, дрожавшей от топота воинственных орд, поднялись сотни элегантных домиков, куда назойливые «мус’ме» – молодые девушки – зазывают праздных прохожих и день и ночь угощают этих больших детей чаем, их излюбленным напитком, играя им на «сямисене» – трехструнной гитаре.
Большой знаток и ценитель оригинальных безделушек, которыми публика увлекается последние два десятка лет, Дюбар в первую очередь посетил магазины редкостей в Иокогаме, самые многочисленные и богатые во всей Японии, что объясняется большим наплывом иностранцев. Он становится завсегдатаем двух главных параллельных улиц: Бентен-дори и Хучо-дори, почти сплошь застроенных магазинами, забитыми редкостями, приводящими в экстаз или отчаянье коллекционеров.
Японцы вообще, и в частности японские торговцы, настолько приветливы и любезны, что вы можете сотню раз войти в его магазин, смотреть, торговаться, щупать товар, ничего не покупая, и он будет с вами все так же приветлив; каждого посетителя он встречает вежливо и с неизменной улыбкой, непременно предлагая ему чашечку чая, обязательную для каждого, кто претендует на обходительность.
А если сделка заключена, что иногда дело далеко не простое, то торговец становится вашим другом. Вы можете заявиться к нему в любое время, обосноваться у него, посидеть рядом. Он угостит вас табаком, чаем, поговорит с вами о делах, о вашей семье, родине, о новостях и политике; но он никогда не опустится, в отличие от европейского торговца, до того, чтобы навязывать вам свой товар; его товар выставлен на продажу, вы можете его видеть, купить, если вам угодно и вас устраивает его цена; но он почти никогда не будет вам надоедать, пытаясь заставить раскошелиться; это в своем роде артист, а иногда – философ.
Вот почему прогулка по Бентен столь привлекательна, и наш путешественник с первых дней испытывал колоссальное удовольствие, бродя по этому огромному своеобразному музею, столь необычному для него и где он мог удовлетворить свое любопытство и приобрести необходимые навыки в разговорном языке.
Сопровождаемый обычно одним из своих близких друзей-моряков, Дюбар не обходил вниманием ни одного уголка, рыская повсюду в поисках впечатлений, документов, разнообразных сведений. Во время одной из таких прогулок у его друга почти завязалась идиллическая дружба с юной японкой, очаровательной О-Ханой, дочерью торговца редкостями Митани, которая помогла им познакомиться с частной жизнью японцев.
«Однажды, – пишет автор “Живописной Японии”, – мы долго торговались по поводу маленькой шкатулки, инкрустированной золотом. Безделушка была чрезвычайно симпатичная; она просто очаровала моего друга, пожелавшего отослать ее сестре; однако ему пришлось умерить свой пыл и привести его в соответствие со щедростью правительства, а поскольку упрямый торговец не желал уступать, то мы и ушли несолоно хлебавши.
Вечером мы вернулись, поскольку уж если покупателю что-то действительно приглянулось, то он охотно будет бродить кругами вокруг вожделенного предмета, как если бы он мог стать его обладателем при помощи взгляда.
Молоденькая девчушка, почти ребенок, которую мы не заметили утром, наводила порядок на полках, как это делалось каждый вечер перед закрытием магазина.
– Так как? – крикнул прямо с порога, едва успев поздороваться, Марсель, так звали друга Дюбара, старому торговцу:
Тот понял смысл вопроса.
– Это невозможно, месье, – ответил он, – приглянувшаяся вам шкатулка просто великолепна; я предпочитаю оставить ее у себя, чем продавать задешево. Возьмите вот эту, побольше, она стоит дешевле.
Предлагаемая шкатулка блестела как самовар, но была на редкость безобразна.
– Нет, эта не подойдет, – ответил Марсель, – мне нужен подарок для сестры, и я решил, что это должна быть только шкатулка, которую я выбрал утром, и никакая другая.
Во время нашего разговора малышка прервала свое занятие.
– Сестра идзин-сана – господина иностранца – знатная дама, – молвила она как бы про себя.
Звук детского голоса заставил моего друга обернуться как раз в тот момент, когда он уже доставал деньги, чтобы покончить с этим делом.
– Знатная дама… нет, моя красавица; она малышка, примерно одного возраста с вами и почти такая же красивая.
Пораженная этим комплиментом, возможно, первым в ее жизни, юная мус’ме бросила на Марселя удивленный, почти испуганный взгляд, а затем, взяв шкатулку, служившую предметом торга, подошла к отцу; между двумя действующими лицами этой сцены завязался оживленный разговор; девчушка недовольным и обиженным тоном избалованного ребенка, казалось, в чем-то убеждала отца; пристыженный старик как-то сник.
– О-Хана! – ответил он ей с укором.
Но раскрасневшийся ребенок был уже перед нами.
– Вот она! – сказала она, протягивая моему другу шкатулку, которая ему приглянулась. – Возьмите.
– Сколько, моя крошка?
– Не знаю, но мне кажется, что предложенная вами цена вполне справедлива, я в этом убеждена.
Сконфуженный Марсель колебался.
– Возьмите же, – настаивала она, – это для вашей сестры.
Видя наше изумление, старик сказал:
– Торг окончен, не смущайтесь! О-Хана так захотела: это моя дочь, отрада моей старости, она приказывает – я подчиняюсь.
Когда же мы хотели поблагодарить любезную малышку, она уже исчезла.
… На следующий день новый визит в магазин Митани; подойдя ко входу, двое неразлучных, прозванных офицерами корабля «японскими братьями», увидели очаровательную О-Хану, принаряженную, с чисто детской грацией выставляющую на витрине, перед изумленными взорами нескольких вновь прибывших иностранцев, сокровища своего магазина.
– Отец! – крикнула она торговцу, едва заметив нас, – вот и вчерашние иностранцы.
А затем с очаровательной улыбкой добавила:
– Конничи ва, идзин-сан. (Здравствуйте, господа иностранцы.)
Старик, занятый, несомненно, проверкой вчерашних счетов, поднял голову, взглянул на нас с хмурым видом через широкие очки, слегка кивнул и принялся за прерванную работу. Марсель остановился как вкопанный, почувствовав, что если в лице мадемуазель О-Ханы он имеет союзника, то для хозяина дома он стал заклятым врагом.
О-Хана, задумчивая и рассеянная, невпопад отвечала на вопросы покупателей. Нервные, порывистые движения свидетельствовали о ее плохом настроении; тревожный взгляд ее черных глаз пробежал по невозмутимому лицу старика и, подернувшись легким налетом печали, остановился на моем друге. Внезапно, возмущенная, очевидно, молчанием отца, девчушка быстро подошла к нам и, взяв нас за руки, подвела к старику.
– Гомен насаймоши, – сказала она. – Простите меня, прошу вас – присядьте, пожалуйста, и немного подождите.
Затем, позвав мать:
– Окка-сан! Окка-сан! (Мама! Мама!) Принесите чай.
За это время любители редких безделушек, обойденные вниманием, ушли.
– Саёнара! (До свидания!) – весело сказала девчушка. – Это англичане; для них у моего отца нет ничего интересного.
Послушная матушка примчалась на зов дочери: держа в одной руке кукольный чайник, принятый у японцев, другой она передала нам с низким поклоном крошечную чашечку на легком подносе из рисовой соломки.
Японские дома, подлинные шедевры столярного искусства, отличаются поразительной чистотой; драпировки сделаны из красивой бумаги, наклеенной на белоснежную деревянную раму; пол, покрытый циновками, толщиной в семь-восемь сантиметров, подогнанных друг к другу и называемых “татами”, представляет собой мягкий, нежный ковер, на который никто никогда не ступит в уличной обуви. В домах, посещаемых иностранцами, татами заменяют фантастически чистыми тонкими досками, которые моют и вытирают каждое утро. В комнате есть особое место, поднятое сантиметров на тридцать – тридцать пять над полом, на котором татами укладываются симметрично в ряд, занимая площадь в три-четыре квадратных метра. Там, вокруг «чибачи», небольшой жаровни, от которой прикуривают трубки и на которой постоянно греется вода для заварки чая, собираются члены семьи, соседи и друзья, ибо японцы проводят там время до заката солнца. Туда-то и провела нас, взяв за руки, О-Хана, подчеркнув этим, что хотела бы считать обоих французов друзьями дома.
Мы поблагодарили Окка-сан, отведали изумительного ароматного напитка, приготовленного ею, сделали ей комплимент по поводу любезности ее дочери, и я заявил главе семьи, что, посетив все магазины на улице Бентен, не нашел ни одного, равного его магазину.
Все казались довольными, но следы недоверия все еще читались на лице старого торговца.
– Покажите-ка нам ваш товар, – добавил я, – я хотел бы прямо сейчас купить партию безделушек, причем цену вы назначите сами, и я куплю все, не торгуясь.
Это заявление окончательно разгладило морщины на лице скупердяя, и он принялся демонстрировать нам свои сокровища.
Стоя на коленях перед чибачи и протянув руки к углям, покрытым золой, О-Хана рассеянно следила за нами. Отец, встав на табурет, передавал мне предметы, на которые я указывал пальцем. Я ставил их на татами рядом с девушкой; несколько раз она взглянула довольно внимательно на предмет, который я только что принес и отставил в сторону. Когда первый отбор был закончен, я понял, что от доброй половины придется отказаться, если я не хочу остаться без единого франка в кармане; вдруг, пока ее отец был в другом конце магазина, О-Хана указала мне на два-три серьезных дефекта, которых я не заметил, и быстро вытащила забракованные безделушки из уже отобранных мною.
– Коре ва мина икува? – спросил я старика. – Сколько за все?
Он водрузил на нос свои огромные очки и бросил взгляд на часть своего художественного товара, с которой собирался расстаться.
– Ток сан! – воскликнул он. – Здесь очень много.
Затем, взяв счетный инструмент, называемый “совобан”, которым пользуются все японцы, он на несколько минут погрузился, судя по выражению лица, в сложные подсчеты; наконец, положив счеты, он несколько раз провел рукой по седеющим волосам, испустил пару горестных вздохов, как-то затравленно взглянул на дочь и затем, как бы говоря “ладно, где наше не пропадало!” сквозь зубы процедил цену, которую я не понял.
– Ёросий! – радостно воскликнула девчушка, хлопая в ладоши, – прекрасно! Договорились: тридцать пять “рио”, два “бу” с четвертью… (около 173 франков).
Я подумал, что она хочет повторить вчерашнюю сцену; я уже собирался возразить, когда старый торговец объявил совершенно серьезно:
– Послушайте, О-Хана может говорить, что ей заблагорассудится, но я не сбавлю больше ни “темпо” (чуть меньше одного су).
Тогда я понял, что он назвал самую низкую цену, а дочь просто поймала его на слове.
С этого момента все более или менее значительные покупки мы делали с Марселем только здесь. Если отец О-Ханы не мог предложить нам то, что было нужно, он покупал это у своих собратьев по вполне разумным ценам. С тех пор мы стали друзьями дома. Особенно Марсель, более юный и более непосредственный, он был в полном восторге. Не проходило дня, чтобы он не проводил несколько часов в беседе с этими добрыми людьми.
– Почему вас не было вчера? – спрашивала его О-Хана, если ему случалось пропустить какой-нибудь день. – Я скучала весь вечер, и ночь мне показалась бесконечной. Вы же обещали научить меня говорить по-французски и рассказать обо всем, что происходит в вашей прекрасной стране; я жду.
Она была так прекрасна и так наивна, эта дорогая милая подружка! А ее имя, означающее по-японски “цветок”, было так приятно произносить!
Нам представили всю семью: О-Сада-сан, старшая сестра О-Ханы недавно вышедшая замуж; Уйно, ее муж, служащий японской таможни, прозванный его невесткой “Данна-сан”, господин, поскольку он перенял, доведя до клоунады, европейские манеры. Нам показали весь дом и маленький внутренний садик – высокая степень доверия – и сопроводили в одно из воскресений в “йосики”, исключительно плодородную долину в окрестностях Иокогамы, названную американцами “долиной Миссисипи”…»
Не кажется ли вам, что эта простая безыскусная картина, переданная точным и острым пером, вся наполнена светом и искренностью? С какой непосредственностью вводит он нас в частную жизнь японцев и подготавливает к восприятию нравов и обычаев страны!
Приближающаяся зима, грозившая прервать продолжительные прогулки, должна была только укрепить дружбу между молодыми офицерами и обитателями магазина с улицы Бентен.
Дни уже становились короче, а ночи длиннее; начинало холодать; уличные торговцы с тысячами своих лавчонок на открытом воздухе, придававших улице столь живописный вид во время чудесных летних ночей, с заходом солнца, ежась, спешили по домам: «ча-йа», чайные дома, установленные вдоль жилых домов и приносящие теперь дополнительные издержки, один за другим свертывали свое немудреное хозяйство. «Японские братья», уже не находя больше прежнего очарования в своих долгих вечерних прогулках, заканчивали день у своих друзей с улицы Бентен.
В то время как О-Хана переписывала под бдительным оком учителя написанные им французские слова, Дюбар беседовал с членами семейства, с О-Сада-сан, сестрой маленького «Цветка», ее старым отцом, с добрейшей Окка-сан, когда домашние заботы давали ей пару минут передышки. Он отвечал на многочисленные вопросы, касающиеся Франции, и сам задавал им бесчисленные вопросы об их жизни, традициях, обычаях, столь отличных от наших.
В тот переходный период, неизбежно следующий за революционными событиями, потрясшими страну, в Японии нередко можно было увидеть деклассированные семьи, которые, занимая до этого блестящее положение, оказались в незавидной ситуации, граничащей с бедностью. Семья О-Ханы, не принадлежащая к дворянскому сословию, смогла выстоять во время страшного урагана, вырывавшего с корнем дубы, но пощадившего слабый тростник. Скромное существование стало залогом спасения.
И все же рикошетом судьба ударила и по ней. Во времена своего расцвета могущественные «даймё», настоящие феодальные князья, кроме многочисленной домашней прислуги держали еще и разного рода ремесленников, настоящих умельцев, художников по шелку, резчиков по дереву и слоновой кости, архитекторов, рисовальщиков, живших в княжеской йосики со всей семьей, пользовавшихся большим уважением и умудрявшихся даже сделать кое-какие сбережения благодаря щедрости своих господ.
Митани-сан, отец О-Ханы, был самым искусным художником принца Садзумы; он жил в Эдо, в одном из самых богатых йосики тайгунской столицы, и надеялся спокойно дожить свои дни там, где родился, где жили его предки, когда разразилась гражданская война, а за ней и революция.
Изгнанный из своей вотчины, принц Садзума часть своей челяди взял с собой, а часть рассчитал. Митани должен был последовать за хозяином; однако возможность разлуки с семьей привела его в ужас. Он отказался от предложенной чести и предпочел расстаться с местом, нежели с родными. Поэтому он покинул Эдо и перебрался в Иокогаму, где благодаря небольшой сумме, оставленной ему отцом, и собственным сбережениям он купил домик и мало-помалу открыл при нем магазин. Его талант художника, безукоризненный художественный вкус и честность скоро вошли здесь в пословицу, и магазин Митани стал одним из самых посещаемых в городе. Его клиентура была почти чисто французской. Если не считать представителей трех великих латинских наций, то художественные изделия не пользовались у других иностранцев большим спросом; японские торговцы это великолепно знают и показывают обычно островитянам с другой стороны Ла-Манша и дикарям из тевтонской империи лишь безвкусные современные поделки, припрятывая истинные шедевры своих коллекций для тонких ценителей красоты.
В тот период, когда Дюбар находился в Японии, слава магазина Митани пошла на убыль: художник постарел и сильно сдал, зрение позволяло ему лишь передавать свое искусство дочерям. Поскольку сыновей у него не было, старшая дочь вышла замуж за правительственного чиновника, а младшая не испытывала никакой тяги к торговле, он вынужден был подумывать о том, чтобы совсем отойти от дел и спокойно дожить свои дни. Поэтому полгода назад он сообщил своим многочисленным друзьям и клиентам, что прекращает обновлять свой ассортимент, остается в городе еще на некоторое время, дабы распродать самые ценные вещи, а затем устроит широкую распродажу; после чего с женой и младшей дочерью О-Ханой отправится доживать свой век в маленьком домике в «долине Миссисипи».
– Пора, – говаривал иногда старый добряк, – спокойно пожить за счет труда целых трех поколений. О! Мы прокляли иностранцев!.. Прокляли, а надо бы благословлять. Конечно, наша прежняя жизнь была спокойнее, более обеспеченной, чем сегодня; но это была скорее жизнь домашнего животного, довольствующегося ежедневным рационом и почивающего в унизительном благополучии рабского существования. Новая эра, открывшаяся с появлением европейцев, погрузила многих несчастных в болото нищеты… Но свободный человек, с добрым сердцем, холодным умом и умелыми руками, всегда может в такой стране как наша, с ее теплым, ласковым солнцем, обеспечить себе честное и порядочное существование.
– Вы говорите совсем как сын Французской революции, папаша Митани, – заметил смеясь офицер, очарованный подобным либерализмом со стороны японца старой закалки.
Добряк, не понявший взрыва этого веселья, показавшегося ему неуместным, прервал гостя с легким раздражением:
– Не понимаю, о чем вы здесь толкуете! Каждый француз, ну прямо как наши девушки, всегда надо всем смеется; недаром считают, что рыжеволосые разбили французские армии из-за вашего легкомыслия.
Заметив, что при упоминании о разгроме на лице собеседника появился налет печали, он добавил:
– Да!.. Но я также знаю, что под вашей постоянной веселостью скрывается незаурядная храбрость, пылкий патриотизм и что однажды, причем скорее, чем думают многие, вы вновь займете в Европе место, которое вы когда-то занимали, во главе великих европейских держав.
Затем пришел Данна-сан. Данна-сан, японец новой формации, сын века, как сказали бы сегодня. Как и все государственные служащие, зять Митани выглядел европейцем и относился явно свысока к своим менее образованным соотечественникам и, в частности, родителям жены.
Откровенно восхищаясь обоими офицерами французского военного флота, явно подражая им, обезьянничая и копируя их, зачастую ни к селу и ни к городу, бравый Данна-сан обожал держать себя с ними на равной ноге, с совершенно неподражаемой развязностью. К числу его странностей можно было отнести и то, что он никогда не отвечал им, когда они обращались к нему на его родном языке, зато неизменно подвергал их настоящей пытке, беседуя на своем фантастическом англо-франко-японском жаргоне, каком-то птичьем языке, понимание которого было для них настоящей… японской головоломкой.
Несмотря на все эти недостатки, присущие людям его круга, стремящимся к мгновенной европеизации, Данна-сан был, вообще говоря, прекрасным человеком, обожавшим жену и проявлявшим по отношению к ней все знаки внимания; умным, хорошо знавшим обычаи своей страны и стремившимся к знаниям.
Именно ему, как это станет ясно из дальнейшего повествования, Морис Дюбар был обязан бесценными сведениями о старой и новой Японии, а также весьма любопытными данными о ростках разногласий, существующих в скрытом состоянии в любой стране, пережившей революционные потрясения.
Однажды вечером, когда автор «Живописной Японии» явился в магазин один, он, к своему удивлению, услышал какое-то неясное гудение. Вся семья, как обычно, собралась за столом; не было только О-Ханы. Шум доносился из ее комнаты, то усиливаясь, то затихая до какого-то неясного бормотания. Удивление, явно читавшееся на лице гостя, которое он и не пытался скрыть, вызвало улыбки на лицах хозяев дома. О-Сада встала, взяла его за руку и, приложив указательный палец к губам наподобие статуи Молчания, подвела к бумажной перегородке, за которой была комната ее сестры. Небольшое отверстие в тонкой перегородке позволяло нескромному взору проникнуть в крохотную комнатку юной девушки. Показав ему на отверстие, О-Сада жестом пригласила его удовлетворить любопытство.
Перед чем-то вроде небольшого алтаря, освещенного тонкими многочисленными свечами, сидела на корточках маленькая фигурка бонзы в ритуальных одеяниях. Перед его почти закрытыми глазами лежал молитвенник, и он, бормоча без перерыва бесчисленные строфы, как раз и производил шум, который Дюбар уловил еще у входной двери. В двух шагах позади священника, погрузившись в глубокое раздумье, в позе глубокого раскаяния стояла О-Хана.
– И сколько же времени, – совсем уж непочтительно спросил у О-Сады путешественник, – этот молитвенный жернов будет еще молоть?
– Не имею понятия, – ответила та, – с некоторого времени О-Хана стала очень набожной. Она очень почтительна со священнослужителями, и этот пробудет у нас еще долго… часа два, по крайней мере, поскольку она, к несчастью, дала ему «бу».
– Как? За один «бу» (один франк двадцать пять сантимов) больше двух часов молитв!
О-Сада рассмеялась, и оба присоединились к остальным членам семейства, казавшимся отнюдь не взволнованными занятием преподобного визитера.
Дело в том, что в глубине души японцы не отличаются набожностью. Они безразличны к религии. За редким исключением, мужчины отличаются практицизмом, а женщины просто-напросто суеверны.
Распространены два религиозных течения: синтоизм, религия древней Японии, которую исповедовали в основном коренные жители островов, и буддизм, завезенный из Индии и преодолевший бескрайние просторы Китайской империи, заселенные данниками.
О христианстве здесь можно даже не упоминать: поскольку если даже, по мнению самих миссионеров, оно и получит распространение в будущем, то сегодня число его приверженцев не увеличивается и ограничено незначительным количеством сторонников – в основном потомков обращенных святым Франсуа или Франсиско, – которых довольно трудно удерживать в рамках Евангелия.
Синтоизм и буддизм, две долгое время соперничавшие религии, по очереди поддерживаемые правительством, в последнее время, кажется, начинают сливаться, дабы не подвергнуться своего рода остракизму, угрожающему и тому и другому.
Храмы все чаще остаются заброшенными; казна священнослужителей, опустошенная во время революционных потрясений, пополняется лишь за счет незначительных воздаяний суеверных, да и то мелкой монетой, к тому же не всегда полноценной, о чем свидетельствуют торговцы, обивающие пороги некоторых храмов и без зазрения совести подающие паломникам для их воздаяний монахам и подношений богам старые, вышедшие из употребления монеты.
Культовые обряды, когда-то столь блестящие в буддистской религии, имеют теперь много общего с католическими. Служители культа в ритуальных облачениях, похожие на наших церковников, отличаются важностью, елейностью и размеренностью движений, что роднит их с бритыми и босыми представителями некоторых католических орденов.